В гостях у Джейн Остин. Биография сквозь призму быта Уорсли Люси
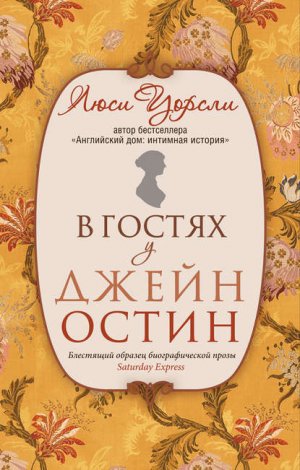
Предисловие
Достоинства мисс Остин давно вне сомнения: она сугубо домашняя романистка.
Ричард Бентли, издатель собрания сочинений Джейн Остин, 1833
Мир романов Джейн Остин, предстающий перед нами в бесчисленных экранизациях, – это мир дома, упорядоченный и уютный. Ее персонажи обитают в аккуратненьких сельских усадьбах, в аристократических загородных поместьях и в элегантных городских особняках Лондона и Бата.
Жизнь самой Джейн Остин часто рассматривают сквозь ту же призму – призму неотделимого от нее образа очаровательной, утопающей в цветах сельской усадьбы в хэмпширском Чотоне, где Джейн, ее сестра и их мать обрели наконец давно чаемый приют. Джейн поселилась в Чотоне в 1809 году, надеясь, вероятно, прожить там счастливо до конца своих дней. На деле все обернулось иначе.
Жилье было для Джейн вечной проблемой. Какое существование ей по средствам? Как ей совмещать писательство с множеством домашних обязанностей незамужней дочери и тетки? Где хранить рукописи? О собственном доме Джейн, должно быть, даже не мечтала. Оставшись после смерти отца с крохотным запасом средств, с трудом заработанных писательством, она вынуждена была ютиться в съемных комнатах или кочевать между родственниками, которые использовали ее как бесплатную няньку.
Поэтому неудивительно, что поиски дома – центральная тема творчества Джейн. Действие ее романов происходит большей частью в комнатах, обычно в гостиных, где люди беседуют, всегда беседуют. Но когда герои Джейн хотят излить душу – открыть свои подлинные чувства, – они, как правило, бегут на вольный воздух. Они вырываются из челюстей гостиных, которые удерживают их в строгих границах. «Вам опостылела благовоспитанность», – говорит Лиззи Беннет мистеру Дарси в минуту откровенности.
Молодежь, впервые читающая романы Джейн Остин, воспринимает их как истории о любви, любовных перипетиях и обретении спутника жизни. Однако счастливый дом – это еще одна ценность, которой у юных леди нет и о которой они грезят. Все главные героини Джейн лишены либо родного очага, либо родной семьи. Джейн показывает – мягко, но с ошеломляющей убедительностью, насколько трудно найти настоящий дом, надежное место, где тебя понимают и любят. Она обладает обостренным чувством домашнего благополучия – или неблагополучия.
Отсюда пошло мнение, будто сама Джейн дома была несчастлива, чем-то уязвлена или травмирована. Однако горькая правда заключается в том, что она была лишь одной из многих старых дев своего времени, которым приходилось «обживаться» в самых неподходящих, убогих и гадких местах. И это касалось не только старых дев. «Мое величайшее желание – иметь свой дом, пусть самый неустроенный», – писала невестка Джейн Фанни. Жилищем ей служила тогда тесная каюта на судне ее мужа-моряка.
Вот почему в романах у Джейн так много домов – обожаемых, потерянных и вожделенных. В ее первом изданном произведении – «Чувстве и чувствительности» – Марианну и Элинор изгоняет из обители их детства смерть в семье. Элизабет Беннет и ее сестры в «Гордости и предубеждении» будут выставлены на улицу после кончины отца. Героиню «Мэнсфилд-парка» Фанни Прайс отсылают из дома к богатым родственникам, как одного из братьев Джейн. В «Доводах рассудка» Энн Эллиот скучает по сельской жизни в Киллинч-холле, когда ее отправляют в Бат. Даже Кэтрин Морланд в «Нортенгерском аббатстве» и Эмма Вудхаус в «Эмме» – юные, достаточно обеспеченные, не преследуемые угрозой со дня на день остаться без крова, должны с умом выбирать свое будущее домашнее устройство.
В действительности, как бы неожиданно это ни прозвучало, Джейн не вынужденно вступила в «опасный возраст», не обзаведясь домом, – она осталась старой девой добровольно. Отнюдь не обделенная вниманием, она совершенно точно отказала по крайней мере одному поклоннику, и мы встретим в ее истории не менее пяти потенциальных супругов. Я думаю, что Джейн сознательно не связывала себя узами брака, так как считала, что замужество, собственность и прочный дом могут стать для нее тюрьмой.
Я надеюсь показать вам бытовую сторону жизни Джейн, с ее светлыми и темными днями, с ее семейными радостями и заботами и с теми «незначащими предметами, из коих ежедневно слагается счастье домашнего бытия», как писала об этом в «Эмме» сама Джейн. С мелкопоместных дворянок уже давно сняты обвинения в «праздности»: они либо занимались «делом», которое общество полагало достойным, вроде игры на фортепиано или чтения познавательных книг, либо тайно – как это было в семье Остин – выполняли большую часть рутинной работы, необходимой для того, чтобы на столе не переводился хлеб, а одежда была опрятной. Иногда труд ограничивался усиленным надзором за прислугой, но порой требовалось засучить рукава и попотеть самим.
Мы можем проследить жизнь Джейн по дням и даже по часам благодаря тому, что она была неутомимой корреспонденткой. Несмотря на решительное истребление Остинами всевозможных бумаг, Джейн оставила нам сотни тысяч слов, адресованных в первую очередь сестре Кассандре.
Эти письма, изобилующие мелкими подробностями быта, часто разочаровывали читателей. В них, видите ли, нет отзывов о Французской революции или оценок великих государственных дел. Одна вздорная родственница Джейн утверждала, что по ним якобы «невозможно судить о ее характере» и что «их прочтение никого с ней ближе не познакомит». Чушь, чушь, чушь! О государственных делах из них узнаешь очень даже много, умей только толковать крошечные штрихи меняющейся социальной жизни эпохи Джейн. И личность ее там тоже присутствует – твердая как сталь, энергичная, жизнерадостная и непокорная, смотря по обстоятельствам. Эти письма – драгоценный клад, спрятанный у всех на виду.
Рассматривая его под разными углами, вполне можно нарисовать портрет Джейн, способный удовлетворить интерес читателя. Мне очень любопытны упоминания о том, как она позволяла себе уклониться от исполнения женских обязанностей, чтобы урвать часок-другой для творчества. «Я часто задаюсь вопросом, – писала Джейн сестре, – как тебе удается выкраивать время для всех твоих занятий при том, что ты ведешь дом». Я тоже им задаюсь. Вынужденная «выкраивать время», Джейн старалась отбиваться от хозяйственных дел, не оскорбляя при этом родных с их представлениями о том, какой груз должна тащить на себе незамужняя тетка. Это была ее битва – тягостная, унылая, ежедневная домашняя битва из-за того, кто что обязан делать. Это битва, до сих пор изматывающая женщин. Это битва, продолжающаяся по сей день.
«Простой биограф легко и быстро справится со своей задачей, – писал брат Джейн Генри после ее смерти. – Наполненная насущными заботами, литературой и религией, ее жизнь отнюдь не была обильна событиями». Большая ошибка! В жизни Джейн были горечь и разочарования, денежные лишения и тревоги. Но и она, и ее семья большую их часть от нас утаили. Ни один из авторов так не завлекает и не интригует читателя, как Джейн: она манит, подмигивает, ускользает. «Редко, очень редко, – предупреждает нас она, – перед людьми открывается полная правда – что-нибудь да останется несказанным или неверно истолкованным».
Я как могла старалась вписать Джейн в контекст предметного мира ее жилищ, но это мой личный, отнюдь не бесспорный взгляд. Каждое поколение получает ту «Джейн Остин», какой заслуживает. Викторианцы искали и находили в ней «добрую хозяюшку», как бы ненароком, походя накропавшую несколько романов. Ее называли «святой тетушкой Джейн из прихода Стивентон-в-Чотоне». Позже биографы взялись изображать Джейн дамой, опередившей свою эпоху. «Что поделаешь, если во мне живет дикий зверь», – писала она, и сюда же подверстываются ее танцы, ее похмелья, ее приступы гнева. Это представление о Джейн наилучшим образом выражено в утверждении 1990-х, что Джейн намеренно выбрала псевдоним «миссис Эштон Деннис», чтобы заканчивать свои сердитые письма издателям так: «Остаюсь, джентльмены, и проч. М.Э.Д.[1]». «Она была в бешенстве, и подписью выражала свои чувства», – уверяет ее биограф Дэвид Ноукс.
Должна признаться, что, пытаясь вернуть Джейн в ее социальную среду и эпоху, я выступаю также с позиций завзятой «джейнистки», поклонницы и почитательницы. Я тоже искала свою Джейн и, как водится, нашла несравненно более совершенную версию себя самой: женщину умную, добрую, ироничную, но в то же время сердитую на связывающие ее обстоятельства, неустанно стремящуюся освободиться и творить. Я знаю, какой хочу видеть Джейн, и открываю свои карты. Это, говорю без стыда, история моей Джейн, где каждое слово проникнуто любовью.
Но в поисках этой моей Джейн я случайно встретила целую вереницу женщин, в расчете на которых она, видимо, и сочиняла свои романы: это гувернантка Энн Шарп, незамужняя сестра Джейн Кассандра, ее умершие родами невестки, подруги, сопереживавшие ей в издательских успехах и неудачах. Жизненный путь Джейн, такой по видимости гладкий, круто изломан запертыми дверями, перекрытыми дорогами, недоступными альтернативами. Ее великая заслуга в том, что она чуть-чуть приотворила эти двери, чтобы мы, идущие за ней следом, сумели в них проскользнуть.
Грустная жизнь, жизнь-сражение, плохо вяжется с первым ощущением от ее книг: ощущением солнечного утра в сельском пасторате, свежести вьющихся вокруг двери роз, живости грезящей о суженом героини, предощущением юного, готового закрутиться романа…
Действие первое
Солнечное утро в доме священника
Дом стивентонского священника, Хэмпшир
James Edward Austen-Leigh. A Memoir of Jane Austen, published by Richard Bentley, 1870.
1
В Стивентон
Если бы вы знали, сколько обязанностей у пастыря церковного прихода… и исполнение церковных обрядов, и забота об усовершенствовании своего жилища.
Гордость и предубеждение[2]
Для многих поколений поклонников Остин нет святее земли, чем та, что окружала дом стивентонского священника. Их часто видят у обочины, молча и задумчиво вглядывающихся сквозь изгородь в хэмпширские поля, посреди которых он стоял. В этом доме Джейн прожила 25 лет и написала три романа. Здесь все начиналось.
Всякий, кто внимательно прочтет романы Джейн Остин, заметит, что, хотя у нас перед глазами и возникает картина Пемберли, или Трафальгар-хауса в «Сэндитоне», или Донуэллского аббатства, деталями нас писательница не балует. Она делает набросок – и наше воображение его дорисовывает. Но что Джейн всегда описывает очень подробно, так это пастораты. В «Мэнсфилд-парке», например, нам куда пространнее рассказывают о будущем доме Эдмунда Бертрама, чем о самом Мэнсфилд-парке с его громадной усадьбой. Это потому, что Джейн любила пастораты. Она часто посещала гигантские имения, вроде Пемберли, и хорошо их знала. Но лучше всего Джейн чувствовала себя в пасторатах, похожих на тот, в хэмпширской глубинке, где она провела свое детство и юность с родителями, братьями и сестрой. И все же, чтобы понять, каким в действительности был ее дом, дом стивентонского священника, нужны время, терпение и доля фантазии, потому что его уже нет.
Стивентонская история Остинов начинает отсчет с конца лета 1768 года, когда тяжело нагруженная хозяйственным скарбом повозка тряслась по дорогам Хэмпшира, держа путь из близлежащего Дина в деревню Стивентон. Тогда Остины и помыслить не могли, что сотни историков и биографов станут под микроскопом изучать это заурядное событие в жизни заурядной семьи.
Несмотря на то что мистер Джордж Остин (тридцати восьми лет) и его жена Кассандра (двадцати девяти лет) прожили в браке всего четыре года, они уже были обременены немалым семейством. Оно включало в себя мать миссис Остин, миссис Джейн Ли, и трех сыновей супружеской пары: Джеймса («Джемми»), Джорджа и Эдварда («Недди»), которому не минуло еще года. Их наверняка сопровождали слуги женского и мужского пола, чьи имена и число никому не ведомы. Вероятно, среди них была Мэри Эллис, горничная Джейн Ли.
Хотя расстояние от Дина до Стивентона едва превышало милю, повозка еле ползла по проселку, «изрытому столь глубокими колеями, что легкий экипаж там бы просто застрял». Когда «разбитые сельские дороги» раскисали, добраться до захолустного городка Стивентона было делом нелегким. Редкий извозчик согласился бы вас везти. Как-то раз один из Остинов, объезжая в коляске окрестности, крикнул своему кучеру: «Наддай ходу! Гони!» – «Я и так гоню, сэр, там, где получается», – возразил кучер. «Остолоп! – раздалось в ответ. – Этак-то каждый дурак может. Я тебя прошу гнать там, где не получается».
Миссис Джейн Ли, теща, даже составила перед путешествием завещание. Будучи на седьмом десятке, она собиралась в мир иной. Ее дочь, миссис Кассандра Остин, тоже не отличалась крепким здоровьем. Ее перевозили «на пуховой перине, уложенной на какую-то мягкую мебель». Она жаловалась тогда на «недомогание», развившееся впоследствии в букет хворей и вероятную ипохондрию, которая будет то смешить, то раздражать родных. Но ей надо и посочувствовать, ведь выносить троих детей за четыре года – не шутка. Зять мистера Джорджа Остина полагал, что его сестрица и шурин не иначе как тронулись умом, коли народили такую ораву в столь краткий срок. «Не могу сказать, – писал вышеупомянутый зять, Тайсо Хэнкок, из Индии, – что известие о стремительном увеличении их семейства сильно меня радует». Проблема заключалась в том, что всех этих ребятишек, один из которых был его крестником, «следовало обеспечить».
Мистера Джорджа Остина одолевали заботы: болящая жена, еле живая теща, средний сын Джордж, подверженный припадкам. Тревожило его и финансовое положение. Отчеты о вкладе мистера Остина в лондонском банке Хора говорят, что 6 августа он снял больше 250 фунтов стерлингов, скорее всего, для обустройства нового жилья. Эта денежная сумма почти равнялась его годовому доходу.
Мистер Остин получил стивентонский приход еще четыре года назад. Однако тамошний дом священника оказался таким ветхим и обшарпанным, «вида самого удручающего», что мистер Остин и его семья поселились в съемном домике в соседней деревушке Дин. Это было убогое строение, «низкое, сырое, с крохотными каморками, где в каждой – своя высота пола». Динский мини-пасторат походил на карету, а его комнатенки – на «козлы, кузов и запятки» (козлы для возницы, запятки для прислуги).
В 1764 году, когда Джордж и Кассандра поженились и перебрались в Хэмпшир, Дин заливали дожди: «колодцы в приходе заполнились до краев, а рыбу ловили между пасторским садом и дорогой». Еще одна причуда природы, засвидетельствованная в георгианском Дине, – гигантская капуста; у соседа выросла одна «с кочерыжкой пяти футов в обхвате и весом 32 с лишком фунта». Между тем в соседнем Стивентоне ураганным февральским ветром сорвало с церкви деревянный шпиль.
Такое начало не предвещало ничего хорошего. Действительно, когда будущая миссис Остин приехала поглядеть на графство Хэмпшир, куда ей предстояло переселиться, оно показалось ей «невзрачным в сравнении с широкой рекой, плодородной долиной и благородными взгорьями, которые она привыкла созерцать в своем родном краю близ Хенли-на-Темзе». Там ее отец наслаждался сытой и спокойной жизнью священника оксфордского колледжа. Хэмпшир же, особенно по контрасту, являл собой жалкое зрелище: «из-за бедности почвы деревья в большинстве своем низкорослы». Новый приход, или «бенефиций», мистера Остина вряд ли мог дать такую прибыль от десятины, какая обеспечила бы его жене привычное существование.
Молодые люди познакомились в ученом оксфордском кругу, возможно в доме дяди Кассандры, главы Баллиол-колледжа. На то, чтобы соединить судьбу с утонченной Кассандрой Ли, требовалась некоторая доля отваги. Она была способной писательницей, представительницей древнего, состоятельного, разветвленного рода уорикширских Ли. Ее отец получил образование в Колледже Всех Душ. Ее дядюшка, доктор Теофил Ли, балагур, «сыпавший остротами, колкостями, каламбурами», более полувека возглавлял Баллиол-колледж. И даже он восхищался находчивостью и изобретательностью племянницы, называя ее «семейным поэтом» и «расцветающим гением». Позже возобладало мнение, что именно миссис Остин, а не ее муж, одарила Джейн талантом, ибо она обладала «зачатками тех блестящих способностей, средоточием которых» стала ее младшая дочь.
Носители фамилии Ли были людьми умными, хотя и себялюбивыми в баллиолевском духе. Они обожали рассказывать байки из своей долгой семейной истории (возводимой к лорд-мэру Лондона времен Елизаветы), но не без самоиронии. Их женщины не уступали в остроумии мужчинам с оксфордскими дипломами. «Вы просите меня собрать воедино все анекдоты из нашего общего прошлого, какие я только вспомню и разыщу, – писала двоюродная сестра Кассандры Ли, романистка-любительница по имени Мэри. – Так приготовьтесь же к множеству легенд, бабушкиных сказок, к привидениям и гоблинам и к утомлению от многословия». При том что в ближайшем семейном окружении Кассандры было немало духовных лиц, на верхушке ее родового древа маячили кое-какие титулы и крупные земельные владения и состояния, включая обширное аббатство Стоунли в Уорикшире.
Словом, мать Джейн Остин была незаурядной личностью. Она «восхищала своей сметливостью, – писал ее родственник, – и, что в письмах, что в разговорах, выражала свои мысли с эпиграмматической силой и точностью». Но для георгианской невесты это было сомнительным достоинством, чем и объясняется, вероятно, тот факт, что в довольно-таки продвинутом для леди возрасте двадцати четырех лет она все еще сидела в девицах. Другая георгианская леди писала в «Женский журнал» с обидой за свой пол: «Если мы дерзаем читать что-либо более обстоятельное, нежели пьесы или романы, нас называют занудами, синими чулками, педантками и т. д.» Бойкий язык считался недостатком. И все же Кассандра гордилась своим «стрелоумием», как она его называла. Она гордилась своим даром легко поддерживать разговор, шутить, парировать чужие выпады, и отец Джейн оказался тем редкостным георгианским джентльменом, который оценил этот дар так же высоко, как ценила его она.
По внешности мать Джейн была скорее яркой, чем красивой, темноволосая, «с тонкими, резко очерченными чертами, большими серыми глазами и ровными бровями». «Имея идеально аристократический нос, она с потешной придирчивостью относилась к чужим», – сообщают нам.
Однако у хрупкой и изысканной Кассандры Ли внутри был железный стержень. Она обвенчалась со своим Джорджем 26 апреля 1764 года в веселом городе Бате. Такой брак, на нижней ступени дворянства и при скудости средств, предполагал еще и деловое сотрудничество. Кассандра продемонстрировала свою решимость, прибыв на церемонию в плотной красной амазонке, которая служила ей потом расхожим платьем все первые годы супружества и из которой она «в свой срок накроила курточек и штанишек для мальчиков».
Миссис Остин не была нахлебницей и сидеть сложа руки не собиралась. Она понимала, что такому человеку, как Джордж Остин, нужна – нет, необходима – домохозяйка. Он женился не на женщине, он женился на образе жизни. Без вариантов. В самом начале «Чувства и чувствительности», первой опубликованной книги их дочери, нас знакомят с мужчиной, у которого тоже была постоянная компаньонка и экономка: сестра. Толчок всем событиям дает ее смерть, так как он не может обходиться без домоправительницы и должен найти ей замену. Случалось даже, что мистер Остин, человек отнюдь не сентиментальный, за глаза называл миссис Остин своей «хозяйкой». И действительно, кое-кто из родственников полагал, что она вышла за Джорджа только из желания обрести дом и денежную независимость. Один биограф семьи писал, что, когда отец Кассандры скончался, она «поспешила» со свадьбой, чтобы «получить возможность дать приют матери».
Словом, Кассандра была настоящей находкой: рожденная, видимо, для того, чтобы задирать свой точеный нос перед завсегдатаями оксфордских обедов, и вместе с тем готовая впрячься в хомут и пахать. В отличие от нее, Джордж Остин не столь ясно представлял себе свое место в мире.
Героиня каждого произведения, которое напишет его дочь Джейн, должна была бы «иметь несчастье, как многие героини до нее, лишиться родителей в самом нежном возрасте». Именно такую потерю пережил отец Джейн, чьи родители умерли до того, как мальчику исполнилось девять лет. Но это еще не вся беда.
Джордж Остин потерял мать, Ребекку, в младенчестве, и его отец Уильям, хирург из города Тонбриджа в Кенте, женился еще раз. Когда Уильям Остин тоже преставился, выяснилось, что, заключив второй союз, он не позаботился переписать завещание. Это дало мачехе Джорджа Остина законное основание заявить преимущественное право на наследство и откреститься от его отпрысков. Шестилетнего Джорджа и двух его сестер, Филадельфию и Леонору, выставили из родного дома в Тонбридже. Над ними взяли опеку дядюшки.
Детей приютил у себя в Лондоне дядя Стивен Остин, державший книжный магазинчик «Ангел и Библия» близ собора Святого Павла, в самом сердце издательской части Лондона… Впоследствии Джордж утверждал, что дядя Стивен держал племянников «в черном теле» с намерением «подавить естественные наклонности молодых людей»… Самому Джорджу было позволено вернуться в Тонбридж к тетушке Бетти. Там он усердно занимался и встал на ноги. Проведенная в борьбе с лишениями юность сделала Джорджа Остина нетерпимым к чужой лени и слабости. Ранние невзгоды ожесточили его, и он «не прощал бесхребетности, будь то мужчине или женщине»…
В чем Джордж не имел недостатка, так это в дядюшках. Был среди них богатый и предприимчивый «Старина» Фрэнсис Остин, адвокат в Севеноксе. Старина Фрэнсис не выпускал из виду осиротевших племянниц и племянника. Согласно семейным преданиям, сам он «вступил в жизнь с восемью сотнями фунтов и пучком гусиных перьев». Трудясь в поте лица на адвокатской ниве, он скопил «солидный капитал, жил на широкую ногу и при этом скупал все ценные земли» вокруг Севенокса. Вдобавок он приобрел двух жен с хорошим приданым и обширную клиентуру, состоявшую из первых лиц Кента. В их числе был граф Дорсет из знаменитой усадьбы Ноул-хаус, что по соседству.
Старина Фрэнсис безусловно умел делать деньги и с помощью своих связей и подарков помогал племянникам держаться на плаву. В тот век, когда люди часто умирали, не успев вырастить детей, тети, дяди и вообще многочисленные сородичи значили не меньше, чем отец и мать. «Я хочу, чтобы двоюродные братья и сестры были как родные и нуждались друг в друге», – писала впоследствии Джейн. У Остинов кузены часто вступали в брак с кузинами, и, если жена умирала, вдовец женился на ее младшей сестре. Подобрать себе пару «нужного» происхождения было непросто, поэтому не возбранялись союзы на грани инцеста.
Джордж Остин, как и его дядя, работал не покладая рук и в конце концов с удобством устроился в Оксфорде в качестве члена совета одного из колледжей. Но встретив Кассандру и надумав жениться, он вынужден был расстаться со своим членством. В совет избирались только холостяки.
И тут ему на помощь пришла его многочисленная семья. Дядюшка Старина Фрэнсис приобрел для него «бенефиций» в Дине, а его дальний, но щедрый родственник, мистер Томас Найт-старший, в 1761 году подарил ему соседний, более крупный и более зажиточный, стивентонский приход. Наделить священника «бенефицием» было все равно что дать ему долю в прибыли сети ресторанов: вот тебе приход, действуй, выколачивай из прихожан десятину.
Вы можете задаться вопросом, зачем Джорджу Остину понадобились два «бенефиция» и как ему удавалось служить в двух церквях сразу. Он мог мотаться туда-сюда, благо церкви стояли недалеко друг от друга, зато двойного дохода ему хватало как раз на то, чтобы вести господскую, или хотя бы по видимости господскую, жизнь. Впоследствии он перепоручит меньший приход второму священнику – викарию.
Это вполне устраивало Джорджа Остина, но, вероятно, не прихожан, исправно плативших десятину, но обделенных его пастырским вниманием. Именно по этой причине в конце восемнадцатого века англиканская церковь захирела, уступив влияние всяким сектам наподобие методистов. Находились ушлые молодые викарии, прозванные «скакунами», которые объезжали по воскресеньям кучу церквей, в каждой оттарабанивали проповедь, а от других обязанностей как могли отлынивали. Однако Джордж Остин с двумя его смежными приходами едва ли поступал бесчестно или не по обычаю. Большинство понимало, что из-за оттока населения в города в сельских приходах стало слишком мало обитателей, чтобы содержать священника и его семью.
Но у георгианского священника были и другие источники дохода. Когда в 1768 году Остины перебирались в Стивентон, окрестные луга и пашни привлекали их не меньше, чем дом. Стивентонский приход имел три мили в длину и три четверти мили в ширину. Пасторат включал в себя дом и три акра «церковной» земли, урожай с которой целиком поступал священнику. Прежние общинные поля Стивентона были «огорожены» и превращены в крупные частные фермы, что избавляло Джорджа от тягостной необходимости взимать повинность с каждой отдельной семьи. Он просто забирал 10 процентов с денежной прибыли соседей-фермеров. Тот факт, что он получал свою долю непосредственно из рук в руки, а не через землевладельца, несколько повышал статус мистера Остина. Однако сама десятинная система ставила его «хлеба» в прямую зависимость от «хлебов» земли.
«Огораживание» и колоссальная ломка сельского уклада георгианской Англии, кого-то обогатившие, а кого-то разорившие, будут присутствовать потом в романах Джейн – пусть неявно, но ощутимо. В ее произведениях все великие драмы той эпохи – Французская революция, промышленная и аграрная революции – разыгрываются за сценой. Взамен она показывает нам те неуловимые перемены, которые произошли под их влиянием в сердцах, умах и распорядке жизни обычных людей.
В стивентонском приходе, где предстояло родиться Джейн, числилось всего тридцать дворов. Если полагаться на свидетельство одного из предшественников мистера Остина, с тамошней паствой особых хлопот не предвиделось, так как в Стивентоне не было ни папистов, ни диссидентов, ни каких-либо «сквайров, эсквайров или вообще важных персон». Крестьяне растили репу и фасоль, а крестьянки работали дома – пряли лен или шерсть овец, бродивших по хэмпширским холмам. Порой они выходили окучивать репу. По рассказам одного путешественника, хэмпширские крестьянки были «стройные, светловолосые, круглолицые, розовощекие и необычайно веселые». При виде незнакомца они «все уставились на меня, а в ответ на мою улыбку так и покатились со смеху…».
Но чаще всего им было не до смеха. Тот путешественник, писатель Уильям Коббет, никогда не видел «более холмистой местности» и ни в одном другом уголке Англии не встречал «более обездоленных трудяг, чем здесь…». Плуг, отменно пахавший в Суффолке, «нипочем не брал окаменелую почву вокруг Стивентона…». Среди этой нищеты и невежества многие молодые священники, попавшие, как и мистер Остин, из Оксфорда в Хэмпшир, мучительно страдали от непривычно тяжелых условий жизни и от одиночества. Так, молодой священник в ближайшем Даммере «променял бы целый мир на кого-нибудь из оксфордских друзей и тосковал по ним, словно голубь».
Дома в Стивентоне стояли вразброс, «каждый при своем саде». Пообщаться и посудачить люди собирались у старого клена на деревенской поляне. Дом священника, в соответствии с более высоким положением его обитателей, замыкал деревню, располагаясь на перекрестке Церковного спуска и Лягушачьего заулка. Сегодня там совершенно безлюдно: все селение, как и дом священника, давно стерто с лица земли.
Пасторат лежал «в неглубокой низине, окруженной травянистыми склонами с россыпью вязов». Увы, на дне такой чаши было не избежать подтоплений. У Коббета хэмпширский пейзаж выглядит почти зловещим, даже в августе: «облака идут и наползают на холмы, оседают влагой и утекают, потом опять выбиваются на поверхность ключами, которые превращаются в реки». Так что в 1768 году повозка Остинов остановилась перед зданием столь же сырым, сколь и внушительным.
Обнаружены следы того, что на месте пастората еще в четырнадцатом веке существовало жилье. Однако центральная часть строения датировалась концом семнадцатого века, когда оно представляло собой «две клети» с погребом. Хотя в 1768 году пасторский дом подновлялся, это было не слишком основательное сооружение из смеси местных материалов: «кирпича, облицованного кирпичной же плиткой, за исключением южной стены, крытой штукатуркой и шифером». О тонкой отделке вообще речи не шло. «Стыки стен и потолков не украшали карнизы», «балки, державшие на себе верхние этажи, вторгались в нижние комнаты во всей своей нагой простоте, прикрытые лишь чахлым слоем краски или побелки». Окна были старомодные, с мелкими переплетами, кроме одного «эркера-нашлепки» (какие терпеть не мог генерал Тилни в «Нортенгерском аббатстве»), приделанного к заднему фасаду. Поскольку владелец дома мистер Томас Найт не жил в нем и не получал с него арендной платы, а Джордж Остин предполагал жить в нем временно, пока служит приходским священником, ни у кого не возникало побуждения наводить там лоск.
Пасторские дома часто имели неряшливый, словно заплатанный вид, и дом в Дине следовал общему правилу. Священникам обычно хватало достатка на то, чтобы пристроить лишнюю комнату или окно-фонарь, но капитальное переустройство было им не по карману. Однако Джордж Остин и многие его собратья по сану считали делом совести по мере возможности подправлять свои жилища за собственный счет, так как пользовались ими по доверенности до передачи преемникам.
Ситуация, когда дом и земля не принадлежат семье, а находятся в ее распоряжении по чьей-то милости, будет повторяться в романах Джейн. Она всегда симпатизирует тем землевладельцам, которые не скупятся на вложения, стараются для людей, а не чахнут над златом. Ее роман «Мэнсфилд-парк», более других завязанный на владении и управлении, на самом деле о том, кто лучше обихаживал Англию и кто поэтому достоин наследовать ее. Одна из героинь «Нортенгерского аббатства» мечтает о «непритязательном уюте приходского домика», ведь человеком «благородным» делало вас не ваше огромное поместье, а ваши качества: радушие, порядочность, образованность.
Мистеру Остину предстояло стать хорошим управляющим пасторатом. Он год за годом что-то «добавлял и совершенствовал», расширяя дом, «пока тот не удостоился звания весьма благоустроенной семейной резиденции». Изображаемые Джейн священники, доктор Грант и Эдмунд Бертрам, равно как и жуткий мистер Коллинз, будут постоянно поглощены насущной по тем временам заботой об «усовершенствовании жилья». Аристократы усовершенствовали свои загородные поместья и парки, священники усовершенствовали свои пастораты. Это была своего рода обязанность: как говорил мистер Коллинз, священник «ни в коем случае не вправе пренебрегать комфортом своего жилища».
И Джордж Остин оказался на правильном месте в правильное время. На протяжении его жизни сельское духовенство все укреплялось и укреплялось, так как технические новшества в сельском хозяйстве привели к увеличению прибыли и с церковных, и с десятинных земель. Вследствие этого церковная стезя приобретала все большую привлекательность в глазах младших сыновей помещиков. Один из внуков мистера Остина, ставший, благодаря удачному стечению обстоятельств, вполне обеспеченным помещиком, пошел тем не менее по стопам деда, приняв стивентонский приход. Но старый дом его не устроил. Около 1825 года здание было снесено и возведено заново на более высоком фундаменте, избавленное от назойливых затоплений.
Перед пасторским домом, в бытность там родителей Джейн, имелась подъездная дорожка, или «дуга», для разворота экипажей – важный атрибут благородства. Рядом был пруд и «полоса каштанов и елей». С солнечной южной стороны дома, за глинобитной стеной, раскинулся «один из тех старомодных садиков, где вперемежку росли овощи и цветы».
Само здание представляло собой трехэтажный короб с двумя флигелями сзади. В 2011 году при раскопках там было найдено более тысячи гвоздей, разрешивших долгий спор относительно того, какой из двух абсолютно разных набросков дома ближе к реальности: тот, на котором он больше.
Когда Остины вошли внутрь и начали отворять двери, они обнаружили на первом этаже две гостиные, «чистую» и «простую», две кухни, а также кабинет мистера Остина. Один из Остинов повторил потом, что парадная дверь открывалась прямо в «простую» гостиную, где можно было застать миссис Остин «с иглой в руке, занятую шитьем или штопкой». Однако раскопки 2011 года, проведенные под руководством Дебби Чарлтона, показали, что между парадной и задней дверью тянулся коридор, по которому вы могли пройти прямиком в сады. «Чистая» гостиная, или столовая, площадью чуть более семнадцати квадратных футов, располагалась слева от двери и двумя своими многостворчатыми окнами выходила на подъездную «дугу». Две кухни с правой стороны именовались «задняя» и «передняя». В первой занимались серьезной стряпней, в то время как «передняя», видимо, служила буфетной, где хранилась посуда и готовили утренний чай.
Раскопки 2011 года, когда на свет божий было извлечено множество хозяйственных мелочей, позволили частично восстановить бытовую среду, в которой росла Джейн. Это, к примеру, осколки семейного фарфора с синим ивовым узором, не китайского, а британского – не столь дорогого. Это чайные чашки без ручек, подобные пиалам, использовавшиеся в комплекте с блюдцами более глубокими, чем те, к каким привыкли мы. В число находок входили: колпачок для тушения свечей, подставка под яйца, девять винных бутылок и фрагменты семейного обеденного сервиза из кремового веджвудского фаянса. Этот домашний продукт гончарного ремесла был модным, но доступным. «Достойно изумления, насколько быстро он проник чуть ли не в каждый уголок земного шара», – писал изобретатель кремового фаянса Джозайя Веджвуд в 1767 году. Интересно прикинуть, какие из обнаруженных предметов могут иметь отношение к счету, выставленному мистеру Остину местным поставщиком домашней утвари: не являются ли, к примеру, черепки тяжелого керамического блюда остатками той самой «миски для пудинга», которую он купил за два шиллинга шесть пенсов в Бейзингстоке в 1792 году? При виде этих простых вещей из обыденной жизни странно екает сердце, потому что для меня они – прообраз того, как впоследствии Джейн при помощи воображения будет из обыкновенных людей и их жизней лепить своих необыкновенных персонажей.
Самой приятной комнатой пасторского дома кажется кабинет мистера Остина с открывающимся в сад окном-фонарем. Это была его «исключительная собственность, отгороженная от всей хозяйственной суеты». Хотя там стояли хепплуайтовские шкафы с сотнями книг, мистеру Остину не хватило чванства переименовать кабинет в «библиотеку», как поступили бы многие его более тщеславные собратья. Кабинет имел то преимущество, что прихожане могли попадать в него, минуя другие комнаты. «Тяжелая поступь» в коридоре оповещала домочадцев о присутствии в доме чужих.
Наше представление о доме как о территории отдыха и общения было совершенно чуждо георгианцам, которые занимались тяжелым домашним трудом. Каких физических затрат требовало одно наведение в таком жилье чистоты и порядка! Стирка, готовка, уборка: все это отбирало уйму сил и времени.
К тому же мистер Остин фактически разделил со своими прихожанами их сельскохозяйственную повинность. «В тех краях, – изрек в 1802 году член парламента, – каждый приходской священник – в определенной степени земледелец; он, ex officio[3], отчасти фермер». Помимо церковной земли мистер Остин распоряжался фермой Чиздаун в 195 акров и пытался извлекать из нее прибыль. Поэтому Остины жили сельскохозяйственными циклами, от праздника стрижки овец до праздника урожая, и наоборот.
«Фактотум» мистера Остина Джон Бонд особенно радовался «отдохновению» ежегодного праздника урожая. Это он заведовал делами на арендованной мистером Остином ферме. Джон Бонд не учился грамоте, но умудрялся вести отчетность, рисуя на дубовом столе ему одному понятные закорючки. По деревенскому обычаю он обвенчался со своей женой Энн только после рождения их первой дочки. Но малютка Ханна вскорости умерла; отпевал ее мистер Остин. Хозяин и слуга со временем подружились. Однажды мистер Остин и его сосед фермер вскладчину купили стадо овец и, «дабы разделить его по справедливости, порешили отпереть загон и половину стада, которая вывалит оттуда первой, считать пасторской». Джон Бонд незаметно сделал так, чтобы первой выбежала самая лучшая овца. «Я заприметил ее сразу, как вошел, – рассказывал он, – и когда мы отворили загон, я хвать ее палкой, она и деранула вон». Мистер Остин и Джон Бонд, пастор и хват.
И миссис Остин могла по праву называться фермершей. Едва оправившись от путешествия на пуховой перине, она взяла на себя управление маленьким предприятием, которое обеспечивало ее многочисленную семью пропитанием с церковной земли и огорода. Хозяйственные постройки, сгрудившиеся справа, или к западу, от пасторского дома, включали прачечную, «мотыжную», амбар, пивоварню и сенной сарай. Имелись вдобавок птичник и маслобойня с сыроварней. («Я была невозмутима, как сливочный сыр», – великолепно выразится потом Джейн.) В птичнике поселились индюшки, утки, куры и цесарки, а миссис Остин очень привязалась к своим коровам, которых выпасала на церковном лугу. «Моя олдернейская малышка доится неплохо и дает столько масла, что нам не съесть». Со временем она приобрела быка и не меньше шести коров, но мелких. «Если бы вы их увидели, то обхохотались бы, – пишет она, – потому что они чуть крупнее осла».
Еще миссис Остин обожала сама работать в саду. «Согреваются члены, кровь струится быстрее, // Как в саду помашу я мотыгой своею», – писала она в шуточном стишке, которые любила сочинять. Она умело выращивала картофель, ввезенный из Нового Света и считавшийся в Хэмпшире восемнадцатого века иноземным новшеством. Как-то раз она угостила им одну прихожанку, и та ела да похваливала. По рассказам, миссис Остин посоветовала ей развести картофель в собственном огороде, но предложение было с ходу отвергнуто: «Нет, нет, картошка хороша для вас, дворян, она ведь наверняка ужасно дорого обходится». Жены священников были для прихожан благодетельницами, раздающими советы и подарки. Жена викария соседнего прихода умудрилась привить от оспы сотни крестьян, делая передышку только «в пору уборки урожая, потому что работнику было бы неспособно провести несколько дней страды с распухшей рукой».
Впоследствии члены семьи Остин вошли в своего рода сговор с целью скрыть свое скромное происхождение и изобразить жизнь своей знаменитой тетушки гораздо более легкой, более изысканной, более праздной, чем она была в действительности.
«Я думаю, нелегко будет раскопать документы, тщательно припрятанные от нас предыдущим поколением», – писал один из них предполагаемому биографу. Внучка миссис Остин Анна (сама даровитая писательница) подарила нам знаменитое описание своей бабушки, коротающей часы в Стивентоне. У Анны миссис Остин всегда отдыхает, «восседая» в «передней гостиной», готовая в любую минуту отложить шитье и встретить посетителя.
Однако в реальности она скорее крутилась во дворе, надзирая за дойкой коров или засыпкой амбара. Даже навещая богатейшие поместья, миссис Остин особенно интересовалась такими практическими вещами, как обязанности прислуги и качество сыра. Прибавьте множество неудобств, и вы получите нелегкую трудовую жизнь.
У Остинов была хотя бы собственная вода, так что не приходилось, как многим их соседям, таскать ее в ведрах издалека. В поле до сих пор сохранились остатки колодца, возможно в те времена оборудованного помпой. Белье стиралось раз в неделю приходящей прислугой, вроде «мамаши Бушелл» или «благоверной Джона Стивена». («По виду ее кажется, будто все, к чему бы она ни прикоснулась, навеки замарано, – писала Джейн, – но кто знает?») В похожем георгианском хозяйстве преподобного Вудфорда, автора известного дневника, большая стирка устраивалась раз в пять недель, когда для помощи собственным слугам священника на два дня приглашали двух профессиональных прачек. Вместе с глажкой работа занимала целых четыре дня. У Остинов была пара «удобных стульчаков красного дерева» – стульев с дыркой в сиденье, чтобы облегчаться в ночной горшок с большим комфортом. И все же воду для мытья приходилось носить из колодца в дом вручную, и эти ночные горшки, как ни крути, нельзя было не опорожнять.
Однако в солнечный день пасторат мог выглядеть прелестно. Окно кабинета мистера Остина смотрело прямо на «зеленую тропинку, окаймленную клумбами с земляникой» и ведшую к солнечным часам. И в любом уголке сада вас настигало «поскрипыванье» флюгера, вертевшегося на высоком белом шесте «под дуновением летнего ветерка». Не всем это нравилось: кое-кто из гостей жаловался, что «стоны» флюгера совершенно не дают заснуть.
Позади своего нового дома Остины выгородили и много лет возделывали два сада, один «с вишнями и другими плодовыми деревьями», другой – «квадратный, обнесенный стеной, – с огурцами». Здесь стояли деревянные щиты, создававшие уют огурцам и дыням. «Я прекрасно помню этот солнечный огуречный садик, – вспоминала впоследствии внучка миссис Остин. – Сколько там было зелени, ноготков и прочей всячины. – Чудо! Мы никогда больше не видели ничего подобного». Этот романтический, элегический тон частично объясняется тем, что дом детства Джейн Остин снесен. Жизнь в его лоне не всегда была столь солнечной и привлекательной.
Но все сады пастората затмевал самый дальний, южный – зеленая, устланная травой терраса, возможный прототип сада Кэтрин Морланд в «Нортенгерском аббатстве». И сейчас в лучах низкого солнца вы можете видеть на косогоре стертые очертания его ступеней. В романе девчонка-сорванец с восторгом «скатывается по зеленому склону холма позади дома». Маленькие Остины, надо думать, делали то же.
Обосновавшись в пасторате, Остины поняли, что гости из внешнего мира к ним не зачастят. Время текло медленно и плавно. Миссис Остин привыкла к сонному деревенскому бытию. В Лондоне, писала она, все постоянно куда-то бегут: «Это грустное место, я бы ни за что не согласилась там поселиться: не успеешь ни Богу, ни людям послужить».
Произошли и перемены. Мать миссис Остин правильно угадала, что часы ее сочтены. После переезда она промучилась всего несколько дней. Ее место заняли новые дети, присоединившиеся к катанию братьев по «зеленому склону». Генри родился в 1771 году. В 1773-м на свет появилась первая девочка, названная в честь матери Кассандрой. Мрачный зять мистера Остина узнал об этом «с прискорбием», потому что, как он писал, мистеру и миссис Остин «легче умножить потомство, чем что-то ему дать». Но в Хэмпшире его наставлениями пренебрегли, потому что следом, в 1774 году, родился Фрэнсис, или Фрэнк.
За ним в этот мир пришла Джейн.
2
Входит Джейн
У нас еще одна девочка.
Мистер Остин (1775)
Через семь лет после водворения в новом доме, в середине декабря 1775 года, миссис Остин в седьмой раз ожидала разрешения от бремени. Она уже проносила ребенка на целый месяц дольше, чем рассчитывала. Но этот хотя бы был маленьким: она ощущала себя «более легкой и подвижной», чем «в прошлую тягость».
В Хэмпшире стояла на редкость суровая зима. Натуралист Гилберт Уайт, живший неподалеку в деревушке Сельбурн, засвидетельствовал, что 26 ноября наступила «очень темная пора: с трех часов пополудни в доме сгущался мрак». В воздухе висела влага, «обильно оседающая на стенах, дверях, зеркалах и т. д., стекающая там и сям ручейками». Ноябрь перешел в декабрь, а ребенок еще не родился. 13 декабря Уайт заметил, что на прудах «стал лед: мальчишки катаются», и он слышал, как «крестьяне, которые выходят во двор задолго до зимней зари, толкуют о нешуточных морозах». Приближалась великая стужа.
Накануне родов миссис Остин обычно призывала к себе на помощь кого-то из родственниц – либо сестру мистера Остина Филадельфию, либо его же кузину. Однако в этот седьмой раз таких приготовлений, похоже, не было. Возможно, миссис Остин послала за местной повитухой, но беспокоить дорогого доктора из Бейзингстока, уж конечно, не сочла нужным. По прошествии лет она сама помогала при родах своим невесткам, и потом, соседки-то на что? В близлежащем Мэнидон-парке местные женщины поклялись беременной Джейн Бигг, тоже пасторской жене, что непременно придут «подсобить ей в ее трудах». Я думаю, что приходской староста писал нижеприведенные строки в надежде ободрить будущих мамаш, но его поэтический опус звучит как тревожное предупреждение:
- Все жены прихода, добры и послушны,
- На зов ваш откликнутся единодушно.
- Столь часто, сколь надо, их сплоченная рать
- Ваших деток чудесных придет повивать.
Суббота 16 декабря прошла в Стивентоне спокойно. Ночью, когда миссис Остин наконец «схватило», это случилось «без каких-либо предупреждений».
Тем не менее «все скоро счастливо закончилось, – с облегчением сообщал мистер Остин. – У нас еще одна девочка, игрушка, а потом и подружка для Кейси. Ее будут звать Дженни». В этом письме мистера Остина новость о рождении Джейн небрежно поставлена в ряд с хозяйственными делами, как будто пришествие в мир было не таким уж великим событием; беспокойство вызывали сильные морозы, из-за которых могли сорваться местные соревнования по пахоте. Но при всем при том ласковые, уменьшительные имена, которыми он называет детей, предположение, что новая малышка станет «игрушкой» для старшей сестрички Кейси, говорят о его превращении из строгого сухаря прошлых десятилетий в нормального, «нежного» отца. Мистер Остин любил своих детей и не скрывал этого. Почти все его дети будут неизменно отзываться о нем с обожанием.
Он также сообщил, что его супруга – «благодарение Господу» – вполне оправилась. Настрадавшейся роженице наверняка дали подкрепиться «кодлем», своеобразной алкогольной болтушкой. Одна георгианская поварская книга предлагает такой рецепт «кодля»: овсяную муку, гвоздику, полпинты пива и стакан джина смешать с водой и прокипятить. Миссис Остин и ее дитя лежали на уже знакомой нам пуховой перине, под балдахином супружеского ложа. Обстановку комнаты дополняли туалетное зеркало и прикроватный ковер, но вряд ли что-то еще, возможно комод.
Тогдашние доктора пытались убеждать женщин не следовать бабушкиным заветам и не пролеживать неделями в укупоренной кровати, набираясь сил после родов. Они ратовали за обилие в спальне света и воздуха. «Шторы не должны быть плотно задернуты, – советовали они, – чтобы миазмы свободно улетучивались». Но в сельском Хэмпшире, при таких аномальных холодах, разумеется, все делалось по старинке: «полог кровати был опущен и зашпилен, каждая щелочка в окнах и дверях… задраена, включая замочную скважину», окна «защищены не только ставнями и шторами, но вдобавок одеялами». Самой миссис Остин запрещали «высовывать нос из постели, дабы не простыла» и, возможно, «то и дело давали хлебнуть горячительного из носика чайника». Впоследствии новая дочь миссис Остин расчихвостит женщину, не сумевшую правильно обустроить свое спальное место: «У нее нет халата, в котором садиться; полог совсем тонкий». Холод георгианского захолустья легко проникал внутрь дома. Случалось, что «на господской половине вода замерзала в лоханях через несколько минут после ее залива». Надо надеяться, что миссис Остин и малютка Джейн пребывали в тепле и уюте.
Все, должно быть, облегченно вздохнули, когда ребенок наконец родился. «Вы, конечно, давно ждали вестей из Хэмпшира, – писал мистер Остин родственникам, – и, наверное, недоумевали, как это мы в наши преклонные лета ухитрились так обсчитаться». Миссис Остин «не сомневалась, что сляжет месяцем раньше».
Действительно ли они «так обсчитались»? Мистер и миссис Остин, имевшие уже шестерых детей, были достаточно опытны. Вполне вероятно, что они вовсе не ошиблись в расчетах и что Джейн входила в те пять процентов младенцев, которые проводят в материнском чреве больше сорока трех недель. Такое перенашивание опасно тем, что плацента стареет, плод перестает получать нужное питание и усыхает. «Припозднившиеся» дети часто бывают тщедушными (как Джейн), слабыми и в первые недели жизни подвержены хворям. Мамаши часто называются их «трудными», так как они требуют особой заботы.
В книге советов для горничных-нянь говорилось, что новорожденного младенца «очень удобно положить на подушку, откуда ему не грозит упасть» и что «кто-то должен сидеть с ним рядом, развлекать его и забавлять по мере необходимости и при малейших признаках беспокойства брать на руки». Забавляла ли миссис Остин свою крошку, пока они лежали вместе в постели в эти первые недели жизни Джейн? Или она не испытывала такой потребности? У тщедушной, припозднившейся Джейн всегда будут непростые отношения с матерью. В ее романах целая галерея никчемных мамаш: бестолковые миссис Дэшвуд и миссис Беннет, нерадивая миссис Прайс и отсутствующие миссис Вудхаус и миссис Элли-от, которые умерли до завязки истории. И вероятно, истоки этого разлада следует искать там – в самом начале.
В сельском Хэмпшире маленькую Джейн безусловно «свивали», то есть туго обматывали тканью, чтобы не переворачивалась. В связи с этим исследователи георгианских обычаев любят цитировать новаторскую книгу Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) в доказательство того, что практика «свивания» уходила в прошлое. Руссо якобы произвел революцию в воспитании детей своим заявлением, что младенцы должны расти на свободе, а не в тесном коконе, и вскармливаться матерями, а не служанками-кормилицами. В моду вошли «приютки», рубашонки на завязочках, придуманные в лондонском Приюте для подкидышей, где требовалось «без труда и проволочек» переодевать кучу детей. Но зябнувшей в Хэмпшире миссис Остин, обремененной заботами еще о шести отпрысках, было не до того, чтобы читать такого модного столичного автора, как Руссо, или закупать фасонные детские одежки. Если она и черпала свои знания из книг, то скорее из «Руководства для нянь» 1744 года издания, написанного в форме назидательного диалога между напыщенным хирургом и подобострастной нянькой («Я премного благодарна вам за советы, сэр, и буду исполнять ваши указания»). Этот хирург задолго до Руссо утверждал, что «материнская грудь – жизни суть», и тоже сомневался в пользе свивальников, предлагая вместо них «лоскутья» (подгузники) и одеяльца. Но благоговейно внимающая хирургу нянька, вероятно, знала, как теперь знаю и я (благодаря друзьям, занимающимся исторической реконструкцией), что тугое пеленание успокаивает и усыпляет ребенка. Оно просто-напросто практично. Скорее всего, с Джейн управлялись по-старому.
В январе и феврале 1776 года, то есть в первые два месяца жизни Джейн, держались трескучие морозы. В течение полумесяца ни в коляске, ни верхом не удавалось проехать даже по самым лучшим дорогам. Для расчистки главного подъезда к Оксфорду были наняты 217 рабочих, а потом образовалась ледяная кора, «очень опасная, будто катишься по стеклу». В Лондоне сковалась льдом Темза. Непогода так свирепствовала, что только 5 апреля 1776 года Джейн понесли крестить в отцовскую церковь, до которой было рукой подать.
Сегодня стивентонская церковь стоит в конце тихой дорожки, бегущей вверх через поля, потом через рощи, где весной царствуют примулы. «Главное украшение Стивентона, – рассказывает племянник и первый биограф Джейн, – его живые изгороди. Живая изгородь в тех краях – это не тонкая скучная полоска кустарника, а беспорядочно раскиданные купы деревьев… под их сенью расцветали самые ранние примулы, анемоны и дикие гиацинты». Тропа, окаймленная такими изгородями, – «Церковный спуск» – поднималась от пасторского дома к каменной церкви двенадцатого века, где служил мистер Остин. Для Джейн станут родными и росший при церкви древний, вроде бы девятивековой тис, и огромный церковный ключ.
За церковью располагалась усадьба Дигвидов, обитавших там более ста лет. Их дом был перестроен из нормандского жилища, разобранного в 1560 году, и в него был вмурован кусок англосаксонского креста девятого века. На самом деле имение принадлежало патрону стивентонского пастората мистеру Найту из Годмершэма, что в Кенте, а Дигвиды его арендовали. Четверо их мальчиков и дети Остинов играли вместе.
Мистер Томас Найт, один из владетельных покровителей Джорджа Остина, похоже, родился в рубашке. Богатые наследства сыпались на него словно из рога изобилия. Унаследовав первое имение, он поменял свое родовое имя Броднэкс на Мэй. Затем, когда от троюродной сестры Элизабет Найт из хэмпширского Чотона ему перешло второе имение, Мэй переименовался в Найта. Поскольку каждая смена фамилии заверялась актом парламента, кто-то из парламентариев пробурчал себе под нос: «От этого господина столько беспокойства… что я бы выдал ему акт, наделяющий его правом называться хоть чертом».
Ввиду того что мистер Найт владел большей частью приходских земель, а жил далеко, в Кенте, мистер Остин являлся представителем не только Бога, но и местного землевладельца, а следовательно, самой важной персоной в деревне, и будущая мисс Остин безусловно не могла не привлекать к себе внимания.
Хотя поколение Джейн было первым поколением Остинов, родившимся в Стивентоне, у ее первого биографа эта местность предстает во вневременном измерении. Он пишет:
«В уединенности церкви, далекой от деревенского шума… есть что-то торжественное и приличествующее месту упокоения безмолвного праха. Нежные пурпурово-белые фиалки раскинулись ковром у южной стены. Только представьте себе, в течение скольких веков предки этих маленьких цветочков населяли сей нетронутый, солнечный уголок, и подумайте, как мало найдется семей, которые могут похвастаться столь же давним правом на свою землю».
Устланная цветочным ковром Англия Джейн Остин, хорошо известная нам по бесчисленным голливудским экранизациям, взята не из ее тонких, язвительных романов, где таких приторных описаний нет и в помине. Она – плод воображения сентиментального писателя, викторианского племянника Джейн. Образ идиллического Стивентона с его «волнистыми лугами» и «великолепными вязами» создан стараниями Джеймса Эдварда Остина-Ли, сына старшего брата Джейн Эдварда. Взявшись за перо через полвека после кончины Джейн, он спешил удовлетворить вдруг проснувшийся интерес к неизвестным деталям жизни своей знаменитой тетушки. Джеймс Эдвард рисует выразительную, очаровательную картину, но в ней чего-то недостает – и много чего. В день своего крещения младшее чадо семейства Остин в промозглой глубинке было встречено без энтузиазма. О грязи, скуке и тяготах сельского житья-бытья Джеймс Эдвард Остин-Ли предпочел не распространяться.
После того как семья спустилась с холма с окрещенной Джейн на руках, той недолго оставалось наслаждаться относительным домашним комфортом. Так же как ее братьев и сестру, Джейн отправили к няне в деревню. Ее мамушкой, по-видимому, стала Элизабет Литлворт с Чиздаунской фермы. Эта женщина не была кормилицей в традиционном смысле слова. Миссис Остин держала детей при себе до отлучения от груди, но потом отдавала няньке и не забирала назад, пока они не начинали бегать. Миссис Литлворт, вероятно, кормила младенцев «тюрей» – «хлебом, размятым в кипящей воде и подслащенным коричневым сахаром». На Чиздаунской ферме царила суматоха, потому что у миссис Литлворт росли две собственные дочки: Энн, или Нэнни (будущая горничная Джейн) и Бет, «подружка» старшего брата Джейн Эдварда. Нэнни и Бет считались в семье Остин своими. Когда Фрэнку, братишке Джейн, пора было идти спать, но он хотел, чтобы с ним посидели, то просовывал голову в дверь и говорил: «Бет, Фрэнк бай-бай ждать», – с литлвортовским хэмпширским акцентом. То, что Остины писали «Норт-хенгерское аббатство» вместо «Нортенгерское аббатство», позволяет предположить, что они произносили «Х» по-хэмпширски, с придыханием.
По семейной традиции, кто бы из Остинов-младших ни находился у Литлвортов, к «нему или к ней ежедневно заглядывали родители, то порознь, то вместе, и малюток часто приносили в пасторат». И все же фермерский коттедж «был и должен был оставаться для них домом до той поры, пока они не научатся бегать и говорить». Георгианская мать, препоручая уход за своим младенцем посторонней женщине, поступала так вовсе не из каприза и не от бессердечия. У георгианцев было принято привлекать к уходу за детьми широкий круг лиц, и родители часто «делили труды с сестрами и братьями, бабушками и дедушками, нянями и служанками». Кстати, заведенный у миссис Остин обычай отдавать совсем еще крошек в чужие, но умелые руки вполне себя оправдал. В отличие от многих семей восемнадцатого века, где антисанитария и болезни уморили катастрофическое множество новорожденных, Остины, насколько известно, не потеряли ни одного.
Однако такой практичный подход к воспитанию означал, что связь между миссис Остин и ее потомством была несомненно ослаблена. Когда сама миссис Остин отлучилась из Стивентона, ее муж писал, что дети это едва заметили. Они «обращают всю свою детскую нежность на тех, кто рядом и добр к ним». Это, «может, не слишком приятное открытие для любящего отца, – размышлял мистер Остин, – но так, видно, устроено мудрым Провидением для счастья ребенка».
Самые ранние биографы Джейн, члены ее семьи, старательно упирали на то, что жизнь в пасторате протекала в согласии, достатке и полной гармонии. Однако позже историки подметили, что вынянченная на стороне, а потом отосланная в школу, Джейн почти пять из своих первых одиннадцати лет провела вне семьи. Это проливает новый свет на легендарную семейственность Остинов и, возможно, в какой-то степени объясняет тот холодок, который чувствуется в отношениях Джейн с матерью.
Миссис Остин произвела на свет своего последыша, Чарльза, 23 июня 1779 года. Ей было сорок. При том что она пережила восемь родов, ей удалось по-настоящему умно разнести их во времени и сберечь тем самым здоровье. Теперь состав семьи определился окончательно. Когда Джейн вернулась с Чиздаунской фермы к родным, она заняла среди них самое скромное место – место каплюшки, куклы старшей сестры Кассандры в игре в «дочки-матери». Она была круглощекая, чуть что заливалась румянцем и словно в рот воды набирала, «прячась в молчание». Впоследствии Джейн сожалела о своей детской робости. Она с завистью писала о раскованности одной юной особы: «Милая, естественная, открытая, доброжелательная девочка, пример благовоспитанности, присущей лучшим из современных детей, – и настолько непохожая на ту, какой я была в ее лета, что меня часто охватывают изумление и стыд». Ее брат Генри писал, что «Джейн ни разу не произнесла ни опрометчивого, ни глупого, ни грубого слова», предпочитая ничего не говорить, если сказать было нечего. Склонная к созерцанию и задумчивости, она наверняка немного смущала свою деятельную, вечно суетящуюся родительницу.
Но за этой застенчивостью скрывались сильные чувства. Повзрослев, Джейн избрала поверенной своих тайн сестру; Кассандра словно стала ей второй матерью. Неродные матери нередко встречаются в романах Джейн; это была прекрасно известная ей роль, которую она примерит потом на себя, опекая молодняк. В стивентонские годы сестры срослись сердцами. «Их взаимная любовь не знала границ, – замечали родственники. – Она превосходила обычную сестринскую привязанность; и так с самых ранних лет».
И все же они различались. Если верить мнению родных, Кассандра была более холодна, более сдержанна, а Джейн – более спокойна и послушна. Кассандра, как говорили, «имеет благоразумие всегда обуздывать свой нрав», а «Джейн имеет счастье обладать нравом, который не нуждается в обуздании». Это, по словам критика Мэрилин Батлер, единственный случай, когда семья разделяет Джейн и Кассандру. Остины были уже так многочисленны, так жизнерадостны и так ценили свою сплоченность, что практически вылепили из двух одну. Мистер Остин звал дочерей «девочки», например: «Где девочки?» или «Девочки вышли?».
Однако свидетельство самих Остинов о тихом нраве Джейн говорит о полнейшем, почти злостном непонимании ее личности. Вы никак не сочтете Джейн бесстрастной, если прочтете ее письма к Кассандре, полные порой ядовитого сарказма и ярости. «Лучшие писатели часто бывают наихудшими ораторами», – писал один знакомый с Джейн собрат романист, размышляя о ее характере. Она была настолько замкнута, что не открывалась даже близким родственникам.
В очень преклонном возрасте Кассандра поделилась детским воспоминанием, которое обнаружило силу переживаний якобы апатичной Джейн. Кассандра гостила у кузин в Бате. Годы и годы спустя ей вспомнился один особенный случай: «ее возвращение в Стивентон чудесным летним вечером». Мистер Остин доехал до Андовера, где принял дочь из рук дяди и повез ее домой в наемном экипаже. Но на подъезде к пасторату мистер Остин и Кассандра увидели на дороге «Джейн и Чарльза, младшеньких, которые дошли до Ньюдауна, чтобы встретить коляску и иметь удовольствие прокатиться с нами до дома».
Поскольку Джейн умерла молодой, вы должны понимать, что история ее жизни не закончится «хеппи-эндом». Но, пожалуйста, удержите в памяти эту солнечную сцену, где ей всего шесть с половиной, так как это начало во многом предвосхищает страшный финал. Вообразите Джейн счастливой, беззаботной, мчащейся летним вечером по хэмпширским полям с безумным желанием снова обнять Кассандру и вместе с ней вернуться домой.
3
Мальчики
У мужчин куда более средств отстаивать свои взгляды. Образованность их куда выше нашей; перо издавна в их руках.
Доводы рассудка
Трудно поверить, что Джейн, писательница до мозга костей женская, выросла в мальчишечьем мире, однако это было именно так.
Обустройство на новом месте и рост семейства истощили кошелек Остинов. Дело не поправили ни деньги, унаследованные миссис Остин от матери, ни деньги, занятые супругами у брата миссис Остин, Джеймса Ли-Перро, ни даже продажа мистером Остином доли в «Компании Южных морей». Его это наверняка угнетало. Вот какие финансовые наставления давал другим Джордж Остин: «Ведите строгий учет всех денежных поступлений и трат, не одалживайте никому, если не уверены в скором возврате долга». Остины «были небогаты», но жили среди богачей, землевладельцев и образованных священников. Они принадлежали к категории так называемых «псевдоджентри», которые стремились к изысканному существованию, не имея для этого достаточных средств. «Псевдоджентри» не владели землей и все-таки являлись «разновидностью джентри, прежде всего потому, что изо всех сил старались, чтобы в них видели джентри». Они ставили себя выше людей «среднего сорта», занятых торговлей и коммерцией и, по иронии судьбы, зачастую более зажиточных, чем Остины. Значительно «ниже» обеих этих групп лежало обширное море трудящихся слоев общества.
Несмотря на скудость наличных средств, и Остины, и Ли имели в своем родовом багаже солидное состояние. Вопрос, перепадет ли что-то от него Остинам, был крайне болезненным и отравлял семейные отношения на протяжении всей жизни Джейн.
Семья Перро, из которой происходила мать миссис Остин, была баснословно богата. По завещанию своей двоюродной бабушки, Энн Перро, миссис Остин и ее сестра Джейн получили по двести фунтов. Очень мило. Однако их брату Джеймсу повезло куда больше. Он унаследовал внушительное состояние, столь внушительное, что в знак благодарности сменил имя на Ли-Перро. Его сестры, наверное, ожидали, что брат с ними поделится. «Нам не следует уповать на личную удачу каждого, – говорит героиня неоконченного романа Джейн «Уотсоны», – удача одного члена семьи – удача общая». Но Джеймс Ли-Перро своим счастьем не поделился. Свалившееся на него в шестнадцать лет наследство обеспечивало ему превосходство над сестрами и в благосостоянии, и в социальном статусе. А как могла бы улучшить жизнь в пасторате лишняя пара тысяч фунтов! И какой урок получила в юности миссис Остин, узнав, что в прямом смысле стоит дешевле, чем ее младший брат!
Мистер и миссис Остин унаследовали от своих семей примерно по 1000 фунтов. В первое время в Стивентоне мистеру Остину удавалось собирать со своих прихожан около 200 фунтов десятины в год; позже он сумел довести этот годовой сбор почти до 600 фунтов. Ему помогли Наполеоновские войны, приведшие к нехватке продовольствия и, как следствие, к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, около 300 фунтов мистеру Остину приносила ферма. Так что после трудного подъема к вершине своего процветания он добился годового дохода примерно в 1000 фунтов.
Но что значили эти суммы? Георгианцам они мгновенно указали бы на определенный уровень жизни. В своих романах Джейн часто использует доход в качестве маркера статуса, не сомневаясь, что ее читатели тут же поймут, какое хозяйство она имеет в виду, говоря о семье, имеющей пятьсот или тысячу фунтов в год. Пятьсот фунтов годовых были минимумом, при котором семья могла претендовать на «изысканность». Таким доходом располагают у Джейн едва сводящие концы с концами Дэшвуды в «Чувстве и чувствительности». Тысяча фунтов была другой важной планкой, так как по ее достижении человек становился способным содержать собственный выезд, со всеми затратами на конюшню и обслугу. Остины какое-то время имели свой экипаж, но отказались от него, сочтя слишком дорогим удовольствием.
Джентри и псевдоджентри тотчас подмечали штришки в одежде и стиле жизни, которые обеспечивались каждой дополнительной сотней фунтов годовых. Поэтому умение максимально себя ужимать было ценнейшим навыком. Например, умная, сметливая Люси Стил в «Чувстве и чувствительности» обладала завидным даром выдавать свои 500 фунтов годовых за 800.
По словам супругов Сэмюэля и Сары Адамс, бывших слуг, написавших книгу о ведении домашнего хозяйства, семья с доходом 600 фунтов в год могла позволить себе трех служанок и одного слугу мужского пола, а именно: кухарку, горничную и няню плюс «мальчика в качестве грума и для помощи по дому и саду. Иногда садовника».
При таком раскладе Остины кажутся людьми вполне обеспеченными, но вспомним мистера Беннета в «Гордости и предубеждении», существовавшего на 2000 фунтов (хотя и несколько десятилетий спустя). У мистера Беннета было всего пять детей против восьми мистера Остина. Он жил на более широкую ногу, чем Остины, содержа помимо кухарки еще и дворецкого, и пяти девочкам Беннет, в отличие от Джейн, никогда не приходилось работать на кухне. Однако даже при двух тысячах в год мистер Беннет, как и мистер Остин, не сумел скопить приданое для своих дочерей.
Под давлением благородной нужды Остины решили, пользуясь вместительностью дома священника, открыть что-то вроде неформальной школы-пансиона.
Это была удачная идея. Джордж Остин имел большой учительский опыт, так как в ранние годы служил «помощником директора» в старой школе в Тонбридже. Представляется, что он был талантливым педагогом, сочетавшим «классическую выучку» и «высокоразвитый литературный вкус» с «изяществом манер». По крайней мере, такова официальная версия; впрочем, его старший сын Джеймс имел основание писать о его «прискорбной склонности перечить каждому в чем только можно, с которой постоянно сталкивались стар и млад».
Так или иначе, но с 1773 года пансионеры приносили Остинам дополнительный доход в размере около 35 фунтов в год с каждого. За это Джордж Остин готовил их к университету, в то время как миссис Остин растила овощи, возилась с коровами и распределяла крохи, так сказать, суровой материнской ласки. Дело пошло: супруги отдали воспитанию мальчиков целых двадцать три года.
Все их ученики принадлежали к «хорошим» семьям. Среди них был Джордж Нибс, сын Джеймса, однокашника и друга мистера Остина по колледжу Святого Иоанна, уроженца Антигуа. Джеймс Лэнгфорд Нибс стал крестным отцом первенца Джорджа Остина. Мистер Остин, в свою очередь, стал доверительным собственником плантации Нибсов на Антигуа. Вот так отец Джейн оказался вовлечен в управление имением, которое, подобно имению сэра Томаса Бертрама в «Мэнсфилд-парке», держалось на рабском труде.
Затем в разное время у Остина обучались сын баронета сэра Уильяма Иста и братья Фаул, отпрыски кинтберийского священника. Попадались и менее успешные ученики, такие как маленький лорд Лимингтон, будущий третий граф Портсмутский, который отличался «крайней неразвитостью» и в конце концов был увезен домой «мамой, обеспокоившейся запинками в его речи».
Миссис Остин участвовала в пастырской опеке мальчиков. Когда один из них, Джильберт Ист, уехал и долго не возвращался, она написала ему стихотворение, чтобы заманить обратно.
- Друзья твои в печали
- Головушки сломали, Сквайра Иста где носит по свету;
- Им страшно представить,
- Что он мог их оставить,
- Ведь уж девять недель его нету…
Далее она описывает стивентонский пасторат как «обитель знания», где воспитанники проводят «в учебе весь день (когда нам не лень)», и:
- Потому тебе пишем,
- Надеясь – услышишь
- И на наш отзовешься привет,
- Без друга страдаем,
- Тебя ожидаем —
- Фауэл, Стюарт, Дин, Генри и Нед!
Где же все эти мальчики спали? Наверху было не меньше семи спален, и над ними еще три мансардные комнатки со смотревшими на крышу окнами. Но в комнатах и даже в кроватях наверняка спали не поодиночке. Делили спальню и Джейн с Кассандрой, что их очень радовало и что впоследствии они продолжали делать добровольно. При вечной занятости миссис Остин девочки, видимо, образовали маленький женский союз против легиона мальчишек.
Мистеру и миссис Остин, вероятно, понравилось бы описание стивентонской жизни, принадлежащее перу кузена Ли и изображающее ее как оплот просвещенного либерализма. Мистер Остин, говорится там, «обучает нескольких юношей из семей избранных друзей и знакомых», и в Стивентоне «мне всегда приходят на память простота, гостеприимство и вкус, которые неизменно встречаешь в зажиточных семьях среди прекрасных долин Швейцарии». Георгианцы считали Швейцарию эгалитарной, прогрессивно мыслящей страной; следовательно, в Стивентоне витал республиканский душок. И все же в семье господствовала строгая иерархия власти: родителя над ребенком, хозяина над слугой, брата над сестрой. Обязанностью дочерей в большом семействе были домашние хлопоты; от них требовалось послушание и покладистость.
А что же родные (и более ценные) братья Джейн? Джеймс («Джемми»), Эдвард («Недди») и Генри Остины составляли старшую группу, а Джейн и Кассандра больше подходили к младшим – Фрэнсису («Фрэнку») и Чарльзу.
Стоит провести некоторое время с братьями Джейн, поскольку отношения с ними будут иметь для нее огромное значение. Трогательно живописуя в «Мэнсфилд-парке» братско-сестринскую привязанность, она замечает, что «дети из одной семьи, одной крови, с одними и теми же первыми воспоминаниями и привычками» будут держаться вместе всю жизнь. Это полностью относилось к Джейн и ее братьям. Джейн была привязана к ним эмоционально и, волею судьбы, материально. Но бесспорно и то, что некоторых своих братьев она любила особенно сильно.
Ее отношения со старшим братом были слегка натянутыми. Джеймса, поэта и эссеиста, все считали самым литературно одаренным членом семьи, и это мнение сохранялось даже после выхода в свет произведений его сестры. Ему, как семейному корифею, часто ставят в заслугу то, что он поощрял и вдохновлял сестру на писательство. Смолоду Джеймс был резвым и заводным («бал без него не бал», – писала Джейн), но, склонный к скрытности, с годами превратился в капризного, разочарованного нелюдима. К тому же его творчество не получило признания. Немудрено, что он чувствовал себя неуютно в роли брата Джейн.
Джейн едва исполнилось три с половиной года, когда Джеймс уехал в колледж. В те дни Оксфорд сосредоточивался на подготовке будущих священников, и 60 процентов студентов действительно принимали сан. Джейн была дочерью священника, и двум из ее братьев, Джеймсу и Генри, предстояло сделаться (после нескольких попыток от этого уклониться) приходскими священниками. На священническом поприще подвизались еще четыре кузена Джейн; это был своего рода семейный бизнес. Джеймс получил право бесплатно учиться в прежнем колледже своего отца – колледже Святого Иоанна, так как по линии миссис Остин мог быть причислен к «родичам основателя». Сэр Томас Уайт, некогда лорд-мэр Лондона, основал колледж в 1557 году. Его потомки могли претендовать на одно из шести мест, оплачиваемых колледжем в награду за то, что Уайт завещал свое состояние этому заведению, а не семье.
Колледж Святого Иоанна был логовом твердолобых тори, часть которых даже не признала пришлеца-протестанта, короля Георга I Ганноверского, сюзереном Великобритании, когда он взошел на трон в 1714 году вместо католических наследников свергнутого Якова II. Остины называли себя умеренными тори, и Джейн, в той мере, в какой женщинам позволялось иметь политические взгляды, по-видимому, относила себя к ним же. Это не означало, что они принадлежали к формальной политической партии; такого в помине не было. Дома разговор редко заходил о политике, которая, по словам одного родственника, «скорее воспринималась как нечто само собой разумеющееся, чем подлежащее обсуждению». Однако откровенно консервативные взгляды Остинов подразумевали общую тенденцию поддерживать церковь, джентри и старые порядки и противостоять реформаторству вигов с их сверканием новых денег и связью с промышленностью и религиозным диссидентством.
Влияние Французской и Американской революций на общество, на первый взгляд, кажется далеким от творчества и житейских забот Джейн. На самом деле, вопросы справедливого устройства общества и того, как его достичь, когда ранг не в ладах с достоинством, рябью пробегают по глади ее романов. Вслед за отцом и братьями Джейн испещряла поля семейного экземпляра «Истории Англии» Голдсмита патерналистскими банальностями. «Какой же жалости заслуживают бедные, – писала она, – и какого порицания богатые!»
В Оксфорде к Джеймсу присоединился брат, которого принято считать любимцем Джейн. Генри, веселый и энергичный, воспринимал жизнь гораздо проще, чем хмурый Джеймс. «Чрезвычайно нежный и добрый, – вспоминала впоследствии Джейн, – Генри был душой компании: он не мог не смешить». Этот солнечный персонаж «выделялся из всех красотой», и его счастливая самоуверенность, возможно, питалась «мнением отца», что он, со своим «постоянно искрящим умом», – «самый талантливый» из братьев Остин. Однако были и те, кто находил Генри чересчур самоуверенным и считал его остроумие неглубоким, а таланты «более показными, чем реальными». Это окажется правдой.
В Святом Иоанне братьев навещали их родственницы, в том числе изящная кузина Элиза, дочь сестры мистера Остина Филадельфии Хэнкок. Это была искушенная молодая леди, проведшая юность в путешествии по континенту. Тем не менее ей нравились провинциальные кузены и их оксфордский колледж, и во время визита она «просто влюбилась в сад и позавидовала тем, кто имеет возможность гулять в нем каждый день». Внимание модницы Элизы, естественно, привлекло одеяние студентов: «Меня очаровала черная мантия, и квадратная шапочка показалась мне в высшей степени подобающей». Генри Остин, подобно Элизе, обладал прекрасным чувством стиля и выглядел как классический оксфордец. «Не думаю, что ты узнала бы Генри, – писала Элиза другой родственнице, – с напудренными волосами и прекрасно одетого, кроме того, он сейчас выше своего отца». Пудра на волосах Генри свидетельствовала о том, что он принадлежал к тори и не имел ни малейшего касательства к взлохмаченным шевелюрам, какими щеголяли французские революционеры. Запомните эту хорошенькую кузину, восторгавшуюся студентом в садах Оксфорда, потому что мы о ней еще услышим.
Еще в Оксфорде Джеймс первым из детей Остинов ступил на литературную стезю. Он стал мозговым центром еженедельного журнала «Бездельник», полного мягкой (и не всегда удачной) сатиры. «Из всех химических смесей, – писал он от лица издателя, – самая опасная – чернила». Человек, «единожды макнувший в них свои пальцы», – уверял Джеймс, вовек не избавится от их навязчивого влияния.
Выдержавший с января 1789 по март 1790 года около шестидесяти выпусков, «Разгильдяй» был удивительно профессиональным для студенческого начинания предприятием. Он распространялся в Лондоне издателем Томасом Эджертоном, чья фирма в должное время отметилась в истории тем, что взялась печатать младшую сестру Джеймса Остина.
Однако брату Джейн Эдварду не пришлось присоединиться в Оксфорде к Джеймсу и Генри. Летом 1779 года, когда Джейн было три, в Стивентоне объявилась пара визитеров, полностью изменивших картину жизненных перспектив Эдварда. В итоге он был катапультирован – с типично георгианской внезапностью – в высшие эшелоны джентри-землевладельцев.
Визит в пасторат нанес один из многочисленных кузенов мистера Остина – Томас Найт Годмершэмский-младший, сын богатого мистера Найта, того самого, что отдал Джорджу Остину стивентонский приход. Мистер и новоиспеченная миссис Найт – они только что поженились – были очень ценным знакомством. Они владели чудесным поместьем Годмершэм-парк в Кенте, в трех днях пути от Хэмпшира, а также усадьбой в Чотоне, недалеко от Стивентона, обычно сдававшейся в аренду. Их третье имение располагалось близ Винчестера.
Георгианцы не ездили в свадебное путешествие: выражение «медовый месяц» обозначало первый лунный месяц после бракосочетания. Но они часто совершали свадебный объезд родственников. Одним из апогеев свадебного турне мистера Томаса и миссис Кэтрин Найт оказалась их встреча в Стивентоне с двенадцатилетним Эдвардом Остином. Эдвард был миловидным мальчиком и «сразу пленил их своей особенной красотой». При этом «смешливый и подвижный», он прямо-таки излучал обаяние. Сама Джейн считала, что ее брат Эдвард «восхитительно… мелет чепуху». Поэтому, отправляясь в дальнейший путь, Найты забрали его с собой. Это совсем не так странно, как может показаться: мистер и миссис Остин, например, тоже начали семейную жизнь с временного усыновления малыша, доверенного им другом семьи, знаменитым Уорреном Гастингсом, генерал-губернатором Индии. К несчастью, ребенок вскоре умер от «гнилой жабы» (дифтерита). Каждого женатого мужчину общество рассматривало как родителя если не собственных детей, то чужих.
После свадебной прогулки с Найтами Эдвард вернулся домой к семье. Но поскольку годы шли, а брак Найтов оставался бездетным, они время от времени приглашали мальчика к себе погостить. Мистер Остин, как учитель, не приветствовал отлучек сына, опасаясь «вероятных пробелов в латинской грамматике». Мать Эдварда была дальновиднее, она понимала, как может облагодетельствовать ее сына богатая бездетная чета. В конце концов стало ясно, что Найты хотят взять Эдварда к себе. Сохранилось семейное предание о том, как родители Джейн обсуждали судьбу сына. Разговор завершился спокойным обращением миссис Остин к мужу: «По-моему, дорогой, надобно уважить кузенов и отпустить мальчика».
В результате юный Эдвард отправился в Кент «верхом на пони, которого кучер мистера Найта, сам прибывший верхом, привел для него из Годмершэма». Постепенно «к семье пришло осознание того, что Эдвард выбран на роль пасынка и наследника мистера Найта». В новой семье он был радушно принят и обласкан. «Как к нашему приемному чаду, – писала миссис Найт, – я чувствовала к тебе материнскую нежность».
«Надобно отпустить мальчика», – сказала миссис Остин. Всего «несколько простых слов», которые, по крайней мере по воспоминаниям ее внучки, представившей нам это свидетельство, «мягко решили исход дела». Это были судьбоносные слова, потому что Недди, храбро ускакавший верхом на пони, домой, по сути, больше не вернулся. Не в пример своим более образованным братьям, подававшим блестящие надежды, Эдвард обрел солидное положение и богатство, позволившее именно ему поддерживать в дальнейшем мать и сестер.
«Красота» Эдварда, «смешливость и подвижность», благодаря которым Найты выделили его из компании братьев, в прямом смысле были его богатством. Этим он больше походил на Лиззи Беннет, чем на традиционного георгианского джентльмена. Такое везение Эдварда показалось кое-кому уж слишком неправдоподобным: злопыхатели пустили слух, будто бы он не просто приемный, а «незаконный сын» мистера Найта. Однако запись о рождении Эдварда в метрической книге динского прихода это опровергала, и постепенно сплетники умолкли. Окончательное усыновление – «взятие в полное владение» – состоялось, когда Эдварду исполнилось шестнадцать, в 1783 году. На трогательной силуэтной картинке, изображающей это событие, Эдвард буквально передается из рук в руки. При следующей встрече с братьями и сестрами он уже выглядел совершенно иначе, чем они. В библиотеке Чотон-хауса до сих пор хранится зеленый бархатный подростковый костюмчик, якобы принадлежавший Эдварду. Он гораздо роскошнее шерстяного сюртука и бриджей сына благородного, но бедного священника. Более того, костюмчик посажен на подкладку из золотой тафты.
Когда Джейн выросла, золушкина история брата сделалась темой ее творчества. Идея пересаженного в новую почву ребенка воплощается вновь и вновь во Фрэнке Черчилле, в Фанни Прайс, даже в Энн Элиот, которая перебирается к своей названой матери, леди Рассел. Слова миссис Остин – «надобно отпустить мальчика» – были точно зафиксированы, чтобы занять свое место в семейных анналах, и Джейн, вероятно, достаточно часто их слышала, чтобы в перевернутом виде использовать в «Мэнсфилд-парке», повествующем о богатой семье, принявшей бедную родственницу. «Надобно послать за девочкой», – говорит леди Бертрам, к всеобщей радости давая импульс повествованию. У Джейн также есть Изабелла Найтли в «Эмме», преподносящая ситуацию в ином ракурсе: «Нельзя не содрогнуться, когда дитя забирают у родителей, из родного дома!.. Отказаться от родного ребенка! Я не могла бы хорошо относиться ни к кому, кто предложил другому сделать это». Читая эту тираду в первый раз, с горечью вспоминаешь о матери Джейн с ее «надобно отпустить мальчика». Но при повторном чтении понимаешь, что Изабелла – глупая, экстатичная молодая мамаша и часто несет вздор. Остается только надеяться, что тонкое чувство юмора помогло миссис Остин оценить иронию дочери.
Новые родители Эдварда Остина решили, что для завершения образования ему нужны не степени бакалавра или магистра, а большой вояж. Его путевой дневник свидетельствует, что в 1786 году он провел месяц в Швейцарии, а летом 1790 года совершил тур по Италии, Швейцарии, Германии и Нидерландам. Дневник написан живым и ироничным слогом, в чем-то схожим со стилем Джейн, с расчетом на то, чтобы развлечь и позабавить родных, которые будут его читать. Например, когда они полагали, что Эдвард нежится в роскоши, он рассказывал, как однажды в Швейцарии сладко проспал допоздна, «невзирая на колченогую кровать, душную комнату и тучи мух». После вояжа Эдвард поселился со своей новой семьей в Годмершэм-парке, в Кенте.
Два младших брата, Фрэнсис и Чарльз, служили сестрам «особыми» игрушками. Подобно другим «лишним» сыновьям в семьях со скромным достатком – и в отличие от старших Остинов – они были отправлены в Королевскую морскую академию в Портсмуте.
Как говорил сам юный Фрэнк Остин, при «весьма субтильной конституции» он представлял собой «сгусток энергии». За маленькое юркое тело его прозвали Мухой. Он был человеком твердым и надежным, с «обостренным чувством долга, как в своем отношении к окружающим, так и в отношении окружающих к себе». Фрэнк идеально подходил для флота; матросы обожали его и охотно ему подчинялись.
Еще в Стивентоне, на охоте, Фрэнк показал себя безудержным и тщеславным искателем славы. Первый костюмчик ему сшили из той самой красной амазонки миссис Остин. Его маленькая алая фигурка, должно быть, потрясающе смотрелась верхом на пони, которого ему купили в семь лет. Фрэнк называл своего ярко-гнедого скакуна Рыжиком, а его завистливые братья – Рылом. Фрэнк ездил на Рыжике два охотничьих сезона, а потом продал с большой выгодой. Этот гешефт положил начало пути ловкого финансового дельца, параллельного его «официальной» морской карьере.
Несмотря на малый рост, Фрэнк поднялся на самую вершину служебной лестницы, преуспев на профессиональном поприще больше, чем кто-либо из его братьев. Во время учебы в Портсмуте Фрэнка хвалили за «незаурядное» рвение и за «прохождение курса математики в срок значительно более краткий, чем положено». Ему было всего четырнадцать лет, когда 23 декабря 1788 года он отправился в свое первое плавание в Ост-Индию. Отличия отличиями и рвение рвением, но недавние исследования показали, что далеко не во всех своих деяниях Фрэнк проявлял безупречную щепетильность. По крайней мере часть своего заработка он как морской офицер получал от Ост-Индской компании за оказываемые ей услуги, такие как перевозка «93 сундуков» серебра из Китая в Мадрас. Он чаще и благосклоннее, чем любой другой из офицеров Королевского флота, упоминается в секретных протоколах совета Ост-Индской компании. Впоследствии Фрэнк стал чадолюбивым семьянином и, оказываясь дома, с удовольствием вытачивал на токарном станке деревянные игрушки или мастерил бахрому для занавесок. Он вполне мог быть персонажем своей сестры – трудолюбивым и домашним капитаном Харвиллом в «Доводах рассудка». Но тот же Фрэнк мог, отбросив всякие сомнения, назначить подчиненным самые суровые наказания из тех, что практиковались в Королевском флоте, – не зря жестокое обращение с бравыми английскими матросами стало предметом общественного порицания. Например, 14 января 1796 года Фрэнк хладнокровно записал в судовом журнале, что «приказал всыпать по дюжине плетей шестнадцати матросам за пренебрежение к долгу, состоявшее в оставлении палубы во время вахты». И если капитаны за захват вражеских кораблей получали награды, то жалованье матросам не поднимали 140 лет. Таким образом, Фрэнк был сложной фигурой. Превозносимый и обожаемый сестрой, он обладал железным внутренним стержнем.






