Хозяева плоской Земли. Путеводная симфония Рувидо Тимоти
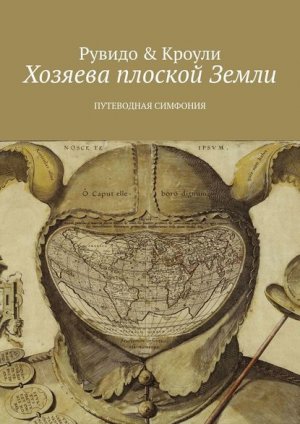
ХОЗЯЕВА ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ
(путеводная симфония)
Часть I
Тимоти Рувидо
Наш остров Фрисландия невелик, однако при желании его всегда можно найти на обычной карте. Когда-то его помещали к юго-востоку от Исландии, поближе к Норвегии, которая им в те времена владела, а заодно и к Шотландии, откуда чаще других к нам приплывали торговые корабли. В другой раз его можно было обнаружить хоть и по-прежнему южнее, но к западу от Исландии, отчего он превращался в естественный перевалочный пункт на пути из Европы в Новый Свет. По преданию именно наш остров стал последним приютом отцов-пилигримов, предпринявших в 1620 году на легендарном корабле «Мэйфлауэр» отчаянное путешествие из английского Плимута до мыса Код, что в нынешнем штате Массачусетс. В нашем роду даже поговаривали, будто за несколько дней их стоянки мы успели породниться с самим Уильямом Брэдфордом1. Не стану утверждать, что это истинная правда, поскольку, как мы все знаем, на «Мэйфлауэре» переправлялись пуритане, не склонные к плотским излишествам. Правда, в старом сундуке, который раньше хранился на чердаке нашего прежнего дома, а теперь – в подвале дома нового, построенного моим отцом ещё в пору ссоры с моим дедом, лежит похожее на тряпочку письмо с плохо разборчивой подписью У. Брэд. Конец фамилии съело время, но я готов согласиться со своими предками в том, что это могла быть рука того самого Брэдфорда. Не знаю. Письмо это, адресованное моей много раз прабабке, я вот уже который год собираюсь как-нибудь сохранить от дальнейшего разрушения, однако всё, что мне пока удалось, это отсканировать его и попытаться разобрать уцелевшие слова с экрана компьютера. Я слышал, что есть какой-то дорогостоящий способ поместить бумагу внутрь стеклянной колбы и даже откачать воздух, но тогда уже точно никто из моих потомков не сможет к нему прикоснуться, а ведь именно прикосновение к истории так дорого любому живому сердцу. Пока я в раздумьях.
В течение довольно продолжительного времени наша Фрисландия перестала значиться на каких-либо картах вовсе. Причины тому, наверняка, есть, хотя мне они неведомы. Мне приходилось читать о том, что она – плод вымысла неудачливых любителей приключений, что на самом деле это вовсе никакой не отдельный остров, а такой же богатый рыбой край южного побережья Исландии, которую моряки и особенно рыболовы-промысловики повадились называть Фишландией, то есть Рыболандией. Тем более что на какой-то испанской карте 1480 года Исландия вроде бы была отмечена как Фискландия. Ученым, как водится, виднее. Вообще-то как нас на протяжении истории только ни называли. Кому-то показалось, что у нас слишком холодный, если не сказать морозный климат, и в некоторых летописях мне попадалось название Фризландия, то есть Страна Морозов. Уверяю вас, авторам этих летописей просто не повезло попасть к нам на остров поздней осенью, поскольку в остальное время года здесь вполне приятно находится, а зимой всегда снежно, и лично я холода не ощущаю.
Рассказываю я всё это вовсе не потому, что заинтересован в дополнительном притоке в наши широты туристов с ближайших островов и континента. Хотя чего скрывать, хуже мне от этого точно не будет, поскольку я не рыбак и не охотник, точнее, и рыбак, и охотник, только моим уловом и дичью служат довольно немногочисленные гости из упомянутых мест. Туризм у нас развит неплохо, посмотреть есть на что, а мне с детства так не хватало общения, что я при первой же возможности подался в экскурсоводы. И если бы не подался, не получил работу у старика Кроули, владевшего в ту пору единственной на нашем острове туристической контрой, то, глядишь, не было бы и всей этой злополучной истории. Поэтому, сами видите, рассказать об одном и при этом умолчать о другом я просто не имею возможности.
Кроули, как легко догадаться, был ирландцем, переселившимся к нам ещё в пору своей молодости, так что никаких личных воспоминаний у меня от того периода нет и быть не может. Когда мы познакомились, он был старше меня лет на сорок с хвостиком, а потому всю последующую жизнь я воспринимал его исключительно «стариком».
– Какого хрена ты спёр мою удочку, парень? – начал он нашу первую беседу.
Если учесть, что мне тогда было года три, то некоторые из приведённых выше слов сейчас кажутся лишними. Я их тоже не понял, хотя и запомнил.
Насчёт удочки Кроули был неправ. Я её, разумеется, не спёр, а взял поиграть, потому что это была не простая удочка, а спиннинг, замечательный, с серебряной катушкой, на которую наматывалась тонкая нитка. Я уже знал, как она называется: леска. Причём леска не только наматывалась, но и сматывалась, что было даже интереснее. Да и удочек в коллекции Кроули было такое множество, что, честно говоря, когда я умыкнул одну из них, мне и в голову не могло прийти, что старик её хватится. При этом я остался играть с удочкой посреди его большого двора, на самом видном месте, и увидел он меня лишь тогда, когда я окончательно запутался в леске и поднял крик.
Впоследствии Кроули признался, что я ему сразу приглянулся. Вероятно, он ожидал, что такой крикун при его появлении должен расплакаться от страха и убежать, в то время как я лишь стоял с удочкой в руке, продолжая машинально крутить катушку, и таращился на бородатого гиганта, присевшего рядом со мной на корточки. На самом деле я бы, конечно, убежал, если бы мои ноги к тому времени не запутались в леске. Заметив это, бородач достал складной нож. Но и тогда я не испугался. Просто родители мне никаких фильмов ещё не показывали, а ножи, подобные тому, что держал в кулаке Кроули, сочетались в моём детском мозгу с разделкой рыбы, то есть с чем-то вкусным и совсем не страшным.
Он разрезал ножом леску, и я получил долгожданную свободу. Однако по-прежнему не пустился в бегство, поскольку к тому времени Кроули мне уже понравился. Вернее, мне понравился исходивший от него запах. От моего отца всегда пахло рыбой и скотиной, от матери – скотиной и едой, а от Кроули не пахло ничем. В смысле, ничем, что было бы мне знакомо в ту пору. Позднее я понял, что так пахнет курительная трубка, виски и старые книги.
– Как тебя зовут, парень? – спросил он, забирая у меня спиннинг и разглядывая исподлобья.
– Лесли, – сказал я первое, что пришло мне на ум.
На самом деле Лесли звали очень нелюбимого мной поросёнка, которого мы ели в те дни. Невзлюбил я его, главным образом, за то, что на дармовых харчах этот Лесли, с которым я играл, когда он был маленькой, почти ручной свинкой, вымахал настолько, что обогнал меня, превратившись в здоровенного хряка. Хуже того: он перестал меня признавать, зазнался и даже не хрюкал, как раньше, при моём появлении.
– Послушай, Лесли, – сказал старик Кроули, поднимаясь в полный рост, – почему бы тебе ни заняться делом, ни пойти домой и ни передать матери… хотя, знаешь что, зайди-ка ты ко мне.
Он взял меня за руку, и я послушно поплёлся за ним.
Те из вас, кто уже побывал в нашей Фрисландии, прекрасно осведомлены о том, что мы не признаём калиток, заборов и прочих ограждений. Мы же люди, а не скотина, чтобы нас держать в загонах. Поэтому Кроули был сам виноват, что выставил свои замечательные удочки на солнце перед входом в дом, а я, гулявший, где хотел, наткнулся на них и заинтересовался. Дворами у нас считается просто земля, отделяющая крыльцо от общей дороги. Позади домов имеются, понятное дело, «зады», которые используются под хозяйские нужды. Там у нас и огороды, и всякая живность, и подсобные сараи. Туда я бы никогда не отважился сунуться, поскольку разницу между «двором» и «задами» осознал раньше, чем научился говорить. Тем более чужой дом внутри. В чужие зады соседи у нас могут зайти только тогда, когда там есть хозяева. В дома – только тогда, когда их приглашают. С этим у нас очень строго, зато прекрасно получается экономить на замках и всяких дорогостоящих запорах. Теперь вы легко представите мою оторопь, когда я понял, что Кроули ведёт меня через крыльцо прямиком в свой дом. С этого момента я искренне полюбил его как старшего друга и чувство это пронёс до самой его кончины.
– Постой тут, Лесли, – сказал он, когда мы оставили позади просторную веранду с креслом-качалкой, накрытым толстым вязаным пледом, и вошли в уютные сени.
О том, что сени могут быть уютными, я до тех пор не подозревал, поскольку в нашем доме это была просто прихожая, где постоянно валялись отцовские сапоги и стояли вёдра, лопаты и прочие орудия труда, не донесённые до сараев. Здесь же меня встретили стеллажи книг, стопки потрёпанных журналов на полу, высокий деревянный столик на стройных ножках и большущий кожаный шар, который на поверку оказался мягким и упругим одновременно. Собственно, книги и столик я рассмотрел уже в следующие посещения, а тогда всем моим вниманием завладел именно этот шар, сшитый из разномастных лоскутков кожи. И хотя Кроули сказал «Постой тут, Лесли», я, стоило ему скрыться в доме, полез на шар, который радушно принял меня в свои мягкие объятья. Должно быть, я являл собой действительно забавное зрелище, потому что вернувшийся вскоре хозяин при виде моих растопыренных рук и ног и блаженной улыбки на лице не выдержал и расхохотался. Смех у него оказался громкий, открытый и добрый, и с тех пор я искренне считаю, что именно так должны смеяться все бородатые люди.
– Передай матери от меня вот эту записку, – сказал Кроули, помогая мне сползти на пол. Он дал мне клочок бумаги, который я сразу сжал в кулаке, сообразив, что это нечто важное. – Сам дойдёшь или тебя проводить? – добавил он, когда мы снова оказались на улице.
– Сам, – буркнул я, и тут мы оба увидели мою мать, которая уже вышла на поиски младшего сына, то есть меня.
– Тимоша! – звала она, идя по дороге и оглядываясь по сторонам в надежде, что я на этот раз не стану играть с ней в прятки – в игру, которую я, признаться, очень любил, причём в самое неподходящее время.
Заметив нас, она всплеснула руками и прибавила шагу. К собственному удивлению я не стал вырывать руку из большой ладони Кроули, а послушно стоял и ждал, когда она подойдёт достаточно близко и поздоровается.
– У вас смышлёный сынок, – было первым, что сказал он, подталкивая меня к матери. Когда я повзрослел, а он постарел, Кроули по-прежнему звал меня именно так – сынок. – Я как раз отправлял его к вам с запиской. – Он задумчиво посмотрел на меня. – Так ты, выходит, Тимоти?
– Тим, – поправил я.
Тимошей меня называла только мать. Даже отец почему-то стеснялся повторять за ней это ласковое словцо, которое проникло к нам в дом с матерью моей матери из далёкой России. Кроме неё, моей бабушки, никто по-русски у нас в роду не говорил. Она застала моё появление на свет, и мать переняла у неё этого Тимошу на случаи, когда хотела сказать: я знаю, что ты напроказничал, но не собираюсь тебя за это наказывать.
Затем последовал разговор, подробностей которого я уже не помню, поскольку всё время пытался разобрать значки на бумажке у меня в руке. Правда, я понял, что теперь они никому не нужны, раз этот бородатый старик и моя мама встретились, и по возвращению домой молча бросил записку в камин. Суть их разговора стала мне очевидна в тот же вечер, когда мама за ужином поведала отцу, что Дилан Кроули, наш сосед, открывает на острове контору по развлечению туристов, а её приглашает в новый, почти достроенный трактир поварихой.
– Главной поварихой, – уточнила она.
– Единственной, – хмыкнул отец, прищуриваясь.
Мать с отцом никогда не ругались. Не помню, чтобы я слышал в её присутствии из его уст хоть одно бранное слово. Когда он стал брать меня с собой на промысел, о, там я наслушался такого, что до сих пор стараюсь и никак не могу забыть! Обращался он в таких случаях не столько ко мне или к своим друзьям-напарникам, которые частенько подряжались ему помогать, сколько к океану, рыбе и сетям. Удочки отец не признавал, считая их баловством и пустой тратой времени. Улов шёл на продажу да на зимние заготовки, а значит, рыбы должно быть много, безсчётно2 много. Большую часть составляла замечательная «осенька», которую приезжие к нам обычно знают как омуль, но мы, местные, издавна знакомые с латинским языком, на котором она Coregonus autumnalis, то есть «корегонус осенний», окрестили её по второму слову. Ещё мы с отцом заготавливали треску, приходившую к нам с Атлантики, вялили капеллана, иначе говоря, мойву, и морозили лучепёрую пикшу, которая хорошо шла на рынке в соседнем Окибаре – центральном городе юга. Когда я достаточно подрос, мы иногда ходили с ним вдвоём на рыбалку, более походившую на охоту, потому что вместо сетей по обоим бортам баркаса ставились среднего размера гарпуны. Добычей нашей в такие дни была синяя зубатка, рыба опасная, но любимая мной не только за вкус, но и за то, что для меня в то время она была всё равно, что акула. Как вы знаете, своим названием она обязана, разумеется, зубам, которые растут у неё аж в несколько рядов – на челюстях, на нёбе и на сошнике. С сетями на таких не походишь, если только у тебя сети не из стальной проволоки. Нам частенько попадались экземпляры почти с меня ростом и по три стоуна3 весом. Парочка таких рыбёшек, и можно возвращаться домой. Мы же обычно привозили с двух ночёвок на воде по пять-шесть штук, за что получали шутливый нагоняй от матери, которой приходилось со всеми этими тушами возиться.
На самом деле к тому моменту, когда я научился управляться с гарпуном, моей сестре Тандри уже исполнилось четырнадцать, и она помогала матери не только по дому, но и в растущем хозяйстве Кроули, старания которого год от года приносили свои посильные плоды. Я к тому, что ни одна из пойманных или подстреленных нами рыбин и рыбёшек никогда не пропадала даром, и переживания матери были скорее переживаниями жены. Отпуская нас одних и понимая, что мне нужно привыкать к взрослой жизни, она в душе боялась, как бы что ни приключилось. Если что-то с тобой произойдёт, напутствовала она меня всякий раз, твой отец этого не перенесёт. Я знал, что у меня был старший брат, я даже знал, что его звали Галин, но он трагически погиб, и отец всю оставшуюся жизнь считал это своей виной. Подробности неизвестны мне до сих пор.
Отец мой пришёл в наши места с севера, из большого города Кампа, прославленного своими высокими крепостными стенами, с незапамятных времён хранившими его то от набегов морских разбойников, то от наводнений, то от нашествия лесных медведей, которые одно время плодились в тех местах с такой силой, что переставали находить себе прокорм и отваживались нападать на человека. Сейчас ничего подобного давно уже не происходит, северяне медведей охраняют, и это одна из причин, почему они не слишком охотно идут на щедрые предложения от нашей конторы по поводу обустройства территорий для охоты. Я их понимаю, но всё меняется даже на нашем острове, и я предполагаю, что, в конце концов, кто-нибудь из тамошних старейшин склонил бы седую голову, махнул рукой, и мы открыли бы первое во Фрисландии коммерческое медвежье угодье. Всему своё время, если его не торопить.
Так вот, именно медведь стал невольной причиной появления меня, моей сестры, Галина и, если смотреть дальше, всей этой истории. Тот самый медведь, который попытался задрать моего деда, отца моей матери, когда в один прекрасный день Хромой Бор (ибо таково было его прозвище и имя) отправился в странствие по острову. Дед искал золото. Он, говорят, всегда был несколько странным, а тут кто-то нашептал ему, будто по весне на западном побережье в районе Северного залива (честно говоря, я никогда не мог взять в толк, почему залив на западе называется Северным) потерпело кораблекрушение торговое судно не то из Норвегии, не то из Канады. Команда спаслась, прожила на острове больше недели, а когда пришедший за ними пароход с большой земли уже отчаливал, обнаружилось, что безследно пропал судовладелец, точнее, человек, арендовавший судно для перевозки одному ему да капитану известного ценного груза. Груз хранился в тяжеленном ящике с хитроумно подвязанными по всем четырём сторонам буями, не давшими ему утонуть во время крушения. Надо ли говорить, что судовладелец исчез вместе с ящиком. Рассказавший эту историю деду был уверен в том, что кто-то из команды укокошил беднягу, а драгоценности надёжно спрятал, то есть зарыл. Почему в ящике обязательно должны были оказаться драгоценности, никто не знал, но с тех пор дед потерял покой и в итоге отправился туда, где всё это время экипаж корабля квартировал – на северо-запад. Мать моя тогда была молоденькой девушкой и на пару со своей матерью согласилась отпустить деда только после того, как он красочно расписал, какие подарки в виде украшений привезёт им обеим, если ему посчастливится найти зарытый убийцами клад. Клада он в итоге не нашёл, попал в переделку с голодным после зимней спячки медведем, а в качестве подарка привёз моего будущего отца. Вернее, это мой отец привёз его, изрядно покушенного и полуживого, обратно домой, да так и остался под предлогом того, что умеет выхаживать жертв медвежьего гнева. На самом деле он ехал торговать пушниной в Окибар, подобрал по дороге окровавленного деда, сделал крюк, увидел мою мать, и понял, что приехал. Воз пушнины стала неплохим приданым. Дед для вида поломался, но ничего поделать с молодёжью не мог и в итоге согласился. Сколько его помню, он всегда прихрамывал на левую ногу. Кроме того, к старости у него настолько ослабело правое веко, что он заканчивал свои дни, глядя на мир одним глазом. Вот друзья и звали его, помимо Хромого Бора, кто Гефестом4, кто – Одином5.
Жену Одина, как все знают, звали Фригг, или Фрея, в честь которой благодарные потомки окрестили пятый день недели6. Моя же бабушка носила старое русское имя Ладомила и, по словам матери, всегда просила не путать его с гораздо более распространенным именем Людмила. Как я уже говорил, мне её знать почти не довелось. В памяти моей остались только несколько картинок наших с ней прогулок на берег, когда она брала меня на руки, называла Тимошей и указывала куда-то далеко-далеко за горизонт. Она улыбалась, а мне становилось грустно, и я плакал. Сейчас я предполагаю, что она хотела показать мне свою далёкую родину.
Вообще люди попадают к нам во Фрисландию из самых разных мест, правда, не все приживаются. Хотя климат у нас не такой уж и суровый, как можно вообразить, глядя на карту и сравнивая с северной Шотландией, Шетландскими, Фарерскими островами или с той же Исландией. Летом, когда воздух прогревается до двадцати градусов Цельсия, мы, южане, частенько купаемся. Вода в это время кажется даже теплее воздуха, возможно, благодаря атлантическим течениям. На севере, куда течения не доходят, вода слишком бодрит, и северяне из Кампы по-соседски приезжают понежиться на солнышке к нам – в Окибар и расположенную чуть подальше на восток крупную деревушку, или мелкий городок, Соранд. Когда Кроули открыл свою контору и построил небольшую паромную станцию, он стал возить желающих через узкий пролив Анефес, на ближайший к нам необитаемый остров со звучным названием Монако. Только если французы ударяют свой напыщенный городок на последнее «о», то мы склонны бить его по первому. На Монако есть целых два гейзера, так что отдыхать там можно чуть ли не круглый год. Благодаря своему положению Фрисландия избежала участи упомянутых северных стран и не превратилась в вылизанные промозглыми ветрами скалы, на которых растёт разве что мох да можжевельник. Всю центральную часть нашего острова занимают настоящие густые леса, какие вы можете встретить хоть в Канаде, хоть в Швеции, хоть в таёжной Сибири. А иначе где бы, спрашивается, мы охотились? Да и почвы за счёт лесов не такие непригодные для взращивания всякий злаков, какими могли бы быть. Жить, одним словом, можно и жить неплохо, однако не каждому дано понять всю прелесть наших диковатых мест. Кого только ни заносило к нам попутными ветрами! О совершавших временную стоянку я вообще не говорю. Уже на моём веку здесь высаживались с намерением остаться на поселение: многодетное семейство староверов из Белоруссии, трое лихих братьев родом не то из Ливии, не то из Ливана, одинокая норвежка, помешанный на рыбалке старый английский лорд, парочка знаменитых немецких актёров и вежливый раввин из Нью-Йорка. К сегодняшнему дню из всех из них осталась лишь норвежка, нашедшая мужа, и немецкая актриса, мужа потерявшая. Староверы, никем не понятые и не получившие никакой материальной поддержки как «беженцы совести», на что они почему-то искренне рассчитывали, уплыли дальше, на запад. Ливийские братья, вероятно, решившие, что смогут тут всех запугать, как им удавалось проделывать это в Европе, и собиравшиеся организовать нечто на манер мафии, были благополучно зарублены нашими добродушными мужиками и пошли на корм зубаткам. Запугать они успели только английского лорда, который не понял, где оказался, побросал свои дорогие удочки и с позором бежал домой.
С раввином вышло вообще грустно и трогательно. Ури Шмуклер, как он представлялся, затевая беседы прямо посреди дороги, не обладал ничем выдающимся, кроме носа, способного потягаться в размерах с нашей садовой мотыгой. На остров он прибыл для того, чтобы обратить нас в свою веру. Поскольку говорил он вкрадчиво, всё больше улыбался и никому не вредил, народ не находил повода выставить его взашей и просто терпел, отвечая на велеречивые увещевания понимающими взглядами и равнодушными кивками. Ури всё это понимал по-своему и храбрился. Он с чего-то взял, что очень нам нужен, ходил гордый, держа под мышкой потрёпанный кожаный портфель, и всем своим видом показывал, что ему у нас жутко нравится. Вероятно, так оно на первых порах и было. Остановился он на постой не где-нибудь, а в нашем старом доме, который отец после кончины деда привёл в порядок, а мать, следуя наставлениям Кроули, приспособила под гостевой. Я был тогда ещё слишком юн, чтобы жить без родителей, а Тандри вышла замуж за Гордиана, программиста из Окибара, и перебралась к нему. Ури был явно при деньгах, поскольку заплатил нам за полгода вперёд, рассчитывая за это время выполнить возложенную на него миссию и обратить в свою веру если не всю Фрисландию, то хотя бы нашу деревеньку. Поначалу он пробовал ездить по югу, добрался до Соранда, но там его видимо побили. Во всяком случае, вернулся он быстро и два дня не показывался на улице, залечивая ушибы и синяки. Неудача его не сломила, и он отправился в Окибар на поклон к нашим старейшинам. Мы между собой посмеивались, зная, что его там ждёт, и были удивлены, когда он не возвратился ни назавтра, ни через два дня, ни к концу недели. Догадываюсь, о чём вы подумали: бедняга либо запил с горя, либо на радостях загостил у какой-нибудь тамошней красотки. Спешу вас удивить: ничего подобного Ури Шмуклер не смог бы сделать даже при большом желании. По той простой причине, что на нашем острове не настолько скучно, чтобы открывать питейные заведения и уж тем более позволять женщинам позорить своё добропорядочное имя. Благодаря нашей всеобщей любви к уединению и спокойствию, отчего нас иногда в серьёзных научных книгах сравнивают со средневековыми японцами, мы исстари не ведаем таких пагубных явлений, как религия, публичный блуд и демократия, придерживаясь заповедей предков и здравомыслия. У нас это жизнеустройство называется древним термином «фолькерул», когда шестеро отцов семейств выбирают седьмого, старшего, получающего титул «септус», в чём знакомые с латынью уловят и «семёрку», и «ограду». Шесть септусов выбирают своего старшего, «фортуса», в котором звучит и латинская «прочность», и германское «четырнадцать». Затем уже двенадцать фортусов выбирают «патернуса», и, наконец, совет патернусов назначает старейшин в четыре крупнейших города острова: Окибар на юге, Кампу на севере, Доффайс на востоке и Санестол на западе. Фолькерул позволяет нам не иметь таких затратных статей расходов, как суды, тюрьмы и полиция. Суды вершатся на общих сходах родов под предводительством септусов, где решения принимаются единоголосием и сразу же приводятся в исполнение, без проволочек и обжалований. Виновные наказываются, невинные отпускаются, никто никого не перевоспитывает и не сторожит. Что же до общего порядка в городах и деревнях, то, как говорится, «зачем нужны дворники, если каждый сам отвечает за свой мусор». С детства у нас прививают лишь одно простое нравоучение: не желай ближнему того, чего не пожелаешь себе. В дополнение к фолькерулу его вполне хватает для того, чтобы в пору взросления мы входили с полным пониманием, что делать можно, а что – нежелательно. Надо ли добавлять, что при таком устройстве никакая религия, взращиваемая и вскармливаемая на человеческих пороках, не приживается, как её ни насаждай. Дед мне рассказывал, что в стародавние времена к нам на остров приплывали корабли с незваными гостями, которые хотели, наподобие Ури, предложить своё видение праведной жизни, с блестящими крестами, душистыми кадильницами, плаксивыми песнопениями и призывами непонятно зачем и перед кем смиряться. Только в отличие от Ури приплыли они не налегке, а в сопровождении небольшой, но хорошо обученной армии, задачей которой было убедить наших предков послушаться гласа их бога, понастроить молелен, креститься и таким образом спастись от грядущей погибели. Предкам всё это не понравилось, однако из любопытства они позволили заезжим жрецам провести показательную службу. Когда же те, вдоволь напевшись и устав молоть языками, стали предлагать всем присутствующим съесть кусочек плоти их любимого бога и запить эту гадость его кровью, матери увели детей, а отцы, вооружившись кто чем, утроили гостям пышные проводы. Корабли, которые больше не понадобились, решено было сжечь, чтобы не напоминали о том чёрном дне, хотя, по словам деда, некоторые из наших мастеров впоследствии переживали, уж больно хороша была оснастка и прочны паруса. Несмышлёной ребятнёй, помню, мы бегали в те места, где на краю поля стоял просевший от времени курган, и пытались откопать что-нибудь интересное. Однажды я принёс домой красивый железный крестик с разноцветными камушками и первым делом похвастался отцу, за что был незамедлительно отшлёпан и навсегда с находкой разлучён.
– Кто твои боги? – спросил он меня, глядя сверху вниз на мои грязные щёки, и довольный, что не видит ручьёв слёз.
– Ты да мамка, – ответил я, как учили, и хлюпнул носом.
– А ещё кто нужен?
– Никто…
– Ну вот и ступай делами заниматься. А как узнаю, что ты снова к курганам подходишь, ладонь пожалею.
Я понял отца правильно и с полуслова. «Ладонь пожалею» должно было означать, что за следующий проступок я получу, скорее всего, по-взрослому, ремнём. Мне тогда ещё повезло. Моего закадычного приятеля Льюва его папаша за находчивость отодрал так, что тот потом долго морщился всякий раз, когда садился.
Ури Шмуклер вернулся через девять дней, очень задумчивый, погрустневший и без портфеля. Целыми днями просиживал перед домом или на берегу, глядел на волны, на рассветы и закаты, разговаривал сам с собой и всем своим видом давал понять, что готов вот-вот утопиться или повеситься. Поскольку никому, кроме разве что моей матери, до него дела не было, он сводить счётов с жизнью не стал, продышался, выговорился, растёр как следует нос и повеселел. Как-то я застал его по-соседски беседующим с Кроули. Оба устроились на бочках, украшавших причал перед нашей конторой, и Кроули угощал раввина трубкой с кубинским табаком. Погода была безветренная, и на причале стоял густой сигарный запах. А всё потому, что Кроули имел привычку курить именно тот табак, который выковыривал из кубинских сигар. Другого он не признавал. Ури кашлял, улыбался, но сдаваться не спешил. Так они сидели некоторое время, разговаривая ни о чём, пока раввину из Нью-Йорка ни вздумалось услышать мнение Кроули о его религии.
– Я вот не понимаю, – сказал он, прикрывая нос шарфом, – почему, если мы все произошли от Адама, вы так настойчивы в своём желании отличаться от остальных?
– Кто произошёл от Адама? – не расслышал Кроули.
– А вы не в курсе? – Ури оживился. – Люди произошли от Адама. Не от обезьяны же.
Кроули пустил из-под усов струю дыма, покосился на собеседника и уточнил:
– Кто создал Адама?
– Иегова, бевадай7!
– Хорошо, а до Иеговы?
– В каком смысле?
– В прямом. – Кроули посмотрел на меня, делавшего вид, будто чищу поручни уставшего от ожидания пассажиров парома. – Вы Тору читали?
– Читал ли я Тору?! Господин Кроули, я так читал Тору, что мне уже кажется, что я её писал.
– Ну тогда, рав Ури, напомните мне, кто создал адама в первой главе Бырэйшит? Адама, разумеется, с маленькой буквы, а не того, который появляется во второй.
Нос Ури оживился, ноздри раздулись, втянули морской воздух и задрожали. Стало понятно, что Кроули не тот простак на бочке, за которого он его до сих пор принимал. Я перестал тереть поручень и вспомнил все те шкафы и полки в доме моего старого друга, заваленные книгами, которые он не только собирал, но и почитывал. Надвигался ураган.
– Элохим, – сказал Ури и выжидательно посмотрел на собеседника.
– Просто Элохим?
– Просто Элохим.
– Кто такие?
– Бог.
– Или всё-таки «боги» во множественном числе?
– Ну, да, боги, но глагол…
– Значит, в первой главе боги по образу и подобию своему создают адама, причём сразу мужчину и женщину. А во второй главе Элохим Иегова, как у вас его с тех пор постоянно называют, что христиане переводят как «Господь Бог», снова создаёт Адама, одного, из глины, а потом из этого Адама делает ему жену Еву. Так, может быть, если вдуматься, то в первой главе боги создали не человека, а сразу человечество, мужчин и женщин, после чего один из богов, самый шустрый и активный, когда боги Элохим на седьмой день, увидев, что у них всё хорошо получились, пошли отдыхать, смастерил себе две куклы, с которыми потом всю книжку играет, которых пугает и стращает? Никогда не задумывались?
Раввин решил было обидеться, но вместо этого затянулся трубкой и первый раз не закашлялся. Кроули тем временем продолжал:
– Я ведь человек простой и понимаю всё написанное буквально. Талмуда вашего, который Торе все косточки перемывает, не читал и в ближайшее время не собираюсь, да всех его томов и не найти, если только вы мне в этом не поспособствуете. Ограничиваюсь тем, что есть. А то, что есть, со всей очевидностью утверждает, что нас с вами создавали разные боги. Так зачем нам идти под вашего бога, когда нам своих вполне хватает? Тем более что наших ни бояться, ни молить о помощи не нужно. Они сами знают, кому, в чём и когда нужно помочь. Они же наши создатели, наши предки.
Собеседники замолчали, а я вернулся к работе. Кто такие раввины, я знал понаслышке, и мне представлялось, что они ребята хитрющие и всё на свете могут объяснить выгодным им образом. Почему Ури Шмуклер не пустился тогда в духовный спор, ума не приложу. Кроули потом мне сказал, что духовного у них спора не могло получиться уже потому, что у ортодоксальных адамитов нет духа. Душа есть, а духа нет.
В другой раз вышло наоборот: равви Ури разговорился со мной. Я дежурил в конторе, пока Кроули отходил перекусить. Когда он вернулся, меня уже почти убедили в том, что гиюр8, это не такой уж страшный обряд и что пройти его должен всякий уважающий себя мужчина. Как я впоследствии понял, самые узкие места гиюра Ури в нашей беседе умудрился обойти, не сказав главного. Появление Кроули заставило моего собеседника сбавить обороты, но было видно, что он весь в священном порыве, поскольку я оказался первым слушателем, не пославшим его сразу и далеко. Кроули покачал косматой головой.
– «Израилю столь же тяжко от прозелитов9, как от язвы». Откуда это, рав?
– Йевамот10, стих сорок седьмой.
– Выходит, за неугодное вашему богу дело вы взялись, рав.
– Отчего же, господин Кроули? В Мидраше11 сказано обратное: истинный прозелит дороже в глазах Иеговы, нежели человек, рождённый евреем.
– Из вас получился бы хороший юрист, рав. Никогда не пробовали?
– Я и есть юрист, – без улыбки ответил Ури Шмуклер.
Кроули вернулся, я мог идти по делам, однако задержался, чтобы послушать, куда дальше выведет их учёная беседа. Заговорили про прозелитов вообще. Хорошо ли это? Кому и когда подобает менять одну веру на другую? Что может к этому подтолкнуть? В отличие от меня раввин искренне удивлялся познаниям старика в истории и географии стран, где он никогда сам не бывал. С прозелитов перешли на чистоту крови вообще и семитскую кровь в частности. Кроули уточнил, из каких именно семитов будет наш гость. Тот сказал, что его бабки с дедками приехали в Новый Свет через Германию из Польши. Кроули вздохнул и поинтересовался отношением Ури к арабам. Ури пожал плечами. Из всего этого Кроули сделал и озвучил вывод, что тот ашкеназ и антисемит. Чем вызвал взрыв негодования, выслушал всё, что последовало, а когда Ури угомонился, уточнил:
– Хотите сказать, арабы не семиты, рав?
– Семиты.
– Тогда как назвать тех, кто призывает к их угнетению? И не только призывает, но и постоянно с ними воюет?
– Евреи.
– Но вы ведь не еврей, рав.
– Ах, господин Кроули, зачем вы так говорите! Как это не еврей?
– Вы иудей, но не еврей. Ваши предки, будучи ашкеназами, приняли иудаизм, как приняли его в своё время те же бедуины, персы, эфиопы, татары, кавказцы и многие другие, кто никогда до этого не покидал своих мест обитания и никогда ниоткуда не изгонялся и в плен ни в какие вавилоны и египты не попадал. Тим, передай-ка мне вон ту книжку, что стоит на второй полке слева. Нет, пониже, с синим корешком. Да, правильно. Вот, рав, почитайте, если хотите, вашего же историка Шломо Занда, который популярно рассказывает, когда, где и сколько народа перешло в иудаизм, не будучи евреями по крови. Если он говорит правду, то получается, что палестинские арабы и есть исконные жители Израиля. Как и «афро-американцы», названные так лишь затем, чтобы скрыть истину: они не негры, а всё те же индейцы, исконные жители Америки и вовсе не потомки африканских рабов.
Вообще мне очень нравилась эта особенность старика Кроули. Он никогда ни с кем не спорил и почти никогда не пускался в пространные объяснения своих взглядов. Если он чего-то не знал, то просто помалкивал, но уж если знал, то говорил, как рубил, и нисколько при этом не интересовался реакцией и встречными доводами собеседника. Они его просто не интересовали.
После того достопамятного разговора в голове бедного Ури Шмуклера произошло нечто такое, что заставило его покинуть наш остров с первым же попутным кораблём. Он так спешил, что впопыхах совершенно позабыл вернуть Кроули одолженную книжку с синим корешком. При этом отправился он вовсе не домой на запад, а на юго-восток, в Европу. Сведущие люди рассказывали, что из Европы он, не останавливаясь, домчался до Израиля и там почти сразу же вступил в ряды борцов за права палестинцев. Кто-то даже как будто видел его по телевизору, загорелого, посвежевшего и такого же длинноносого, когда он по-английски кричал в микрофон журналиста арабского новостного канала, призывая своих соплеменников реже слушать раввинов и чаще вспоминать о боге. Не знаю, кем он в итоге стал, жив или нет, но с тех пор в наших краях больше ни один священнослужитель, равно как и юрист, не объявлялся.
Эта показательная история, если вы ещё не забыли, отвлекла меня от рассказа о Ладомиле, моей русской бабушке и матери моей матери. Хромого Бора она повстречала не где-нибудь, а в Берлине, в последние дни войны. Хромым он тогда, разумеется, ещё не был, имел прекрасную выправку и произвел на юную переводчицу неизгладимое впечатление. Кстати, в отличие от неё, первой выпускницы московского Военного института иностранных языков, дед попал на фронт, как водится, совершенно случайно. Можно сказать, по недоразумению. Один из сопровождавших атлантический конвой ленд-лиза12 крейсеров США вошёл в пролив Анефес и бросил там якорь на целых три дня, пока команда вынуждена была ремонтировать частично отвалившийся по дороге скуловой киль. Деталь, понятное дело, не сказать, чтоб жизненно важная для судна, однако поскольку отвалился он не весь, оставшаяся часть крайне затрудняла маневрирование. Дед был всегда человеком любознательным, а в молодости ещё и отчаянным. Поэтому, не поставив в известность родителей, он вместе с новыми друзьями-матросами, рассказывавшими ему много интересного о плавании по океану, погрузился в шлюпку и отправился на крейсер, будучи в полной уверенности, что, погостив несколько часов и осмотрев столь интересное хозяйство, благополучно вернётся на берег. Увиденное на крейсере, а тем более радушие команды, угостившей бравого гостя невиданными доселе спиртными напитками, привели деда в такое непотребное состояние, что он заснул прямо в румпельном отделении, а когда проснулся на жёстком железном полу от тряски, грохота и раскачивания, обнаружил, что родная Фрисландия уже далеко за кормой. Портом назначения конвоя, к которому был приписан дедов крейсер, оказался Мурманск, однако, как оно часто бывает, если уж что-то не заладится, ничего путного не жди. Нагоняя своих, американцы переоценили возможности судна и перегрели моторы. Пока они плелись вдоль берегов оккупированной немцами Норвегии, их заметили и попытались расстрелять с воздуха. В этом месте дед любил рассказывать, как собственноручно подстрелил из самозарядного «гаранда» пикировавший на них бомбардировщик «Юнкерс-87», хотя я подозреваю, что это вряд ли возможно, и просто его выстрел совпал с удачным попаданием из палубного орудия. Как бы то ни было, атака была успешно отбита, а деда новые друзья сочли настоящим героем и приняли в своё американское братство. Между тем командование крейсера получило радиограмму о том, что основной конвой уже выполнил задание и отчаливает из Мурманска в обратном направлении. Продолжать путешествие было безсмысленно, и крейсер, встав на рейд в нейтральных водах, несколько дней дожидаться остальных.
За это время дед проникся идеей мировой войны и решил во что бы то ни стало в ней поучаствовать. Вероятно, сила его желания была настолько велика, что когда крейсер уже двигался в фарватере остального конвоя, радисты приняли приказ главнокомандования менять маршрут и идти к берегам Великобритании, где в то время формировалась союзническая эскадра. В довершении неприятностей на Северном море поднялся небывалый даже для тех широт шторм, в результате которого судно отнесло на запад, в датские воды. Потерявшая за попытку отбиться от своей оккупации двух солдат, Дания поспешно сдалась Германии, и ко времени описываемых дедом событий там уже квартировало шесть дивизий вермахта. Хотя Фрисландия всегда и всюду сохраняла полнейший нейтралитет, не вмешиваясь в дела других и не позволяя никому вмешиваться в свои, дед не мог рассчитывать на то, что, оказавшись в плену у немцев в числе американских военных, будет под фанфары выпровожен из страны на все четыре стороны. Поэтому когда их крейсер вступил в неравный бой с береговыми батареями измельчавших потомков некогда свободолюбивых викингов, он снова вооружился верной винтовкой и встал со своими новыми братьями по оружию плечом к плечу. Крейсер подбили, он стал быстро набирать воду и стремиться ко дну, уцелевшие храбрецы попрыгали в шлюпки и рванули берегу. Дальше произошло нечто подобное знаменитой высадке в Нормандии в «день Д», только в миниатюре. Под градом пулемётных очередей они с грехом пополам добрались до пологого берега, где можно было спрятаться разве что за песчаными сопками. Только сейчас смельчаки осознали, что судьба привела их в лапы врагов. Потеряв половину команды убитыми, не имея возможности помочь раненым, они решили сдаваться. Вернее, пока они решали, стараясь перекричать друг друга и жужжащие вокруг пули, корабельный кок сорвал с себя белый халат, привязал к дулу ружья и встал в полный рост, размахивая им. Не на шутку раззадоренные датчане успели по нему пару раз пальнуть, но только ранили в ногу. В итоге из пятисот членов экипажа сдалось чуть больше двухсот уцелевших. Их разместили в двух больших амбарах и круглосуточно охраняли в ожидании дальнейших распоряжений. А поскольку война уже близилась к своему неминуемому завершению, никаких определённых распоряжений из штаба не поступало. Сами же американцы разделились на тех, кто призывал остальных ждать и верить потому, мол, что они представляют собой большую ценность и их обязательно на кого-нибудь выменяют, и тех, кто был уверен, что их, в конце концов, пустят в расход. Дед относился ко вторым. Он вообще, если вы ещё не поняли, особым терпением не отличался. На третью или четвёртую ночь они избавились от верёвок, нашли в полу лаз и стали по очереди выбираться наружу. Оставаться больше никому не хотелось, так что побег растянулся, народу повылезало много, их заметили, снова началась пальба, и здесь уже каждый оказался за себя. Дед к этому моменту успел разоружить одного из охранников и смог открыть ответный огонь. Почему-то датчане побоялись его преследовать. На пару с приятелем они прыгнули в мотоцикл с коляской и рванули, куда глаза глядят. Горючего хватило ровно на то, чтобы доехать до ближайшего городка под названием Тённер. Поскольку мотоцикл был военный, немецкий гарнизон поначалу принял их за своих, то есть за датчан. Разумеется, подлог очень скоро открылся. Пришлось снова поднимать руки и сдаваться на милость автоматчиков. Немцы повели себя более миролюбиво. Правда, они расстреляли приятеля деда. Очевидно потому, что тот попался им в американской военной форме и решил погеройствовать, мол, меня нельзя трогать, не то дядя Сэм покажет вам кузькину мать. Дед же был по жизни высок, на крейсере формы ему не нашлось, и он все время оставался в том, в чём случайно сбежал из дома. Немцы так и не поняли, кто он, но поняли, что не русский и не штатовец. Пожалели, одним словом, молодого да желторотого. Более того, когда убивали его приятеля, дед, конечно же, сложа руки не сидел и попытался помешать расправе, за что получил пулю в бок. Ранение оказалось сквозным, крови вытекло много, но неподалёку располагался госпиталь, и деда отправили туда. Госпиталь находился в зоне местного аэродрома и обслуживал эвакуированных с фронта офицеров СС. Дед провёл там несколько спокойных дней, соображая, как поступить дальше. Заодно познакомился с соседом по койке, неплохо говорившим по-английски. Из разговора с ним он понял, что его здесь принимают то ли за шведа, то ли за голландца, одним словом, почти за своего.
Один из последних дней в госпитале дед запомнил очень хорошо. Было 29 апреля 1945 года. Утром он видел из окна, как на посадочной полосе разворачивается только что севший «Юнкерс» с чёрно-белым крестом на фюзеляже. Самолёт сразу же окружил весь местный генералитет, выстроившись по стойке смирно. Стало понятно, что прилетел кто-то важный. По трапу спустились трое мужчин, три женщины и овчарка, которым собравшиеся дружно отсалютовали и что-то крикнули. Прибывших куда-то увели, но через некоторое время один из них, обаятельный, с красивым голосом и неспешными манерами в сопровождении целой свиты вошёл в госпиталь. Кто могли, повскакивали с мест, подбрасывая руку в приветствии, однако гость сделал знак, чтобы все успокоились, и минут пятнадцать увлечённо говорил. Сосед впоследствии пояснил деду, что речь шла о некоем адмирале Карле Дёнице, Верховном главнокомандующем вооруженных сил Германии, который уполномочивался вести переговоры с западными союзниками вплоть до подписания пакта о безоговорочной капитуляции. Закончив речь, оратор двинулся между койками, пожимая руки раненым. Пожал он руку и деду. Тому запомнились грустные глаза, тонкие усики и большая ладонь. Сразу после этого все прибывшие снова погрузились в самолёт и улетели в западном направлении. Так мой дед, сам того не зная и не желая, лично познакомился с Адольфом Гитлером. Которого, как все знают, обнаружили на следующий день, 30 апреля, застрелившимся в бункере. Правда, его же вскоре нашли сожженным вместе с женой в траншее в парке при Канцелярии. Застрелившийся труп советы забрали на экспертизу в Москву, где он впоследствии затерялся. Сожженный труп исследовали союзники, правда, исследовать, кроме зубов, там было нечего, а все архивные данные на эту тему были уничтожены лечащим врачом фюрера ещё 20 апреля, сразу после дня рождения последнего. Тот же, кому накануне жал руку мой дед, явно не был похож на человека, который на следующий день будет пускать себе пулю в лоб или надкусывать капсулу с цианидом. Да и курс его «Юнкерс» брал явно не обратно на юг, а скорее на Испанию. Именно этими сомнениями дед поделился с моей бабушкой, когда встретил её через месяц в Берлине, и она наивно, как и все, радовалась, что война закончена, а главный враг получил своё. Поверила она ему лишь тогда, когда в середине июля на конференции в Потсдаме её тогдашний кумир по фамилии Сталин принялся настаивать на том, что Гитлер скрылся. Он так и сказал: «возможно, в Испании или Аргентине». Правда, это уже совсем другая история, а тогда, в датском госпитале, дед думал лишь о том, как бы снова удрать.
Первая неделя мая стала свидетельницей больших перемен в континентальной Европе. Брошенные на защиту Берлина датский и норвежский полки были жестоко разгромлены, и 2 мая их окровавленные остатки капитулировали. Бывшие союзники немцев, избежав в таком качестве гибели за пять лет до этого, теперь поспешили сделать вид, будто всё это время в их странах сжимало свой боевой кулак местное сопротивление. Если в конце 1944 года, говорят, в Дании насчитывалось 25 тысяч подпольщиков и партизан, к маю их стало в два раза больше. И если в первую цифру верится с трудом, то вторую дед ощутил на себе, когда однажды на рассвете Тённер проснулся под треск пальбы и воинственные крики: датчане, очень может быть, что те же самые, которые обстреливали с берега их крейсер, теперь набросились на бывших однополчан-немцев и стали их уничтожать дом за домом, отряд за отрядом. Датчанином оказался и сосед деда по койке. Ещё накануне он весело горланил по-немецки и прикидывался своим в госпитале, а сейчас, видя, как всё оборачивается, раздобыл где-то оружие и не пожалел даже ухаживавших за ними санитаров, кроме, разумеется, местных. Деду всё это не могло понравиться, но выбирать приходилось между жизнью и смертью, так что он был вынужден примкнуть к датским «храбрецам». К вечеру того же дня аэродром был захвачен, а под утро на него сел первый американский самолёт. Постепенно сюда стали стягиваться всё новые и новые силы, готовые двинуться в Германию под звёздно-полосатыми флагами. Кое-кого дед радостно узнал. Это были чудом уцелевшие моряки с его крейсера, освобожденные из плена и уверенные, что и ему пришлось несладко. Про рукопожатие с фюрером дед скромно умолчал. Закончилось тем, что их всех приписали к 94-му мотострелковому полку и отправили сперва в Любек, а затем в Гамбург. Оба города произвели на деда неизгладимое впечатление размахом разрушений. Особенно Гамбург. Особенно в районе парка Эйльбек, который совершенно не пострадал, хотя в двух шагах от него от температуры плавились камни многоэтажных домов. Как такое возможно и что на самом деле было сброшено на город, дед так и не сумел выяснить.
В Гамбурге он собирался погрузиться на американское судно и отправиться из этого европейского идиотизма домой, но тут произошла очередная странность военного времени – деда наградили и присвоили чин. Награда была американская, называлась «Медаль почёта» и представляла собой перевернутую дьявольскую звезду, на которой богиня по имени Минерва прогоняет щитом мужика со змеями, а в другой руке держит связку с топором посередине – римскую фасцию, откуда пошёл итальянский фашизм. В довершении композиции медаль крепилась на голубой ленте, в центре которой были вышиты белые звёзды – ровно тринадцать. Дед от такого подарка хотел отказаться, но ему объяснили, что это чуть ли не самая важная их награда, присваиваемая за мужество и героизм, «превышающие долг службы». Долга дед никакого не испытывал, но по молодости был горд тем, что серьёзные генералы его признали за своего. Генерал, вообще-то был один. К тому же он приходился не то тестем, не то шурином одному из моряков, которого дед спас, когда они штурмовали береговые сопки после неудачной высадки под датские пули. Сам он этого эпизода не помнил, но Патрик Даффи, как звали того парня, божился, что обязан деду жизнью. Они были ровесниками, сдружились ещё по пути в Мурманск, так что со стороны деда никаких возражений не последовало. Возможно ещё и потому, что его гораздо сильнее, чем награда, поразило звание – капитан. Патрик тоже его получил, однако он ещё на крейсере был младшим лейтенантом, так что его повышение до морского лейтенанта, соответствующего сухопутному капитану, выглядело вполне естественно, тогда как дед, по сути, не был даже рядовым. Не говоря уж о том, что он не был и американцем. Когда дед рассказывал об этом, он сперва хмурился, потом хитро улыбался и в итоге заявлял, что война – это в первую очередь бардак. Как бы то ни было, награда, звание и новенькая форма сделали своё дело, и молодой уроженец далёкой Фрисландии отправился вместе с полком дальше по германской земле навстречу своей неведомой судьбе, которая предстала перед ним в образе красивой белокурой и очень серьёзной девушки со сладким именем Ладомила.
Влюбился он не с первого, а со второго взгляда. Первый взгляд у него вышел не ахти какой, потому что, добравшись до поверженной столицы ровно в день подписания капитуляции, американцы на радостях, что их больше никто не будет убивать, пропраздновали всю ночь, чрезмерно расслабились, утроили дебош, погнались за обидчиками и оказались в зоне советской оккупации. Численного перевеса ни у одной из сторон не было, однако дед впоследствии отдавал должное русским кулакам и всегда приводил в пример сородичей бабушки, когда говорил о «настоящих мужиках». В синяках, но довольные, американцы загремели в одну из советских комендатур, куда наутро для выяснения обстоятельств явился недовольный начальник в подозрительно чистой гимнастёрке. Вместе с ним пришла и переводчица. Дед больше всего на свете хотел спать и пить, а потому первый взгляд на девушку произвёл на него впечатление чего-то мутного и несвоевременного. Но голос у неё был приятный, и он послушно отвечал на все вопросы, пока ни понял, что влип в серьёзную историю, так как начальник подозревал американцев в умышленной провокации. А кроме того, несколько его подопечных в результате драки получили серьёзные телесные увечья, и всё указывало на то, что нанёс их ни кто-нибудь, а именно дед. Бабушка же этот допрос с пристрастием запомнила очень хорошо. Запомнила она и своё первое впечатление от этого «простофили», как она выразилась, который понятия не имел, что происходит, в отличие от прочих американцев не улыбался до ушей и лишь что-то хмуро бурчал. При этом он нисколько не старался себя хоть как-то выгородить или оправдать, рассказал всё, как помнит, одним словом, в глазах её начальника, зарыл себя с головой. Иностранец, конечно, из союзников, но начальник был политически подкован и понимал, что сегодняшние союзники завтра снова станут идеологическими врагами. Серого цвета, кроме цвета собственной жизни, для него не существовало. После допроса она присутствовала при его докладе наверх и была серьёзно напугана тем, что услышала. Конечно, бабушка была юна, не прошла всю войну, почти не нюхала пороху, это была её первая командировка после выпуска из института, и она наивно считала, что хороший человек должен совершать поступки, руководствуясь не идеологией, а справедливостью. Начальников не выбирают, но никто не запрещает иметь по их поводу собственного мнения и руководствоваться им в дальнейших действиях.
Подробностей не знаю, но в тот же вечер русская переводчица смело вернулась к окончательно протрезвевшим штрафникам и в присутствии не знавшей никаких чужих языков охраны сообщила, что дела плохи и что их запросто могут отправить в Москву строить улицу Горького. Может быть, она сгущала краски, но, с другой стороны, ей очень не понравилось, что во время разговора по коммутатору начальник дважды повторил, что американцы оказались в расположении его части незаконно и что никаких официальных запросов с американской стороны до сих пор не поступало. Подписание капитуляции вовсе не означало конец военных действий. Люди пропадали и будут пропадать безследно. Кто располагал доказательствами того, что эти архаровцы не были пособниками немцев и не пытались расправиться с членами вверенного его строгому политическому оку подразделения? Никто. Значит, надо брать их в оборот и пускать по этапу, чтобы другим неповадно было.
Потрясённые до глубины души американцы это поняли и поинтересовались, действительно ли никто из их командования до сих пор не хватился. Бабушка не знала, но ни к каким телефонным и прочим переговорам на английском её не привлекали. Кроме английского, бабушка, разумеется, хорошо владела немецким. Один из пленников помнил номер телефона в штабе их части. Бабушка на всякий случай его записала, понимая, что едва ли сможет воспользоваться. На другой день её начальника вызвал к себе в Лихтенберг на совещание генерал-полковник Берзарин, исполнявший обязанности первого коменданта Берлина вплоть до вскоре последовавшей за этим нелепой смерти за рулём мотоцикла. Переводчица не понадобилась, и бабушка на свой страх и риск, пользуясь служебным положением, прошла в кабинет и сделала звонок. В этом безрассудстве она походила на деда. Позвонив американцам, она тем самым подписала себе приговор. Впоследствии бабушка говорила, что, движимая праведным порывом, искренне не понимала всей тяжести своего проступка. Совещание у Берзарина ещё не закончилось, а в комендатуру уже нагрянуло американское руководство, на джипах, при параде, вызволять своих однополчан. Пока бабушка переводила напряжённые переговоры, ей сделалась очевидной опасность складывающегося положения. Приехавшие сказали, что им был звонок, она перевела, что, мол, «поступила информация», остававшийся на хозяйстве офицер оказался неглуп, посмотрел на бабушку весьма подозрительно, и ей стало очевидно, что дело может запросто обернуться трибуналом. Дед при всём при этом присутствовал, правда, ничего толком не понимал и не видел, потому что уже не мог оторвать зачарованного взгляда от бабушки. В конце концов, их освободили, посажали на джипы и повезли в расположение части, но он что-то почувствовал, какой-то призыв не то извне, не то изнутри мятущейся груди, выпрыгнул на ходу и побежал обратно. Он не думал никого спасать, просто хотел ещё раз увидеть это удивительное, как ему показалось, создание.
К этому моменту начальник бабушки уже вернулся с совещания, причём в смешанных чувствах. Оказывается, Берзарину тоже звонили. Американское командование подняло бучу по поводу самоуправства советских «товарищей», и крайним оказался бабушкин начальник, проявивший, по словам осерчавшего Берзарина, «самоуправство». Потом был второй звонок, уже не сверху, а из американского штаба, на сей раз с благодарностью за расторопность и понимание ситуации. У Берзарина отлегло, и он не только взял свои резкие слова обратно, но и похвалил бдительного сотрудника. В итоге получалось, что бабушка одновременно подвела своего начальника, но при этом поступила правильно. Пока тот, запершись в кабинете, обдумывал, как поступить, бабушка, теряясь в догадках и предчувствуя худшее, увидела в окне деда. В груди у неё что-то ёкнуло, она выбежала ему навстречу, и с тех пор они больше не расставались.
Надо сказать, что с родиной к тому времени бабушку связывал разве что гражданский долг, поскольку из родственников у неё там остался лишь нелюбимый старший брат, который ещё в начале войны сумел как квалифицированный инженер получить «бронь» и уехал с заводом куда-то за Урал, в глубокий тыл. Их отец был кадровым военным, погиб в финскую кампанию у озера Толваярви. Матери она не знала, сама воспитывалась бабушкой. Весьма возможно, что её предрасположенность к деду объяснялась тем, что она почувствовала в нём доброе, но твёрдое мужское начало, и он занял в её сознании одновременно место отца и брата.
От советской комендатуры до американского сектора оккупации на юге города они добирались пешком. Прятаться не приходилось, у обоих документы были в полном порядке, а в царившей в те дни неразберихе даже патрули больше внимания обращали на форму и улыбающиеся физиономии, нежели на потрёпанные бумажки. Тем не менее, придя в часть и собрав полученное накануне денежное довольствие, дед первым делом отвёл новую знакомую в магазин готового платья, и бабушка впервые за долгое время переоделась в штатское, похорошев ещё сильнее. Теперь она могла при необходимости запросто сойти за немку. Оставаться Берлине было нецелесообразно: её уже наверняка хватились, а когда не найдут в восточном секторе, догадаются, что она спряталась у американцев. Дед сказал начальству, что собирается жениться, получил увольнительную и укатил с бабушкой на запад, в направлении Ганновера. Укатил он не на чём-нибудь, а на популярном в те годы кабриолете «Адлер-Триумф» последнего, 39-го, года производства, который, по его собственной версии, одолжил из штабного гаража. Не думаю, что он его именно одолжил, поскольку мысли возвращаться из увольнительной у деда не было изначально.
Двадцать пять лошадиных сил понесли их с ветерком по пустынным дорогам разорённой страны. Местами дед выжимал до восьмидесяти пяти километров в час, заставляя бабушку округлять глаза и заливаться счастливым смехом. Отъехав от Берлина на безопасное расстояние, они спохватились, что не знают, зачем едут именно в Ганновер. Поскольку город брали американцы, дед был в курсе, что обстановка там не лучше, чем в Гамбурге: центр разбомблён, жить негде, гостеприимства от местных ждать не приходится. Они решили доехать до первого крупного населённого пункта, оценить ситуацию, по возможности передохнуть и свернуть к северу.
Вскоре их встретила река, которая оказалась Эльбой, а на другом её берегу раскинулось безбрежное поле сиротливых каменных руин – Магдебург. Растерянные, они проехали ещё немного и были остановлены патрулём. Трое солдат в советской форме преградили им дорогу. Установив, что в немецком авто едет американский офицер с молчаливой дамой, они ограничились проверкой документов деда, понимающе кивнули и без лишних слов пропустили. Бабушка же из разговора соплеменников успела понять, что вся восточная, то есть ближайшая часть города занята русами, западная – американцами, но при этом и те, и другие ждут англичан, которые должны взять здешние земли под свой контроль. Оставаться в советской зоне было, мягко говоря, небезопасно: хотя командование ужесточило наказания за разнузданное поведение, бабушке часто приходилось слышать о том, как разгорячённые войной и злые на врага солдаты втихаря расправляются с теми, кто им показался подозрительным, и в особенности с немками. Надо было либо ехать дальше, к американцам, либо сворачивать на просёлочные дороги в северном направлении. Решающую роль в их выборе сыграло одно немаловажное обстоятельство: «Адлер-Триумф» каждые сто километров выпивал по десять литров бензина, так что горючее неумолимо заканчивалось.
В американской зоне деда встретили радушно, приняв, как водится, за своего. На всякий случай он предъявил командиру одной из частей увольнительную и справился, где лучше заправиться и переночевать. Бабушка продолжала разыгрывать хорошо говорившую по-английски немку, справедливо считая, что если уж заметаешь следы, делай это последовательно. Им залили полный бак и дали две канистры, причём денег с деда брать не стали, сказав, мол, пользуйся трофейным, брат, пока есть. Ночевать предложили «по-королевски»: в отдельной комнате на втором этаже недоразрушенного клуба. Вечер провели в компании офицеров, хотя и несколько особняком. Обоим хотелось уединения, но человеческая близость вселяла уверенность. Особенно ценной она показалась после того, как кто-то из присутствующих поделился историей о том, будто, по рассказам местных, в округе объявилась банда мародёрствующих немцев, которые брали всё, что плохо лежит, и при этом не чурались обдирать своих же. И хотя дед, рассказывавший обо всех этих приключениях, сидел передо мной живой и здоровый, помню, я в детстве страшно переживал, когда слушал, как они с бабушкой, в конце концов, всё-таки решили рискнуть и на следующий же день прямо на рассвете отправились дальше, вверх по карте, в сторону Дании, и как на полпути до Гамбурга, заночевав на одном из хуторков, они лицом к лицу столкнулись, может быть, с теми, а может быть, и с другими мародёрами. Вместе с пожилым хозяином дома дед начал отстреливаться, их окружили и должны были вот-вот перебить, но на шум пальбы из соседнего городка приехали англичане, и мародёров повязали. В одном из них хозяин дома с ужасом признал собственного сына, на которого им с женой незадолго до этого пришла похоронка. Парень оказался явно не в себе, однако старик умолил англичан – через бабушку – пощадить его и отпустить в лоно любящей семьи. Чем эта драма закончилась, дед так и не узнал. Он подарил «Адлер-Триумф» командиру спасшего их корпуса, а тот в свою очередь обеспечил молодую чету верительными грамотами и билетами на поезд до ставшего недавно снова французским порта Кале.
Путешествие по железной дороге через половину Германии и Бельгию оказалось не слишком приятным, но зато более быстрым и безопасным, чем на машине. Паровоз непрестанно дымил, железные вагоны грохотали, спать и даже толком разговаривать было трудно, оставалось лишь смотреть в окна да мечтать о скорейшем возвращении домой. Их попутчиками были главным образом раненые английские солдаты, а также несколько французов, побывавших в немецком плену. Бабушке запомнилось, что, несмотря ни на какие лишения, все были на подъёме, шутили и смеялись. Ей самой, как я потом узнал, было не до веселья, поскольку откуда ни возьмись начался жуткий токсикоз, который она всячески скрывала, а что скрыть не удавалось, приписывала банальному укачиванию и усталости. В Кале дед раздобыл билеты на паром до Дувра, и они покинули Континент, чтобы никогда больше не вернуться.
Англия встретила беглецов солнцем и пивным духом, стоявшим вдоль всего побережья. Новые попутчики звали их с собой, в Лондон, однако дед справедливо решил, что там они обязательно застрянут надолго, и предложил бабушке перекантоваться несколько дней в Дувре, чтобы понять, каким ветром плыть до Фрисландии. Они посетили два или три питейных заведения в порту, пообщались с разношёрстными моряками и довольно скоро выяснили, что попасть в нужное место можно двумя взаимоисключающими путями: вернуться на Континент, попроситься на американское судно и надеяться, что оно не рванёт через Атлантику напрямки; либо попутным пароходом подняться до Эдинбурга, а оттуда, скажем, арендовать катер до Лервика – административного центра и самого крупного из самых мелких поселений Шетландских островов. А там, глядишь, какое-нибудь норвежское, шведское или датское промысловое судно бросит якорь на пути в Гренландию или Исландию. Токсикоз у бабушки прошёл так же резко, как начался, и теперь она была готова к любым свершениям, лишь бы оказаться подальше – от всего. Когда я спрашивал её прямо, хотела бы она вернуться на родину, она смотрела на меня и спрашивала в ответ: «Зачем?». Этого я точно не знал да и интересовался лишь потому, что мне надоедало ходить с ней по нашему пляжу, а после такого вопроса она обычно грустнела и торопилась домой.
Добравшись до Эдинбурга, они задержались там дольше, нежели предполагали. Виной тому была погода, которая на тех широтах всегда, увы, предсказуемо плохая. Больше недели ни одно судно вообще не покидало порт, а команды тех, что приходили, первым делом спешили в церковь благодарить за спасение. Деньги деда закончились. Так что когда штормы утихли, по-прежнему не могло быть и речи о том, чтобы, как они планировали, нанять хоть какой-нибудь катер. Бабушка пошла подрабатывать посудомойкой, а дед каждое утро встречал в порту Лит, соглашаясь на любую подённую работу. Таская мешки с ячменём, он, чтобы подбодрить себя и сотоварищей, напевал и насвистывал песенки, которые у нас на острове знают все от мала до велика. Звучат они похоже на пиратские шанти, однако, если прислушаться, в них больше задора и напевности. Голос у деда был сильным, так что пел он в своё удовольствие, и никто на него не цыкал. Однажды на него даже обратил внимание один из управляющих, подозвал и поинтересовался, что это за странный язык.
А язык у нас, надо сказать, и в самом деле странный, особенно на английский вкус. Скажем, какая-нибудь простенькая фраза вроде «У меня есть дом», что по-английски будет, как известно, I have a house, а по-нашему Ih hab husus. Зато если у англичанина дома нет, то он скажет I don’t have a house, а мы – Ih non hab husum. С одной стороны, никаких артиклей, но зато ценой обязательных падежных окончаний: есть дом – husus, нет дома – husum. А всё оттого, говорят, что в древности нашу Фрисландию населяли потомки как германцев, так и латинян. Поэтому всяким нынешним итальянцам наша речь кажется хоть и знакомой, но слишком грубой, а немцам с англичанами, напротив, весьма приятной и напевной в силу большого количества гласных звуков.
Услышав объяснение деда, управляющий ещё больше заинтересовался. Он с кем-то переговорил, и на следующий день дед, вместо того, чтобы тягать мешки, прямо со смены был посажен в приехавшее специально за ним авто, отвезён в роскошный по скромным местным меркам особняк и представлен некому Кеннету Сандерсону, который с 1941 года служил генеральным директором «Дома Сандерсона» – компании, владевшей довольно крупной винокурней. Вообще-то на ней производили виски, для чего и нужны были мешки с ячменём, однако с начала войны дела пошли из рук вон плохо, да к тому же британское правительство потребовало от всех ликёроводочных заводов или свернуть производство, или переквалифицироваться под военные нужды, то есть запустить всевозможные химические линии. Кроме всего прочего, на спиртное были повышены государственные налоги. В итоге мистер Сандерсон теперь сутки напролёт искал способ вернуться к довоенным поставкам виски на отечественный и мировые рынки. В Америке он открыл представительство ещё в 1932 году, то есть за год до официальной отмены сухого закона, и если бы не война, дела бы его сейчас были куда лучше. Всё это он откровенно поведал деду и стал расспрашивать его о Фрисландии, признавшись, что всегда считал, что это часть не то Германии, не то Нидерландов, но никак не отдельное царство-государство. Дед понял, что начинается полоса везения и что нужно ковать железо. Он расписал фирмачу все прелести нашего острова, честно указал примерное его население, поддакнул насчёт суровости климата и согласился с предположением о преобладании брутальных мужчин, потомков как викингов, так и римлян. Не упомянул он лишь того незначительного факта, что наши «брутальные мужчины» равнодушны к алкоголю, предпочитая пьянеть от жизни. Ну так ведь мистер Сандерсон, явно привыкший делать выводы и принимать решения самостоятельно, и не спрашивал…
В итоге дед был на весь последующий месяц снят с погрузочно-разгрузочных работ и приближен к руководству компании настолько, что прошёл полный инструктаж не только по технологии производства настоящего шотландского виски, но и по коммерческой его стороне – продвижению, продажам, отчётности. Не возражал он по вполне понятным причинам: итогом должно было стать плавание прямо из порта Лит к берегам Фрисландии на торговом судне, гружёном ящиками со знаменитой в Старом Свете маркой VAT69, купажированной, как он теперь знал наверняка, из чуть ли не сорока разных сортов солодового и зернового виски. Если вдруг новый продукт придётся его соплеменникам по вкусу, что ж, он станет первым и главным продавцом этого огненного напитка, если нет – неважно, зато он скоро будет дома. Мистер Сандерсон оказался и в самом деле человеком предприимчивым, и скоро довольно вместительный универсальный сухогруз вошёл в доки под погрузку. Настало время деду понервничать. Он осознал, что если такая махина бросит якорь у них в порту и даже если её удастся разгрузить, непонятно, где столько ящиков хранить. Конечно, виски не портится, а в стеклянной таре даже не стареет, но кто его там станет пить? Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы предположить вместо радости возвращения на родину огромный международный скандал. Дед переживал настолько, что поделился сомнениями с ожившей наконец после стольких мытарств бабушкой. Та посоветовала ему не тянуть до последнего, а честно выложить всё мистеру Сандерсону. Шотландец внимательно деда выслушал, но только рассмеялся:
– Неужели ты думаешь, что я всего этого не предусмотрел, братец? – сказал он. – Мы зафрахтовали нашу посудину до самого Галифакса, что в Новой Скотии13. У капитана есть десять дней, чтобы определиться с объёмом разгрузки у тебя на острове. По истечении этого срока он обязан двигаться дальше. Не переживай, старина Бор! Зато теперь я вижу, что не ошибся в тебе. Да, кстати, я тут навёл кое-какие справки по поводу твоей родины и знаю, как можно решить ещё одну небольшую проблему.
– Какую проблему? – насторожился дед.
– Расчеты за виски, разумеется. У вас же там нет ни фунтов, ни долларов, ни крон, не так ли? У вас там и денег нормальных, по сути, нет, правда? Вы до сих пор, как я понял, предпочитаете обмен натуральный, товар на товар.
– Ну, почему же… не обязательно.
– Знаю, знаю! О том и говорю. Поэтому предпочёл бы заранее договориться о том, что ни селёдкой, ни даже шкурами свой виски я измерять не намерен. Хочу сразу договориться, что меня интересует исключительно золото.
А надо сказать, что, действительно, у нас на острове вместо, точнее, в качестве денег используются золотые слитки самого разного размера. Золотой прииск один, на восточном побережье, заведуют им старейшины Доффайса, которые следят за добычей и вводом новых «капель», как мы их называем, в обращение. Все слитки штампуются указанием исходного веса и дальше ходят по номиналу. Раньше их всякий раз взвешивали, но золото, как известно, метал нежный, довольно быстро изнашивается, так что вес не всегда соответствует указанному на штампе. Мы привыкли, относимся к слиткам бережно, зря из кубышек не вынимаем, благо у всех обычно есть что-то, что может понадобиться в хозяйстве соседям. Вот и меняемся рыбой на мёд, ножами на платья, шкурами на рыбу. Звучит примитивно, понимаю, однако когда не ставится задача быть «самым богатым», деньги играют роль мерила ценности, а не средства наживы. Богатыми у нас считаются те рода, что живут в хороших домах несколькими поколениями разом. А всякие одинокие бобыли, сколько бы всего у них ни водилось, всегда будут чувствовать себя недоделанными и стремиться в первую голову быть полезными, чтобы на них не смотрели косо. Если у нас хотят нанять стороннего работника, ему на выбор в качестве платы предлагают обычно несколько вариантов. Многие соглашаются трудиться за часть урожая, улова и тому подобное. Некоторые рады тому, что им позволяют столоваться с остальными и дают крышу над головой. Если же ты мастер своего дела и лучше тебя не сыскать, тогда, конечно, твои руки в буквальном смысле могут оказаться на вес золота.
Дед смекнул, что с товаром у шотландцев проблемы всё-таки будут, но вслух говорить об этом не стал. Ему было главное попасть домой, а дальше – как получится. Важно, что он никого не обманывал, мистер Сандерсон давал себе отчёт в возможных рисках и сознательно на них шёл, полагаясь на качество своей выпивки, а он, Бор, по мере надобности ему, само собой, поможет, сколько хватит сил и наглости. Он даже вспомнил, что знает кое-кого из Доффайса, кто мог бы составить ему протекцию перед местными золотовладельцами.
Наконец, настал долгожданный день, когда корабль, трюм которого приятно пах деревянными ящиками, отошёл от облезлого причала и взял курс из Ферт-оф-Форта строго на север, в сторону Абердина. Плавание вдоль берегов Альбиона прошло на удивление спокойно и удачно, Северное море и Ледовитый океан решили взять передышку. Деду оно запомнилось только одним: признанием бабушки в том, что она беременна.
Это известие быстро облетело всю команду. К тому времени дед уже снова считался членом экипажа, как тогда, на крейсере, будто и не было перерыва на сухопутные мытарства. Капитан решил по-свойски отметить столь важное в жизни каждого мужчины событие и так расщедрился, что самолично вскрыл два ящика с драгоценным товаром и целый вечер простоял за импровизированной стойкой на камбузе, угощая всех сочувствующих. В отличие от своих моряков-шотландцев он был родом из Ливерпуля и, вероятно, тоже ощущал себя отчасти изгоем, почему и проникся симпатией к деду, который, по его мнению, мог бы запросто остаться в прекрасной Англии, но не остался, а решил во что бы то ни стало возвернуться домой. Таких людей капитан уважал. Звали его Гриффин Кук. Он был настоящим английским джентльменом, курил кривую трубку, ругался исключительно литературным языком, знал своё дело превосходно и выпивал лишь по случаю. Случаев этих, правда, плавание предоставляло ему с избытком, так что трезвым дед его не видел никогда. Капитал был из тех представителей сильной половины человечества, возраст которых скрыт бородой, сединой и обветренной смуглой кожей. На палубе он вёл себя как сорокалетний, зато в кают-компании рассуждал с таким знанием жизни и достоинством, будто ему все семьдесят. С бабушкой, единственной дамой на судне, он был подчёркнуто галантен, деда же частенько хлопал по спине и называл не иначе как «сынок». Свои дети у капитана где-то были, как и жена, однако он так любил плавать и так привык выполнять поручения мистера Сандерсона, что, несмотря на некоторую отчуждённость и культурное одиночество, не мыслил себя бросившим якорь.
– Знаешь, Бор, что я больше всего хочу на свете? – спрашивал он, обнимая деда за плечи, когда они вдвоём стояли у борта, и вглядываясь в проплывающий мимо берег. – Выйти вот так на крыльцо моей халупы с видом на Мерси, молчать и смотреть, как в Элберт Доке грузят баржи. Ты бывал в Ливерпуле, сынок?
Всякий раз дед признавался, что нет, и всякий раз капитан Кук делал вид, будто забыл, и впоследствии переспрашивал. На праздновании по поводу беременности моей бабушки он позволил себе выпить лишнего и настолько расчувствовался, что до вечера рассказывал деду историю своей бурной жизни, отвлекаясь разве что на сверку маршрута, поскольку они уже вышли в пролив Пентланд Ферт и теперь огибали северную оконечность Шотландии перед стартом по финишной прямой мимо Сула Сгер14. По словам капитана, он с молодых когтей бредил морем и как только представилась возможность, рванул следом за старшим братом в училище, где из ливерпульских парней сделали военных офицеров. Отец их, профессор физиологии в тамошнем университете, всецело воплощавший его лозунг15, был огорчён, однако старший брат выбрал поприще корабельного врача и тем во многом смягчил удар. Что до юного Гриффина, то он по молодости не понимал, зачем такая служба в армии, где нужно лечить, а не убивать людей, и пустился во все тяжкие. Так он сначала оказался на кораблях, спасавших от рассерженных буров английские войска из Капской колонии на самом юге Африки16. Год спустя он уже был в числе тех смельчаков, которые под командованием адмирала Сэймура высадились на рейде у города Тяньцзинь и двинулись на Пекин, чтобы обеспечить безопасность европейцев в столице Китая. Проплавав ещё несколько лет между Поднебесной и Японией, капитан Кук, тогда ещё старший мичман, был переброшен на другой край земли и серьёзно подумывал о том, чтобы отдать швартовы вместе с какой-нибудь красавицей-аргентинкой. Не тут-то было. Кто бы мог предположить, что Первая мировая застанет его даже здесь, вдали от воюющей Европы, у Фолклендского архипелага. Оказывается, немецкое командование решило перехватить инициативу и перерубить англичанам тихоокеанские и атлантические коммуникации. Крейсерская эскадра вице-адмирала фон Шлее в первый день ноября 1914 года пустила на дно у чилийского мыса Коронель равную ей по силам эскадру противника и тем самым выполнила задачу по стягиванию в этот регион больших сил Британии, отвлекая их от европейского театра действий. Сам фон Шлее получил приказ прорываться обратно в Германию. Удачи настолько дезориентировали адмирала, что по пути он попытался разгромить базу англичан Порт-Стэнли на Фолклендах.
– Не на того напал, – пыхнул трубкой капитан Кук и долго утаптывал большим пальцем табак, вспоминая и посмеиваясь. – У нас там стояло два лёгких, два линейных и три броненосных крейсера и ещё один линкор. И это против их двух броненосцев, трёх легкочей, двух транспортников и одного госпитального. Шлее просто этого не ожидал, и мы задали ему жару. Когда мы по ним жахнули из всех орудий, немчура наложила полные штаны и попыталась было улизнуть. Мы – за ними следом. Они врассыпную. Мы тоже разделились, но не отстали. Я был на линейке, так нам достался один из их броненосцев. Справились на раз. Второй наши тоже подбили. Всех, короче, потопили, кроме «Дрездена» и госпитального. Могли бы и их уговорить, но отпустили, чтобы было кому про наши подвиги рассказать.
– А фон Шлее? – поинтересовался дед.
– Сгинул на своём флагманском «Шарнхорсте».
На Фолклендских островах Гриффин Кук прослужил ещё несколько лет. Там он встретил свою судьбу, которой оказалась вовсе не жгучая аргентинка, а скромная английская девушка, сестра его друга, приехавшая навестить брата после смерти родителей да так и оставшаяся работать в санитарной части. Обратно в Англию его перевели уже в чине лейтенанта-коммандера17. Потянулись годы почти безмятежной семейной жизни, занятой обустройством дома, воспитанием жены и детей, написанием статей для «Ливерпуль Дейли Пост» о войне и море, одним словом так бы и списали нашего капитана за выслугу лет, если бы не командировка в Северную Шотландию, на базу Инвергордон, совпавшая с приказом военного министра от 12 сентября 1931 года, по которому снижалось жалование всему личному составу. Дело понятное: мировой экономический кризис, в правительстве – лейбористы, лживый лозунг «равенство жертв» и всё такое. Но в итоге если старшие офицеры лишились 3,7% жалования, а младшие – 7,7%, то с матросов скостили аж 25%. Те не выдержали такого «равенства» и ровно через три дня подняли на базе бунт. Бунт получился самый настоящий. Первыми отказались выходить море матросы с линкора «Родней». В знак протеста они взяли и арестовали собственных офицеров. Капитан Кук попал под раздачу в следующую очередь, на крейсере «Норфолк». Однако именно он, по его словам, задал своим тюремщикам нелицеприятный вопрос, мол, что дальше. Что делать дальше, они, разумеется, не знали, и тогда он сам предложил им написать полноценный манифест, за который взялся с огоньком, как только с его рук сняли верёвки. Манифест получился достойный. Его одобрили все восставшие. Главная идея заключалась в призыве к правительству пересмотреть вопрос снижения жалования. В ответ правительство пустилось в демагогические уговоры, которые, разумеется, ни к чему не привели. Напряжение нарастало. Поговаривали, что к бастующим Инвергордона вот-вот присоединятся другие военно-морские базы. В итоге через два дня требования были всё-таки рассмотрены и приняты. Обошлось без крови, матросы остались довольны, а вот на капитана Кука был отправлен донос высшему начальству, его вызвали в министерство на разговор, после которого он вышел хоть и заслуженным – чинов с него не сняли – но пенсионером. На гражданке довольствие оказалось более чем скудным, и некогда боевой капитан, а теперь безработный принялся искать новое применение своим знаниям. Потом началась Вторая мировая. Большую её часть капитан Кук провел в ливерпульских доках, обучая молодёжь. В 1943 случай свёл его с тем же самым управляющим, что и деда. Тот как раз приехал в Ливерпуль на поиски капитана и команды для нового торгового судна «Дома Сандерсона». Команды он толком не собрал, а вот капитан пришёлся ко двору. Сейчас это было уже его второе плавание в Америку.
Когда они вышли в открытые воды, погода резко ухудшилась, и дня два дед не имел возможности продолжить общение с капитаном, голос которого теперь доносился со всех сторон – кричащий, зовущий, ругающий, ободряющий и хохочущий. Как будто над кораблём разверзлись небесные тверди, а спасительный ангел метался над тонущей в пенных бурунах палубой неугомонным демоном. Бабушке сделалось плохо, и дед не отходил от неё ни на шаг, разве что за провиантом на камбуз, хотя по его собственному замечанию, не то что есть – жить в такие часы не хотелось. Тем не менее, всё на свете проходит. Прошёл и шторм. Демон сложил крылья, набил трубку свежим сухим табаком и самочинно наведался к своим единственным пассажирам. Он осведомился, кого в качестве первенца хотела бы видеть бабушка, а когда та призналась, что девочку, сказал:
– Значит, будет девочка.
Потом он пригласил их обоих к себе в капитанскую каюту, куда до сих пор был заказан вход всем без исключения, от вихрастого юнги с вечно подбитым глазом, до громогласного штурмана, и угостил крепким английским чаем с приятной горчинкой. Говорили о России, о золоте, о жизни в собственном доме, о разном восприятии мира, свойственном разным возрастам. Бабушка первой обратила внимание я пожелтевшую вырезку из газеты на стене над койкой. Вырезка была не только в рамке, но и под стеклом. Почти половину занимала коричневато-белая фотография мужчины средних лет с настороженным лицом, какие бывают у людей, которые до конца не знают, стоит ли улыбаться фотографу и не окажется ли потом, что улыбка идёт далеко не всем. Ничего примечательного, мужчина как мужчина, если не считать довольно странной и не слишком мужской одежды, представлявшей собой куртку и брюки, простроченные мелкими ромбиками каким-то таким образом, что казались надутыми изнутри. В довершении картины на расстёгнутой куртке отсутствовали пуговицы. Судя по всему, фотография была сделана на палубе корабля. Одной рукой мужчина держался за канат, а ногу поставил на небольшой ящик. При ближайшем рассмотрении статья оказалась на испанском и била в глаза заголовком «El hombre del otro lado». Интересуясь, кто это такой, дед был уверен, что капитан назовёт человека с фотографии сыном или каким-нибудь знаменитым дальним родственником. Капитан Кук лишь плечами пожал.
– Попалась мне ещё когда я на Фолклендах служил.
– Вы знаете испанский? – спросила бабушка.
– Боже упаси! Хватит с меня английского, милочка. От многих знаний много унынья. Но я хорошо помню, что там написано. Наш вахтенный был из испанцев и любил почитывать эту газетёнку. Как она бишь называлась?.. Нет, не вспомню. Ну да ладно, суть-то в другом. Может, конечно, это всё брехня и всякие аргентинские штучки, но уж больно захотелось мне тогда, чтобы история этого парня оказалась правдой. Звучит-то как – El hombre del otro lado! Человек с той стороны! Фантастика! Робинзон Крузо и Ричард Бёрд18 в одном бокале. Ещё чаю?
– Спасибо, не откажусь, – оживился дед. – А в чём заключается его история?
– Про Антарктику что-нибудь слыхали? Ледяная стена на самом юге. Умные люди говорят, лёд там больше мили высотой. Не подступиться. Кое-кто, правда, пробовал. Незадолго до Первой мировой, году, кажись, в десятом, наш Роберт Скотт из Девенпорта возглавил туда экспедицию да неудачно. Норвежец его опередил – Амундсен. Преглупейшая вышла авантюра. Скотт и его друзья, все погибли уже на пути назад, к кораблю. С прогнозом погоды ошибочка произошла. Замёрзли. Так вот, чилийцы с аргентинцами тоже решили землю эту разведать, видимо, думали, там золотишко или что поценнее имеется, раз народ из самой Европы приплывает. А вы если карты видели, то знаете, что Антарктида прямо как рукой к Южной Америке тянется. Мы этот длинный полуостров называем Землёй Грейама, янки – Полуостровом Палмера, ну а чилийцы – Землёй О’Хиггинса. Национальный герой всё-таки, революционер.
– Тоже из шотландцев? – уточнил дед.
– Какое там! Бернардо Рикельме этого О’Хиггинса звали вообще-то. Хотя ирландская кровь в его отце, вроде бы, была. Но только дело не в нём опять же, а в самом полуострове. Потому что статья рассказывает, как в конце 1916 года, в разгар тамошнего лета, группа моряков с чилийской шхуны «Эсперанца» подобрала этого самого «человека с той стороны». Они подплыли на шлюпках к тому участку полуострова, который омывается течениями и оттого почти лишён непреступных льдов, предполагая, разумеется, что берег необитаем, когда увидели, как навстречу им бежит, кричит и размахивает руками какой-то косматый и бородатый незнакомец. Речь его они описали как странную, но членораздельную, он что-то пытался им объяснить, а себя, тыча кулаком в грудь, называл Томми Ти. Вон, видите, журналист, автор заметки, даже написал её со слов очевидцев как английский «чай» – Tea. Уж не знаю, кто были эти чилийцы и с какой пальмы они слезли, только в дальнейшем, когда они уже все дружно прибыли на корабль, выяснилось, что парень говорит на странноватом, однако вполне понятном диалекте немецкого. Первым делом этот Томми взмолился, чтобы ему разрешили постричься и побриться. Фотография была сделана после посещения корабельного парикмахера. Своим спасителям он поведал, что путешествовал через Антарктиду с несколькими спутниками, которые по очереди погибли, а сам он уцелел лишь чудом, когда его Gelndefahrzeug, то бишь вездеход, как мы с недавних пор говорим, провалился в глубокую трещину.
– Но ведь я где-то слышал, что первый вездеход придумал какой-то француз тоже где-то году в 1916-м, – удивился дед, никогда на плохую память не жаловавшийся.
– Вот именно, вот именно… То, что мы называем вездеходами, по сути, появились перед самой войной. Ваши русские изобретатели, если не ошибаюсь, тоже к этому руку приложили. Очень странно. Одним словом, журналист дальше описывает, как они потом вместе с этим Томми вернулись обратно на побережье, и он, отдохнувший и отъевшийся, повёл их по своим следам показывать, как ему всё это время жилось. Они увидели палатку и несколько ящиков с провизией. Палатка была из необычного, очень тонкого и очень прочного материала, похожего на его одежду. Ящики тоже не деревянные и не железные, из пластмассы, но таких у нас нигде не делают ввиду очевидной дороговизны. Никакого оружия у него при себе не оказалось. Провиант уже заканчивался, повсюду валялись пустые банки и коробки, тоже из пластика, причём почти прозрачного. Кого как, а лично меня в этой статье поразило описание обнаруженных пластин, которые, по словам этого Томми, принимали солнечный свет и превращали его в электрическую энергию.
– А разве такое возможно? – спросила бабушка.
– Понятия не имею, но журналист пишет, как его собеседники видели, что от этих «батарей» работал и свет фонарика, и даже плитка, на которой можно было готовить. Вот бы мне такое в хозяйство!
– И чем всё закончилось?
– Ну, как водится, парня допросили на предмет золота и вообще всего того, что он видел. Оказалось, что он пробирался со своей экспедицией по ледяным горам чуть ли не больше года. Много месяцев без солнца, так что даже «батареи» не сильно помогли. Был уверен, что сбился с дороги, потому что компас вёл себя, как хотел, а ориентирами служили звёзды да окружающий рельеф. В какой-то момент, по его словами, «поменялись даже звёзды». Чилийцев увиденное удивило, но рассказ показался выдумкой сумасшедшего. Они решили приступить к собственным исследованиям, ради которых сюда приплыли, а Томми Ти оставили жить с командой на корабле в ожидании их возвращения, чтобы потом всем вместе пойти обратно в чилийский Пуэрто Наварино. В общей сложности чилийцы провели в Антарктиде почти две недели, убедившись в том, что побывавшие здесь до них европейцы, вероятно, все такие же выжившие из ума, как этот Томми, потому что ничего похожего на золото, ничего вообще, кроме льдов и снежной пустыни, не обнаружили. На этом можно было бы ставить точку, если бы не два последних обстоятельства, о которых упоминается в статье. Во-первых, у чилийцев были ещё и разведчики, которые покидали общий лагерь и первыми шли вперёд, а потом давали сигнал о том, что есть смысл подтягиваться остальным. В последнюю свою вылазку перед возвращением они, по их собственным словам, добрались до огромной расселины во льдах, перебраться через которую не представлялось возможным. Каково же было их изумление, когда, заглянув в провал, они увидели далеко внизу зажатым между отвесными ледяными стенами тёмный предмет прямоугольной формы. В бинокль удалось рассмотреть кузов гигантского автомобиля, застрявшего вверх колёсами, утыканными шипами. Во-вторых, когда, не солоно хлебавши, они вернулись на борт «Эсперанцы», их встретило известие о том, что Томми Ти исчез. Исчез, будто его никогда и не было. Правда, прихватил с собой одну из шлюпок. Произошло это после того, как кто-то из команды, в ответ на вопрос, сообщил ему, что на дворе семнадцатый год двадцатого столетия. С этого момента бедняга совершенно сбрендил, ходил по кораблю, бормоча «Этого не может быть…» и в итоге пропал. А теперь ещё раз внимательно посмотрите на фотографию. Вернее, на ящик, на который он поставил ботинок. Уверен, что это один из тех, которые принадлежали ему. Я долго не мог понять, что меня в этом снимке смущает, а потом догадался – цифры.
– Те, что на ящике? – пригляделся дед. – 2020? И что такого?
– Готов поспорить на мою трубку, что это не просто цифры, а год. Год отправления Томми Ти в его антарктическую экспедицию. Журналист об этом не догадался, а я знаю, что так поразило парня, когда ему сказали, что он оказался в 1916 году. Он пришёл к нам из будущего.
Хотя дед, как вы поняли, хорошо запомнил мельчайшие подробности того разговора в капитанской каюте, сам он с тех пор начал не то чтобы сторониться капитана Кука, а всё как-то меньше и меньше пересекался с ним по делу и без. Дед у меня был человеком сугубо практичным и всяких выдумок терпеть не мог, а когда я подрос и стал увлекаться фантастическими книжками, моих восторгов не разделял и советовал матери взяться за воспитание «лунатика». Зато его не могло не радовать то, что наравне со всякими жюлями вернами, конан дойлами и гербертами уэллсами я зачитывался Майн Ридом, Хемингуэем, Марком Твеном и тем более нашим соотечественником, единственным, кому довелось войти в узкую обойму классиков мировой литературы – Рагнаром Гисли Эйнарссоном. Причём не столько его наиболее известным романом «Чужой в Африке», сколько сборником рассказов «Тропик Экватора». Если вы тоже их читали, то не можете не согласиться, что жанр короткого рассказа, навеянного личными впечатлениями, давался ему легче, нежели тяжеловесное повествование о жизни вымышленных персонажей. Интересно, что после того вынужденного путешествия «зайцем» в Европу и обратно, дед больше никогда не покидал нашей Фрисландии. При этом путешествия в дальние страны всегда манили его, но только не путешествия во времени. Он считал, что неплохо разбирается в официальной науке, и у него на этот счёт было даже своё личное мнение. Представь, говорил он мне, где окажется машина времени, если Земля, во-первых, крутится со скоростью тысяча мль в час вокруг своей оси, во-вторых, со скоростью шестьдесят семь тысяч миль в час летит по орбите вокруг Солнца, и, в-третьих, вместе с Солнечной системе мчит по Галактике со скоростью четыреста девяносто тысяч миль в час? Согласись: очень далеко от той точки, куда пытается попасть путешественник во времени, если вздумает вернуть его вспять пусть даже не минуту. Я не соглашался, спорил, однако сознавал, что при расчётах подобных временных перемещений придётся учитывать не только само время, но и скорость.
К сожалению, я услышал от деда эту историю про капитана Кука и про вырезку из газеты лишь через несколько лет после того, как не стало бабушки. Интересно, как бы она прозвучала в её пересказе. Увы, мне было не суждено узнать, что она по поводу всего этого думает. Чему виной, отчасти, я сам. Однако не буду забегать вперёд…
Судно с блудным сыном подошло к причалу Окибара, когда с севера уже задули холодные ветра. Фрисландия готовилась к зиме, что и капитан Куку, и наученный некоторым опытом дед восприняли как предпосылки успеха. В Европе люди зимой гораздо охотнее употребляют напитки, которые не просто так названы горячительными. А надо сказать, что по пути домой они с бабушкой потратили не один час, обсуждая и прикидывая, как правильно преподать старейшинам заморские дары, чтобы никого не обидеть, чтобы шотландцев не выгнали с позором и чтобы в итоге можно было рассчитывать на некоторую прибыль. Бабушку, конечно, удивило то обстоятельство, что кого-то нужно уговаривать пить алкоголь, поскольку у неё на родине это было в порядке вещей и считалось чуть ли не национальной традицией, особенно когда речь шла о праздниках и праздничных застольях. Но если на её новой родине таких обычаев не водилось, рассудила она дальше, зато там часто бывает холодно, почему бы ни объяснить тем же старейшинам, что шотландский виски – прекрасное средство для согрева, так сказать, натуральное лекарство. Его можно пить, им можно растираться. Заодно улучшается настроение. Кроме того, очень хорошо прочищает желудок в случае отравления. Для пущей важности дед облачился в свою американскую военную форму, нацепил медаль, вышел на палубу и приготовился к радушной встрече. Толпа на причале оказалась небольшой, музыка не звучала, флаги не реяли. Хотя, как я уже упоминал, появление в наших водах чужеземных кораблей было и остаётся явлением нечастым, местные жители исстари относятся к ним с опаской и никогда не знают, ждать ли радости или беды. Поэтому обычно навстречу выходят торжественно одетые горожане, тогда как за бойницами соседней крепости на всякий случай прячутся с заряженными ружьями и пушками караульные. Некоторые из них по-прежнему предпочитают луки и арбалеты.
Судно причалило, капитан Кук произнёс в мегафон заранее подготовленную приветственную речь и в конце представил собравшимся живого и невредимого «Бора из рода Рувидо», который вернулся с большой войны целым и невредимым. Соплеменники не сразу узнали деда, а когда узнали, то у всех отлегло, и команду корабля в полном составе пригласили в город. Деду была выделена повозка с лошадьми, он посадил на неё бабушку, и они первым делом помчались в деревню проведать дедово семейство. Если бы дед задержался в Окибаре, это было бы воспринято как неуважение к родственникам. Сначала он должен был отметиться дома, а уж потом гулять на все четыре стороны, если такова его воля. Капитан Кук был к этому готов и подыгрывал, как мог. Более того, он послушался деда и не стал сразу же объявлять гостеприимным островитянам, что специально привёз им на продажу целое судно товара. Напротив, он сказал, что держит путь дальше, в Америку, а нового местного героя подбросил просто так, за компанию. Тем самым он предоставил деду возможность самому заговорить со старейшинами о виски в наиболее подходящий момент, ненароком, чтобы никто не заподозрил подвоха и не дал им всем от ворот поворот раньше времени.
Отцом деда и моим прадедом был потомственный рыбак, настоящего имени которого я не знал до недавнего времени, потому что на острове все называли и помнили его не иначе как Авус, что и значит «дед» по латыни. Он много чего знал, многое умел и прожил долгую и полезную жизнь. Кто-то считал его грубым и чёрствым, не любившим показывать своих чувств на публике и придававшим вес каждому слову, однако в тот день, завидев бодрого и подтянутого сына, стоящего в полный рост на несущейся через поле повозке, Авус рыдал от счастья, как ребёнок, после чего у него уже не хватило сил его наказать за самовольную отлучку, что он во всеуслышание обещал сделать, когда давным-давно просил у богов помощи в его поисках. Бабушку, стоило ему понять, кто она, он стал с первых же минут кликать «дочкой» и всячески привечать, а когда его настоящая дочь, старшая сестра деда, обнаружила правду о её положении, окончательно принял как родную.
Видя, что мосты восстановлены и отношения налажены, дед засобирался обратно в город. Он не хотел рассказывать Авусу про свою задумку с торговлей выпивкой, но бабушка и здесь настояла на необходимости говорить правду, дед согласился, и Авус весь вечер слушал его историю странствий и сражений, которая заканчивалась вопросом:
– Как ты думаешь, почём наши будут брать пол-литра виски?
Тут же оказалось, что бабушка предвидела даже эту мелочь и прихватила одну такую бутылку с корабля «для пробы». Отец деда сперва понюхал стакан, потом пригубил, сплюнул и заявил, что это пойло способно выжечь из нормальной человеческой еды весь вкус. Наученный бабушкой отец возразил, мол, виски вовсе не предназначен для возбуждения аппетита, зато способствует пищеварению в целом и заодно хорошо согревает. Только надо его не нюхать или на язык капать, а пить хорошими глотками. Авус попробовал, смело хлебнул, закашлялся, ударил себя кулаком в грудь и к удивлению окружающих остался доволен. Второго глотка он делать не стал, выплеснул остатки в окошко, но заключил, что хоть на золото такой товар не потянет, бутылку на ведро берёзового сока обменять можно. Дед хмыкнул, сообразив, что если старейшины окажутся того же мнения, капитану Куку придётся плыть дальше без навара. Они переночевали, а наутро, оставив бабушку на попечение родственников, дед поехал обратно в Окибар испытывать судьбу. Чтобы моряки не питали ложных надежд, он поделился с ними откровенным мнением отца. Присутствовавший при этом разговоре штурман заявил, что не стоило открывать и предлагать виски во время еды. Либо до, либо даже лучше – после. Под вересковую трубочку с голландским табачком хорошо идёт. Атмосфера должна быть подходящая. Одним словом, бритиши решили устроить дегустацию по-своему. Дед договорился с одной местной харчевней, будто капитан Кук и его люди хотят проставиться и угостить городских старейшин в честь доброго знакомства. Это был тонкий и правильный ход. Старейшин было четверо, и они, несмотря на преклонный возраст, любили хорошо поесть. А уж если за чужой счёт, так и подавно. Кроме того, по договорённости дед расплатился с хозяином харчевни несколькими ящиками этого самого виски, что гостям показалось выгодной сделкой, а хозяин, ещё накануне как следует вкусивший их продукта, положил на него свой не успевший протрезветь глаз. Вечера ждать не стали, торжество наметили на обед. Старейшины пришли, как водится, в сопровождении городского патернуса и нескольких фортусов, были произнесены здравные речи, капитан Кук тем временем, пользуясь гостеприимством, покуривал, создавая ароматным дымком располагающую атмосферу, моряки на все голоса хвалили деда за героизм в военных действиях, будто сами были тому свидетелями, дед смущённо радовался, понимая, что в любом случае окажется не в проигрыше, блюда пустели, и, наконец, пришло время, когда кто-то предложил познакомить «почтенных мудрецов со старинной британской традицией».
Первым делом штурман раздал собравшимся специально привезённые из Эдинбурга стеклянные стаканы с толстым донышком. Поскольку виски был купажным, стаканы имели ровные, а не зауженные кверху стенки. На всех значилась фирменная надпись VAT69. Прежде чем разлить по стаканам виски, капитан Кук объяснил, что сначала обычно его согревают в руке, потом осторожно нюхают, потом берут в рот, долго смакуют вкус и лишь потом глотают. Переглядываясь и посмеиваясь, все последовали его примеру и в итоге остались довольны, как накануне Авус. Дегустацию повторили ещё дважды. Один из фортусов признался, что у него и, правда, перестал болеть живот, который донимал его с самого утра, отчего он был вынужден сдерживаться на протяжении всего предыдущего застолья. Впоследствии оказалось, что этот фортус был родственником хозяина харчевни, и тот его просто подговорил сказать что-нибудь хорошее и запоминающееся. Но выяснилось это гораздо позже, а тогда все остались довольны «британской традицией», и капитан Кук, уполномоченный мистером Сандерсоном, потихоньку стал подбираться к захмелевшим старейшинам с предложением закупить у него на нужды города десяток, а лучше два десятка, хоть вообще-то выгоднее все три десятка ящиков столь ценного во всех отношениях напитка. Стаканы при этом отдавались в подарок и ещё некоторое количество передавалось также безвозмездно. Когда кто-то из старейшин возразил, мол, зачем им такая радость да ещё за деньги, капитан Кук не стал спорить, а буднично так заметил, что пока не предлагал эту выгодную сделку ни на севере, ни на западе острова. Старейшины Окибара, если согласятся, будут единственными во всей Фрисландии владельцами драгоценного запаса настоящего шотландского виски, которым вообще-то наслаждаются королевские дома Европы. Заслышав его речи, дед испугался, что сейчас бедного наивного капитана вытряхнут за грудки на улицу и больше не пустят в дом, однако старый морской волк и хитрый лис в одном лице оказался прав. Его последние аргументы сработали, так что в итоге старейшины единогласно согласились закупить на пробу целых сорок пять ящиков, не слишком щедро, но вполне приемлемо расплатившись за них золотом из городской козны. Обе стороны остались довольны собой. Деду даже не пришлось открывать рта. Поэтому когда потом в Окибаре возникли некоторые неприятности, связанные со слишком рьяным следованием некоторыми из наших мужичков «британским традициям», его имя всуе не упоминалось. Для своих он остался либо чудаковатым беглецом из дома, либо героем неведомой им войны.
Через восемь месяцев знакомства деда с бабушкой родилась моя мама. Почти через восемь. Родилась совершенно нормальной и здоровой, чем поначалу повергла в недоумение видавших виды повитух. Девочку назвали Эрлина, в честь одной из моих прабабок, которая вошла в историю нашего острова потому, что её единственную фолькерул выдвигал не куда-нибудь, а в старейшины. Происходило это так давно, что никто толком уже не мог сказать, за какие именно подвиги: одни считали, что за до самых седин сохранившуюся красоту, другие – что за неженскую силу богатырскую, третьи – что за недюжинный ум и здравомыслие. Мне лично нравятся все три причины, поэтому я надеюсь, что правы и те, и другие.
Кроме моей матери, детей у деда больше не появилось, и он не мог на неё нарадоваться. Сам он сперва пошёл по стопам отца, Авуса, посвящая всё свободное время рыбачеству и думать позабыв о былых шотландских друзьях с их ящиками и бутылками. Когда те покидали порт, капитан Кук честно расплатился с дедом, вручив ему положенную долю золота. Не знаю, правда ли дед сперва отказывался и поддался уговорам только ради будущей семьи, но, в конце концов, кошель с золотом он взял и, выждав пару лет, довольно оборотисто пустил в дело, выстроив неплохой сруб прямо в лесной чаще на некотором расстоянии от остальных родовых домов, постепенно превратив его в самостоятельное охотничье хозяйство и сменив отцовы рыболовные сети на собственное ружьё и арбалет. Хотя другие родственники такое его решение не приветствовали, Авус сыну перечить не стал, вероятно, понимая, что после пережитого на войне у деда руки чешутся не по холодной рыбе, а по тёплому мясу с кровью. Вообще же охотой у нас больше промышляют на севере, но у деда оказалось чутьё на дичь, особенно на тетеревов и прибрежных гаг. Зимой он ставил капканы на песца, летом бил росомах и волков. Бабушка ему всячески помогала и даже научилась тетеревов одомашнивать, чего у нас до неё никто никогда не делал. Но ей это было интересно, а малый ребёнок не позволял надолго отлучаться от дома. Она сама тетеревов выводила из насиженных яиц, сама делала вольеры, сама подкармливала, и со временем у неё получилась единственная в округе ферма, а за яйцами и тетеревами приезжали закупщики их Окибара. Со временем ей стала помогать дочь.
Моя мама рассказывала о той поре с большой любовью. Родительский дом с фермой и начинавшимся прямо за ней лесом, был для неё настоящей сказкой. Она грезила феями и добрыми волшебниками, двоих из которых встречала каждый день в большой гостиной, где её отец, если не уходил на охоту, сиживал подолгу, что-нибудь вырезая из дерева или читая ей вслух захватывающие книжки. Волшебство её матери заключалось в том, что та умела на пустом месте сделать праздник, притом вкусный и весёлый. Бабушка знала много русских песен, которые были сладкозвучнее наших, так что мама легко запомнила их на всю жизнь. Пела она их и мне, хотя, когда я просил её рассказать, про что они, отнекивалась или придумывала что-нибудь под настроение. Наверное, я жалею, что не выучил русского языка, но, как я уже говорил, кроме бабушки у нас его никто не знал, а она умерла, когда мне было года три или четыре.
Вообще-то, если честно, я не знаю, действительно ли она умерла и действительно ли всё было так, как рассказал дед, вернувшийся с той злосчастной охоты. Только уже став взрослым, я почти случайно вспомнил, что ей предшествовало и чего не мог помнить никто, кроме меня. С дедом я на эту тему так никогда и не заговорил, избегая услышать правду, да и сейчас мне откровенно стыдно её касаться. Может быть, надеюсь, хочу надеяться, что я неправ, что ничьей, а тем более моей вины в смерти бабушки нет, однако вот коротко те события, которые я собрал по крупицам, наблюдая за соседским малышом, который, играя перед домом, то и дело резво перебегал от отца к матери и обратно. Не знаю, что это был за день, зима стояла или лето, наверное, зима, потому что я заснул на тёплой печи, а когда проснулся, услышал тихий разговор матери с бабушкой. Я претворился, что сплю, и просто слушал, почти не понимая, но запоминая отдельные слова, которые произносились так, как если бы это была тайна. Думаю, говори они просто и буднично, я бы даже не обратил на них внимания, а так мне показалось, что я узнал интересный секрет, но ведь меня всегда учили, что секретов в семье быть не должно, и вечером я подошёл к деду и прямо спросил:
– А правда, что мама не твоя дочка?
Дед как-то странно на меня посмотрел, сгрёб за плечи, заглянул в глаза и спросил, с чего я это взял. Говорил он спокойно, я не почувствовал подвоха и выложил всё, что мог: мол, мама бабушкина дочка, но отец её не он, мой дед, а какой-то «русский начальник», что они вместе воевали, и так получилось. Дед погладил меня по волосам, сказал, что я всё неправильно понял, хотя вообще я молодец, и мы завтра пойдём с ним кататься на санках. При мысли о санках всё прочее разом выветрилось из моей белобрысой головы, и я думать забыл о том разговоре.
Поначалу ничего как будто не произошло, а потом дед с бабушкой ушли в лес проверять силки и капканы. Иногда, особенно зимой, она помогала ему в этом деле. Уходил дед обычно дня на два, а тут его не было так долго, что все стали безпокоиться. Мать осталась со мной, а отец с родственниками отправился на поиски. Потом, помню, мама горько плакала, и я её успокаивал, не понимая причины слёз. Сначала вернулся отец, следом за ним и дед. Бабушки не было, но я, кажется, поначалу даже не придал этому значения. А когда спохватился и стал расспрашивать, отец сказал, что на них с дедом напала стая волков, и бабушке не повезло. Я ждал её возвращения несколько лет, поскольку не мог поверить в то, что дед, такой сильный и храбрый, не сумел её спасти. Со временем воспоминания о тех событиях стали расплывчатыми, и я перестал ждать. Остались только грусть и жалость к маме и деду. И лишь много позже тот играющий с родителями мальчик заставил меня всё заново пережить и представить, что и как могло произойти на самом деле. Конечно, я не поверил в то, что гибель бабушки случилась по воле деда. Разве можно всю жизнь любить свою жену и так её приревновать к прошлому, чтобы пожелать ей смерти? Стечение обстоятельств, совпадение, судьба, наконец, но только не злой умысел. Тем более что с тех пор отношение деда к дочери нисколько не изменились, а преждевременная утрата бабушки явно заставляла его ежечасно горевать. Меня он продолжал любить так же, как и в детстве. Когда он рассказывал мне о своих похождениях во время войны в Европе, голос его ничуть не дрожал, так что только недавно я проанализировал всё слышанное от него ранее и пришёл к неутешительному выводу: никаких преждевременных родов у бабушки вовсе не было. Она родила в срок, но не от деда, а от того самого начальника комендатуры, при котором состояла переводчицей и который, выходит, опередил деда где-то на месяц. И что, думал я. Разве это настолько важно? Если так и было, это означало, что мне дед тоже по крови как бы чужой. Но ведь я этого нисколько не ощущал. Он был моим дедом, родным, всегда и навсегда, другого я не знал и знать не хотел, а значит, кровь в этих делах не так важна, как постоянная близость, забота да любовь. К матери я с расспросами не приставал ни разу. Я понимал, что если пойду на это, пока дед жив, может произойти нечто плохое, и наша семья, наш род распадётся. Когда же деда не стало, спрашивать было уже как-то незачем, да и совестно. Наверное, я просто-напросто боялся сам оказаться в положении отвечающего за свои поступки, пусть и детские, пусть и неосознанные, но оттого ничуть не менее значительные и, если уж совсем откровенно, то подлые. Я не должен был болтать лишнего тогда и не имел права пытаться свалить вину на кого-то ещё теперь. Сегодня, когда я делюсь своими радостями и горестями с экраном компьютера, я уже не в состоянии никого задеть, и поэтому делаю это со всей допустимой откровенностью и почти не таясь. Я потерял родных, потерял мою Фрисландию, но обрёл свободу и волю к правде, какой бы фантастической и по-своему страшной она вам ни показалась. А потому я позволю себе вернуться к моей истории.
Как вы могли понять по незавидной судьбе заезжего проповедника и неудавшегося миссионера Ури Шмуклера, виски у нас так и не прижился. Когда капитан Кук с командой на обратном пути из Галифакса решил нас проведать и снова бросил якорь на расстоянии нескольких вёсельных гребков от Окибара, его встретили по-прежнему радушно, однако быстро дали понять, что задерживаться он может ровно столько, чтобы пополнить запасы провизии и питьевой воды. Раздосадованный, он хотел было пообщаться со старейшинами, и обнаружил, что тех, кого он знал, уже переизбрали. Причём именно из-за их слабохарактерной уступки перед заморским зельем. За то время, что он ходил до Канады и обратно, в Окибаре были отмечены случаи пьянства, двоих местных даже пришлось изгонять из их родов, харчевня, где наших знакомили с «британской традицией», чуть не сгорела, так что общее собрание патернусов строго постановило впредь никакой горячительной отравы от чужеземцев не принимать. Капитан Кук успел пообщаться с дедом (который, собственно, и объяснил ему расстановку сил), купил у него на собственные деньги несколько роскошных по европейским меркам песцовых шуб и отплыл восвояси. Больше они не виделись.
Я смело пишу «дед», «бабушка» потому, что так их всегда воспринимал. Когда же я удосужился подсчитать, сколько лет было бабушке, когда она ушла из моей жизни, почти её не затронув, то ужаснулся, поскольку насчитал всего 52 года. Она была моложе меня сегодняшнего! По моим нынешним меркам она была почти девчонкой. Но когда тебе четыре года отроду, а твоей матери – тридцать один, и она твоя мать, та, к кому ты не можешь не прислушиваться по законам старшинства, родства и опыта, все, кто родились до неё кажутся тебе старушками и старичками.
Хромого Бора я помню гораздо лучше. Его не стало в тот год, когда я начал трудиться в конторе Кроули и свозил свою первую группу настоящих туристов с континента в крепость Доффайса. Дед никогда особо не болел, даже после встречи с тем голодным медведем, но когда мы обнялись на прощанье, почему-то сказал «До свиданья». Обычно он говорил «Пока» или «Бывай», хлопал меня по плечу и первым поворачивался ко мне спиной, чтобы уйти по делам. А тут и «до свиданья», и объятья, и влажный глаз. Вероятно, чувствовал. Каюсь, я не придал этому особого значения, не воспринял как сигнал, меня ждали, я спешил, и дед останется у меня в памяти именно таким: стоящим на лужайке перед домом и провожающим нашу повозку взмахом натруженной ладони. Когда через неделю мы благополучно вернулись, меня встретил задумчивый отец, молча взял под руку, чего прежде тоже никогда не делал, и отвёл к старым родовым могильникам, где появился свежий холм, а в воздухе, казалось ещё витают запахи кострища. Мы постояли, помолчали, и я поехал в трактир, где проживали и столовались наши туристы и где их, несмотря ни на что, обхаживала моя мать. Когда я её там увидел, то сразу почувствовал, что смерть деда, а по сути её отца, нисколько на ней не сказалась. Она как всегда суетилась, болтала с постояльцами и была оживлена и я бы даже сказал весела. Думаю, пережить с таким настроением смерть отца ей «помогла» безвременная смерть матери, в которой она невольно винила моего деда. Если бы я застал её убитой горем и плачущей, не знаю, но возможно, я поделился бы с ней своими подозрениями на этот счёт, чтобы хотя бы таким жестоким образом успокоить. Она ведь не знала о том, что тайна её рождения ему известна. Известна благодаря мне. И что гибель бабушки могла быть вовсе не случайной, а умышленной. Не хочу об этом рассуждать…
Своих покойников мы обычно сжигаем. Это называется у нас «генусбринг», иначе говоря «возвращение к роду» или просто кродирование. От наших предков мы унаследовали знание о том, что данное нам при рождении тело есть всего лишь оболочка души или искры вечной, которая сама по себе не может воплотиться в этом мире. Ей обязательно нужен проводник. Нечто по типу аватара в современных компьютерных играх, куда нельзя проникнуть ни рукой, ни ногой, а исключительно через электронного двойника. Как предки это понимали, не имея наших нынешних аналогий, ума не приложу, однако даже я про все эти вещи знал с детства, то есть задолго до того, как впервые увидел не только компьютерную игру, но и компьютер вообще. Без души или искры тело оказывается пустым мешком из мяса и костей. Однако при наличии оживляющей его субстанции оно не просто становится её средством передвижения в мире и орудием восприятия и переживания опыта – духовное и физическое буквально срастаются. Большинство людей даже не поймут, о чём это я сейчас говорю, настолько они привязываются к своему образу в зеркале, не догадываясь, что видят перед собой лишь повозку, а не возницу. Тем не менее, мы должны быть благодарны за своё существование в этой реальности и телу со всеми слагающими его частицами, которые принято называть атомами, от греческого «атмос», то есть «неделимый», хотя, скорее всего, в атоме больше от санскритского «атма» или «атман», что понимается как «вечная сущность». Послушав в своё время рассуждения Кроули в разговоре с Ури Шмуклером, я теперь даже склонен полагать, что оттуда же и библейское «адам» – «человечество» и «земля» как первовещество. Поскольку эти атомы проживают с нами целую жизнь, мы должны им по-дружески помочь дорасти из элементарных частиц до уровня нашей атмы и для этого побыстрее отправить в тонкие миры. Считается, что этому способствует как раз сжигание на костре, тогда как долгое гниение в земле навсегда разрывает наработанную связь между частицами «скафандра» и атмой. Если же у нас заводился какой-нибудь страшный грешник, которого никто после смерти не хотел принимать к себе обратно в род при следующем перевоплощении, его тело мумифицировали и оставляли где-нибудь подальше от людей, но так, чтобы его всегда можно было увидеть. Помнится, я крайне удивился, когда узнал, что на континенте всё свершено наоборот – там таким образом издеваются над останками людей, которых считают «святыми», то есть безгрешными. Кроули послушал мои сбивчивые рассуждения по этому поводу, грустно вздохнул, выбил на ладонь пепел из погасшей трубки и только спросил:
– А с чего ты взял, будто тот бог, который их этому научил и которому они молятся, добрый? Разве может добрый бог заставлять верящих ему людей называть себя его «рабами»? Да ещё накладывать на себя крест, соглашаясь с тем, что жизнь для них – тяжкая ноша.
Я не стал спорить, поскольку ни тогда, ни сейчас многого не понимал и не понимаю, но вопрос этот запомнил и не раз к нему впоследствии возвращался.
Через час кродирования от трупа остаётся пепел да мелкие куски костей. Пепел с золой мы обычно высыпаем в океан, а кости, которые огонь не принял, складываем в специальные короба и хороним в могильниках, чтобы было, кого вспомнить и поддержать на том свете силой мысли. Ведь очевидно, что чем больше человек сделал в этой жизни хорошего и чем больше людей о нём нет-нет да и подумают, тем больше питания на тонком уровне получает его атма. Порой настолько, что ей уже больше незачем перевоплощаться, и тогда она отправляется в странствия по другим мирам, то есть мерам, то есть измерениям. Только тогда для неё наступает настоящая «смерть» – смена мерности.
Итак, теперь и вы знаете, что я фрисландец лишь наполовину. На отцовскую. Потому что на самом деле неизвестный мне отец моей матери и мой настоящий дед был русским комендантом в немецком Берлине. Нет, я неправильно выразился: настоящим моим дедом был, конечно, Хромой Бор, а тот военный был моим дедом по крови. Я до сих пор не могу для себя решить, что важнее – кровь или близость. Иногда мне кажется, что ближе Гефеста у меня никого не было. Даже отец и мать отступают куда-то на второй план. Заменить его удалось разве что Кроули. Но про это позже.
Мать свою я любил и люблю. Будучи младшим в семье, я получал всё самое лучшее, и даже отец никогда толком меня не отчитывал и не наказывал, разве что отшлёпал однажды, когда я, если вы не забыли, принёс ему железный крестик с кургана. Вероятно, именно поэтому я воспринимал обоих своих родителей как должное, а их ко мне отношение – как вполне заслуженное, и не ценил. Они всегда были при деле, всегда чем-то заняты, поэтому их любовь казалась мне эдакой калиткой в заборе: да, она в любое время дня и ночи открыта, но вообще-то вокруг – преграда. Сначала дед, а потом Кроули, несмотря на разницу в возрасте или благодаря ей, были мне ощутимо ближе родителей. Может быть, тому виной подспудное чувство, что они не обязаны со мной возиться, и потому я с восторгом воспринимал их внимание, которое оба дарили мне со всей искренностью, свойственной пожившим людям. А может быть, тот случай, когда я по глупости предал бабушку, выдав её тайну деду, и отдалил меня от матери: сознав, что сделал гадость, я малодушно испугался, как бы она про это ни узнала и ни прокляла меня. Обидные слова, подзатыльники и ремешок мне не были страшны, но вот проклятье – я знал, что в гневе наши женщины умеют ведьмачить и наводить порчу. Историй о том, чтобы чья-то мать портила жизнь своим детям, я, признаться, не слыхал, и всё же не хотел становиться первой жертвой. Тайна осталась тайной, дед, возможно, и сам забыл мою детскую откровенность, однако на протяжении ещё многих лет каждое резкое слово в мой адрес из материнских уст заставляло меня внутренне сжиматься в ожидании разоблачения.
Со временем, по мере моего взросления, отец из отца сделался мне близким другом, а мать, нет, разумеется, не подружкой, но её родительское внимание довольно долго помогало мне бороться с искушениями слабым полом. Влюбчивым я никогда не был, хотя сверстницы из соседних с нами родов-деревень меня интересовали столько, сколько я себя помню. Вполне, признаться, невинно, но оттого ничуть не менее сильно. Я никак не мог взять в толк, почему с ними не получается дружить точно так же, как с обычными мальчишками. Сестра и её подруги общались со мной, правда, нехотя, исключительно свысока, подтрунивали и подшучивали, что и понятно, поскольку они были старше и если не умнее, то уж во всяком случае опытнее. Их я просто не понимал. А когда сталкивался где-нибудь с новой девочкой моего возраста или младше, считал, что она не должна чувствовать себя хуже знакомых мне мальчишек, и обращался с ней соответственно, часто запанибрата, и это оказывалось в корне неправильным. Я обжигался, горевал, иногда даже страдал, заводил очередные знакомства, снова обжигался и снова не выносил из этого никакого урока.
Обычно эти случайные встречи происходили во время наших с отцом странствий по острову. Когда мне исполнилось четырнадцать, и я уже постиг все основные премудрости школьного образования, он стал часто брать меня с собой. Выше я уже упоминал об этом в связи с той рыбой, что водится у наших берегов. Мы проверяли гарпуны, укладывали на дно баркаса сети, которыми вообще-то не собирались пользоваться, брали спальники, тёплые и непромокаемые, и отчаливали, покидая отчий дом на две, а иногда и на три ночи. Если вы думаете, что всё это время мы только и делали, что били зубаток, то сильно ошибаетесь. Как я потом понял, для отца промысел был лучшим способом уйти на время от домашних забот и с головой окунуться в тот мир, который вечно манил его своей неизвестностью и непредсказуемостью. Иногда мы, действительно, только плавали да искали добычу. Но чаще всего, особенно ближе к зиме, когда выловленная рыба долго не портится, мы в первый же день добывали столько, сколько нам было нужно, а потом причаливали к берегу, либо совсем безлюдному, либо, наоборот, поближе к какому-нибудь городку и, в зависимости от обстоятельств, либо проводили время у костра за разговорами, либо надёжно прятали улов и шли в народ. В обоих случаях домашним подробностей наших плаваний знать не следовало. Думаю, мать, хотя и не подавала виду, догадывалась, поскольку раза два мы возвращались вообще без рыбы, которую умудрялись всю без остатка продать на соседних рынках, но зато при деньгах, вырученных за неё. Что до Тандри, моей старшей сестры, то она никогда на отца не претендовала и к нам в попутчицы не просилась. Поначалу ей вполне хватало домашних дел, а потом – ухажёров из Окибара, куда она частенько наведывалась по выходным дням и где в итоге обрела своё счастье с талантливым, как все уже тогда говорили, программистом Гордианом. Отец и дома никогда не хандрил, но в поездках ещё больше преображался, веселился, потешал меня разными байками, легко сходился с незнакомыми нам людьми, заигрывал с симпатичными девушками и женщинами, одним словом, показывал мне пример, а уж дурной или достойный – решал я сам. Ничего дурного я в этом не видел и переживал лишь потому, что у меня самого такое обаятельное поведение никак не получалось. В конечном счете, за несколько лет подобных странствий мы постепенно оплыли весь наш остров. Правда, на севере, на родине отца, в городе-крепости Кампа я побывал ещё раньше. Как-то летом мы съездили туда всей семьёй – с мамой, Тандри и даже дедом.
Если вы решили, что жизнь у нас на острове, особенно по сравнению с континентом, тихая и безоблачная, значит, я никудышный летописец. Или пишу, опережая события и не слишком вдаваясь в подробности истории. Для того, чтобы создать у вас такое ошибочно радужное представление, нашим предкам пришлось немало посражаться в довольно кровопролитных баталиях, отстаивая, как говорится, свободу и независимость. Я счёл уместным обмолвиться про это именно сейчас, потому что в Кампе нас тогда никто из родственников не ждал: родители отца сгинули в так называемую «войну Кнут-Кнута», и он с малых лет воспитывался в приютившей его чужой семье, от которой на момент нашего приезда остались не густо: двое его сводных братьев и сестра. Им до нас особого дела не было, все вели собственные хозяйства и жили собственными семьями, и только правила приличия и гостеприимства вынудили их провести с нами вечер, когда отец собрал в своём бывшем доме старых друзей и дальних родственников и закатил знатные посиделки с песнями, танцами и братаниями. Там я впервые познакомился с девочкой, которая мне почему-то сразу понравилась, хотя впоследствии, сколько я ни вспоминал её, ничего уж такого необычного ни в рыжей чёлке, ни в хитрых зелёных глазах не находил. Более того, когда мы случайно встретились там же, в Кампе, несколько лет спустя, я сделал вид, будто не узнал, и если бы не отец, который тоже заметил её среди рыночной толпы и окликнул по имени, не дрогнув, прошёл бы мимо. Она была дочкой одного из его приятелей, и мы, помнится, постояли и поговорили о том о сём. Похоже, мой отец интересовал её куда больше, нежели я, с кем она под шумок тогдашней вечеринки нашла предлог несколько раз храбро поцеловаться. Не помню даже, как её звали, что, признаться, на меня непохоже.
Кстати, я, кажется, до сих пор не назвал имени своего отца. Хэмиш. Отца звали Хэмиш. Образовано оно, как я узнавал, от формы звательного падежа ирландского и шотландского имени Шэймас, которое в английском соответствует Джеймсу. Отец говорил, что так же звали и его отца, и отца его отца. Никогда не понимал подобного отсутствия воображения. Северяне, одним словом. Чего с них взять?.. Когда-то давно, да, возможно, это была всеобщая традиция, род шёл по мужской линии, и его надлежало таким вот неуклюжим образом поддерживать. Сегодня же, если у отца и сына одинаковые имена, это свидетельствует лишь о том, что они считают себя носителями посконных обычаев и хотят, чтобы так о них и думали окружающие. Я отнюдь не против устоев, но против крайностей. Взять хотя бы упомянутую «войну Кнут-Кнута».
Не война это, конечно, была, но вражда, долгая и кровавая, двух Кнутов – отца и сына. Оба были тоже родом из Кампы, причём отец слыл человеком весьма уважаемым и не раз избирался сепсусом. А сын посчитал, что отец его притесняет и не даёт развернуться. Он подговорил дружков, чтобы вместе расквитаться с родителем за обиду. Кто-то не то проговорился, не то умышленно разоблачил заговор, возмездие не состоялось, да только в результате началась затяжная междоусобица. Подробностей не знаю. Сколько спрашивал, все разные былины в качестве доводов приводят. В итоге же Кампа превратилась в раскалённый горн, в котором, как в христианском аду, разгорались нешуточные страсти, поглощавшие всё больше и больше ни в чём изначально не повинного народа. Дошло до поножовщины и убийств. Кнуту-сыну пришлось бежать. Укрылся он, как потом оказалось, неподалёку, на Фарерских островах, откуда через год-другой нагрянул в родную Кампу с целой ватагой тамошних сорвиголов, которым пообещал после победы над Кнутом-отцом и его соратниками денег и земель. Мой отец хорошо помнил, как той ночью весь город был разбужен языками пламени и треском горящих домов, а по улицам рыскали страшные тени и рубили всех встречных и поперечных острыми топорами на длинных рукоятках. Они с матерью забрались в подпол, а его отец побежал биться с пришельцами. Когда он через долгое время не вернулся, мать пошла на его поиски, и он её тоже больше не видел. В следующий раз дверца подпола открылась только под вечер. Отец всё это время не двигался, ничего не ел, умирал с голода, но послушно ждал. Оказалось, что пришли соседи, заметившие запустенье. Отца вынули из-под земли, кое-как отогрели и накормили, а когда он наутро проснулся, к нему в кровать забрался соседский сын и радостно объявил, что обоих его родителей нашли зарубленными. Отец не растерялся, дал мальчишке кулаком в нос и сбежал. Причём не в отчий дом, а куда глаза глядят, то есть куда подальше. Даль оказалась не такой далёкой, и побег скоро закончился на небольшом хуторке в пределах видимости крепостных стен, не справившихся с защитой тех, кто в них верил. Там отец и остался на несколько последующих лет, за кусок хлеба и крышу над головой помогая приютившему его семейству разводить пчёл и заготавливать пушнину. Война Кнут-Кнута со временем осталась в прошлом.
Для всех, но не для него. Старший Кнут умер своей смертью, уважаемый и почитаемый горожанами по-прежнему, будто не он стал одной из причин той междоусобицы. Мой отец твёрдо знал, что его отец погиб, защищая Кампу от фарерцев, и потому не стал мстить старику. Зато Кнут-младший, сам превратившийся из злобного юнца в грозного «ястреба», как у нас таких называют, и то и дело преспокойно возвращавшийся в город из разъездов по миру, где он слыл умелым военным наёмником, не позволял затянуться детской ране. Иногда наш фолькерул представляется мне слишком наивным для нынешних времён. Кнута, разумеется, отрезали от всех родов и сочли, что для него это будет страшной карой и достойным возмездием. А он чихать на всех хотел. Не желаете подавать руки и разговаривать? Больно надо! Наведывался в Кампу, когда заканчивался очередной контракт, гулял с бывшими дружками, надоедало – снова отправлялся куда-нибудь делать своё кровавое дело. Несправедливость коробила отца. Он долго её терпел, опасаясь навлечь всеобщий гнев на своих приёмных родителей, однако когда окончательно оперился и встал на ноги, явился как-то раз к дому, где имел обыкновение останавливаться Кнут, дождался ночи и… Если вы почитаете наши архивы того времени, то узнаете, что Кнут погиб во время пожара, вспыхнувшего по недосмотру. Мол, гости напились заморских гадостей, заснули, кто-то уронил очаг, ну дом и полыхнул. Сегодня эта трагедия почти сорокалетней давности – лучшая пугалка для нашей несмышлёной молодёжи, красноречивее любых других доказывающая опасность употребления алкоголя. И только мы с отцом знаем, как всё было на самом деле. Я, правда, знаю с его слов. Отправься мой дед на поиски золота чуть пораньше, глядишь, я бы тоже в этом поучаствовал. Не судьба. В газетах почему-то умолчали, что из горящего дома спаслись все, кроме хозяина. Его мой отец нашёл в спальне, слегка придушил, приковал за ногу к железной кровати наручником, который нашёл там же, чуть ли не на тумбочке, поскольку, как я потом понял, Кнут любил предаваться со своими многочисленными поклонницами подобным играм, поднял ложную тревогу, дав всем лишним возможность убраться подальше, привёл жертву в чувство, объяснил, за что, и поджёг комнату в нескольких местах, а потом, прихватив с собой съестное, заперся в подвале и долго слушал, как орёт Кнут, как бегают люди, как вершится запоздалое правосудие. Круг замкнулся. Из подвала он вышел новым человеком, снявшим с души грех вынужденного прощенья. Кстати, пожар получился настолько удачным, что выгорела только спальня. Никакие другие комнаты не пострадали. Когда мы ходили по Кампе, отец показывал мне тот дом. Он стоит и поныне.
С возрастом я понял, что люблю не только собирать эти и подобные ей истории о нашей островитянкой жизни, но и рассказывать их другим. Разумеется, выборочно, не всё подряд, чтобы никому, и мне в первую очередь, не было стыдно. Полная правда никогда ещё не приносила добра. Мешать правду с кривдой нежелательно, но в чистом виде правду нужно подавать всегда дозировано, с умом. Первые испытания этой моей жизненной философии я проводил на сестре. Тандри была милой девочкой, старалась меня не обижать, хотя, наверное, ревновала к родителям, как случается всегда, когда в семье есть младшие дети. Разница в возрасте на четыре года представляется в детстве огромной дистанцией, поэтому со своими опытами мне пришлось дожидаться, когда Тандри исполнится восемнадцать, а мне перевалит за четырнадцать. Тандри пошла в мать, была высока и стройна, как берёзка у нас под домом, и я почти нагнал её только где-то к двенадцати. Зато я водился с братьями её подружек, и те и другие часто трепались языком, сбалтывая уйму лишнего, и благодаря им я много чего знал о происходившем и в нашей округе в целом, и с сестрой в частности. Не ябедничал я никогда, но вот воспользоваться осведомлённостью, чтобы посмотреть, как поведёт себя Тандри – этого удовольствия я запретить себе не мог. Не подумайте обо мне плохо: мои розыгрыши и подначки носили исключительно добродушный характер. Я вообще относился ко всему женскому населению с лёгким трепетом и иногда даже излишне щепетильно, чем зачастую вызывал насмешки своих сверстников, лишённых необходимости думать и рассуждать, когда речь заходила о том, для чего нам обычно служат инстинкты.
До замужества Тандри, по моим подсчётам, влюблялась дважды, и оба раза крайне неудачно. Первый раз её избранником оказался не кто-нибудь, а сам старик Кроули, который к тому времени уже во всю заправлял своей конторой по привлечению и развлечению туристов и для начала привлёк мою мать – к посильному сотрудничеству в качестве старшей по кухне. Как вы уже могли понять, Кроули вёл холостяцкий образ жизни, никто из нас никогда не видел, чтобы у него подолгу задерживались или хотя бы гостили какие-нибудь посторонние женщины, и все, кроме меня, считали его просто забавным чудаком, который в один прекрасный день проснулся и решил, что должен открыть своё дело. На самом деле проснулся он ночью. Ночь была совсем не прекрасная, а очень даже промозглая и зябкая. Однако, как он потом вспоминал, он закутался в плед и вышел на порог веранды. Над узким проливом мутнела Луна, и в её волшебном свете островок Монако показался ему заснувшей прямо в воде гигантской черепахой. Кроули подумалось, что если эту красоту кому-нибудь показать, то она кому-нибудь тоже понравится, а кого-то, может быть, вдохновит на картину или книгу. Но прежде всего вдохновился увиденным он сам, и с тех пор каждый день размышлял, а когда не размышлял, то непременно что-то делал. Постепенно мечта стала обретать плоть: появился собственный причал, была достигнута договорённость со старейшинами о постройке такого же на Монако (причём с дальней стороны, чтобы не было видно ничего рукотворного с нашего берега), у причала закачался небольшой и тихоходный, зато вполне надёжный паром, как будто сама собой выросла просторная изба с трактиром и спальными комнатами, мать пропадала там сперва на несколько часов, потом всё чаще и чаще, потом к ней присоединилась Тандри, а потом оказалось, что предприятие если не процветает, то приносит всем заинтересованным участникам неплохой доход. Несмотря на любовь к книгам и высоко парящим фантазиям, Кроули звёзд с неба не хватал и трезво отдавал себе отчёт в том, что на первых порах его клиентами будут никакие не толпы паломников с континента, а наши же островитяне, только из других мест, например, с севера. Почему бы им летом не повадиться в наши пенаты отдыхать вдали от домашней суеты, загорать и даже купаться? Да и зимы, как я уже, кажется, упоминал, у нас помягче, поскольку мы уютно отгорожены от северных ветров густыми лесами. На какое-то время ему удалось заинтересовать развитием туризма моего отца, который как раз отправлялся со мной в одну из первых поездок в Кампу и обещал замолвить за него словечко перед своими друзьями и знакомыми. Сам же он отлавливал первых клиентов под боком, в Окибаре, среди заезжих торговцев на рынке, кого-то приглашая отдохнуть у нас лично, всем семейством, а кого-то заинтересовывая процентом от поступлений с их «протеже», то есть, с тех, кто приехал бы к нам по их совету. Впоследствии оказалось, что на самом деле он пошёл ещё дальше, и разрешение на постройку причала было не единственной договорённостью, которой он достиг на переговорах с местными старейшинами. Вычитав в очередной книжке, как это делается на континенте, он убедил их, что туризм, о котором до него здесь ни одна живая душа не помышляла, дело если не великое, то крайне выгодное во всех отношениях, поскольку способствует экономическому развитию и благополучию региона. Да, приезжие будут жить у него, но никто не запрещает им посещать городские лавки, бани, харчевни, всякие азартные и не очень игрища, одним словом, он трудится не только на себя, но и на всех, если так можно выразиться, южан. А значит и южане, в лице старейшин, могут и должны поелику возможно помогать ему. Подробностей не знаю, но слышал, что красноречье Кроули позволило ему делать первые шаги на этом новом и непростом поприще почти задаром: старейшины прониклись перспективой и раскошелились. Думаю, в накладе не остался никто. Кроули расцвёл, стал ходить чуть ли не павлином, чистым, умытым и не по-стариковски с иголочки одетым, чем крайне выгодно отличался и от своих сверстников-дедков, и местных тружеников вообще. Поскольку к тому времени я уже был вхож к нему не только на веранду, я знал, что книгами и всякими яркими журналами его снабжает с континента кто-то из родственников. Причём журналы эти были посвящены не только путешествиям, чем приводили меня в трепет потрясающими картинками, но и оружию, рыбалке, автомобилям, кинематографу, одежде, вкусной кухне, дому, литературе и многому чему ещё. Тексты были на самых разных языках, чаще других – на английском, и со временем я выучился неплохо его понимать и читал всё больше и больше. Кроули же иногда брал под мышку какой-нибудь модный журнал и отправлялся с ним к городским портным, от которых через неделю-другую приходил готовый заказ: костюм-тройка, новая жилетка, броский шарф, изящная кепка и уж не знаю, что там ещё, только вместе они превращали Кроули в стильного джентльмена, каким я представлял себе дедовского капитана Кука.
Ничего удивительного, что наша Тандри влюбилась. Для неё это было первым в жизни сильным чувством, скрывать его она ещё не умела и потому как-то раз, переборов смущение и не подозревая о том, что я листаю журналы в уголке веранды и всё слышу, подошла к курившему трубку в кресле-качалке Кроули и заявила, что намерена выйти за него замуж. Кроули её внимательно выслушал, дал вместо ответа восхитительный леденец, из тех, которыми его самого угостил кто-то из гостей с востока, где знают толк в сладком, и отправил домой ждать своего часа. Тандри тогда было лет девять. Глупышка не поняла, что от неё избавились. Я никому об услышанном говорить не стал, однако с нетерпением ждал продолжения комедии, которой хотел в полной мере насладиться в одиночку. Не прошло и двух дней, как она пожаловала снова, наряженная и красивая. Кроули всё так же сидел в кресле, зато я теперь прогуливался перед домом у неё на виду и всячески давал понять, что никуда уходить не собираюсь. Пришлось бедняжке сперва ждать, в надежде, что меня кто-нибудь позовёт, а поскольку помощь так и не подоспела, понизить голос и сообщить избраннику, что она уже ждала достаточно и явилась за ответом. Кроули снова откупился от неё леденцом. И снова намёк не был воспринят. Зато теперь я имел полное право пристать к сестре с расспросами и под угрозой разглашения её секрета выведать из первых уст причины столь внезапного и неожиданного выбора. Тандри сказала, что Кроули ещё хоть куда, что именно так о нём отзывался отец, когда недавно на повышенных тонах разговаривал с матерью, и что он ей и в самом деле очень нравится.
– Нравится?! – поразился я. – Просто нравится, а ты уже готова за него замуж? Это же не любовь.
– Ты ничегошеньки не понимаешь, – ответила Тандри и была совершенно права.
Действительно, я ожидал, что Кроули в следующий раз, если она наберётся наглости для нового захода, возьмёт её за ушко и собственноручно приведёт обратно домой, чтобы дурёхе было неповадно мешать мужчинам заниматься делом, однако когда через неделю всё в точности повторилось, наш импозантный сосед встал из кресла, поцеловал Тандри в лоб, кликнул меня, и мы втроём отправились зачем-то в трактир. Оказалось, что Кроули решил попросить у нашей матери разрешения сводить нас обоих на ярмарку в Окибар. Заканчивался сентябрь, вот-вот должен был начаться наш главный праздник, Ярново, то есть Новолетье, и Кроули, мол, вздумалось сделать нам, таким хорошим детишкам, подарки. Вообще-то ему следовало спрашивать разрешения у отца, но он в те дни был на промысле, поэтому матери ничего не оставалось, как брать всю ответственность на себя, и в итоге она уступила нашим с Кроули улыбкам и умоляющим взглядам Тандри. Честно говоря, я думал, что старик допускает жуткую ошибку: если он сделает моей сестре какой-нибудь, пусть даже мелкий подарок, она в него влюбится окончательно, и тогда уж точно пиши пропало. Но что может знать пятилетний карапуз да ещё переполненный ревностью? Кроули оказался прав: на ярмарке Тандри нагляделась на такое количество разряженных «красавцев» всех видов и возрастов, что с тех пор стала мечтать лишь о том, чтобы оказаться в городе снова и снова. Кроули в её глазах померк. Я был счастлив.
Не помню, что именно получила в подарок она, потому что сам я после той поездки был занят новеньким луком, почти настоящим, почти взрослым, из которого можно было здорово дырявить пустые консервные банки, так что мать всю неделю, пока не лопнула тетива, переживала, как бы я кого ни поранил, включая, разумеется, себя самого. Тетива же лопнула странным образом, ночью, когда я мирно спал, так крепко, что не слышал, как с промысла вернулся отец. Обнаружив катастрофу утром, я первым делом бросился за помощью к нему, однако он был хмур, как туча, и обещал произвести ремонт в слишком неопределённом будущем. Пришлось идти к Кроули и показывать ему испорченный подарок. Кроули лук перетянул, использовав леску, так что в итоге получилось даже лучше, чем было. Зато отец нахмурился ещё сильнее и, думаю, имел с Кроули серьёзный разговор. Который ни к чему не привёл: я по-прежнему дружил со стариком, а мать по-прежнему по мере необходимости кашеварила в трактире. Сейчас я понимаю, что ревность у нас в крови, и отец ревновал жену и детей к Кроули ничуть не меньше, чем дед – бабушку к её бывшему начальнику, а я – Кроули к Тандри. Важно было то, что некоторым из нас удавалось с ней совладать, а некоторым – нет. Думаю, Кроули сумел переубедить отца, поскольку, во-первых, никого не боялся, считая себя всегда правым, а во-вторых, обратил его внимание на очевидную разницу в возрасте, снимавшую, по его мнению, все вопросы относительно мотивов для тех или иных поступков. На мне бы этот довод сегодня не сработал, но отцу, наверное, он показался достаточным, так что больше никаких разборок он чинить не стал, а вот меня, как я говорил, с тех пор всё чаще брал с собой, давая понять, мол, с Кроули, конечно, интересно, но разве можно это сравнивать с путешествиями вдвоём с родным отцом. Его расчёт оказался правильным: отрочество я провёл вдали от Кроули, общаясь со стариком разве что на предмет прочитанных книг, которые продолжал у него то и дело одалживать и изучать во время наших с отцом странствий по острову.
Что касается Тандри, то второй раз она влюбилась уже взрослой девицей лет семнадцати. Причём пала она жертвой не чьей-нибудь, а моей теории о том, что девушки чаще всего вздыхают по тем, кто не обращает на них ни малейшего внимания. Конечно, я вычитал об этом в умных книжках, но когда у меня зашёл спор по этому поводу с моим закадычным приятелем Льювом (с которым мы в детстве воровали крестики у покойников, если помните), я не стал ни на кого ссылаться, и выдал этот постулат за собственный, поскольку хотел произвести впечатление поднаторевшего в подобных вопросах специалиста. Помимо Льюва, в нашей кампании были ещё ребята, и я должен был упрочить за собой роль их вожака. Расплачиваться пришлось Тандри. Объектом вожделенной страсти я с общего согласия избрал для неё недавно перебравшегося к нам в деревню жениха дочери одной моей дальней тётки по матери. Свадьбу ещё не сыграли, но парень уже жил в доме своей будущей тёщи и целыми днями просиживал в лавке за единственном известным ему ремеслом – точил разную обувку. Сапожник из него, говорили, должен был получиться изрядный, заказов и дел, связанных с их своевременном исполнением, возникало всё больше, так что я мог быть уверен: у Тандри он будет постоянно на виду. Главное же, что он был юношей не только рукастым, но и по женским меркам видным: высоким, чернявым, с торчащими из под расстёгнутой в вороте рубашки клочками волос на груди, и стеснительным. Насколько я знал, он души не чаял в своей невесте, предпочитая её общество любому другому, ни с кем, кроме клиентов лавки, не знался, а уж Тандри и в глаза не видел. Я же сестре напел, что, мол, бедняга по ней сохнет, не рад данному обещанию жениться на другой, но по понятным причинам никому в этом не признаётся и лишь с утра до ночи страдает от неразделённой любви. Тандри меня выслушала, не останавливая, а когда я замолчал, фыркнула, гордо взметнула подбородок, и сказала, что я дурак. Спорить я не стал, зато продолжал наблюдать, и скоро мы все дружно заметили, как Тандри начинает наворачивать вокруг ни о чём не подозревающего сапожника круги. Я ликовал. Он не обращал на неё внимания, по моим подначкам она могла предположить, будто это у него такая игра в недоступность, а в итоге наживка заглатывалась всё глубже и глубже. Дошло до того, что Тандри отправилась к нему в лавку делать заказ на пару новеньких туфель. Деньги она выклянчила, само собой, у матери. Мы с ребятами прятались за стогом сена на другой стороне улицы и помирали со смеху, наблюдая за происходящим в окне немым разговором. Я был на седьмом небе от гордости, потому что никто из нас не сомневался в том, что мой план наилучшим образом сработал, и искреннее безразличие стало причиной искусно зарождённого чувства. И только уже потом, дома, я оказался объектом праведной отповеди: Тандри обвинила меня в непонимании элементарных вещей, потому что, как она со стыдом выяснила, никаких любовных порывов парень к ней не испытывал. Напрямки она его, конечно, не спрашивала, но тон разговора и женское чутьё подсказали ей, что младший брат, шкодник и тупица, то ест я, ошибся адресом. А поскольку за то время, пока я водил её за нос, Тандри успела не на шутку в сапожника втюриться, обнаружение подвоха обрекло её на страдания и расточительное слёзовыделение. Самое же интересное произошло дальше. Когда настал срок забирать заказ (деньги были заплачены, ступня моей драгоценной сестры измерена, и туфли сшиты), и Тандри, посвежевшая и почти забывшая о позорной доверчивости, явилась за ним, выяснилось, что у моей теории есть и обратная сторона: сапожник тоже пересмотрел свои взгляды на женщин и, сам того не желая, влюбился в мою наивную сестру. Она даже несколько раз втихаря от всех (кроме меня, само собой) бегала к нему на свиданья, и если бы её собственный пыл к тому моменту ни поутих, ещё неизвестно, каких масштабов скандал утроила бы моя тётка. В конце концов, всё обошлось: тётка стала тёщей сапожника и вскорости заполучила целый выводок внучат, а моя Тандри обзавелась ещё не одной парой очень, кстати, неплохих туфель, причём несколько пар, по её словам, она получила в подарок.
Единственным человеком, который постоянно сидел в конторе, был сам Кроули. Туристы наведывались, иногда аж по несколько человек, и тогда мы с Тандри охотно подключались к хлопотам по паромным прогулкам на Монако, к уборке в трактире и жилых комнатах, к закупкам провианта в городе, но довольно часто никаких туристов не было дни, иногда недели, и тогда каждый из нас занимался тем, что приносило нам более или менее постоянный приработок. Туристы мне, признаться, нравились больше охоты и рыбалки, и я постоянно занимал свою голову мыслями о том, как привлечь их в соответствующих количествах, чтобы заниматься только этим, а всё остальное превратить в редкое приятное хобби. Размышление и чтение журналов привели меня со временем к очень простому решению – интернет. Телефонные кабели лежали на дне океанов, особенно нашего, Атлантического, с конца XIX века, правда, тогда они были телеграфными, но их по мере надобности нарастили до телефонных, и жители острова при желании и необходимости могли обратиться в специальную службу в Санестоле и сделать оттуда звонок в любую точку остального мира. Дома телефонов никто, разумеется, не держал, да и к электричеству вообще у нас, особенно в деревнях, отношение было всегда так себе. Хочешь с кем-нибудь поговорить, садись летом на коня или в повозку, вставай на лыжи зимой и вперёд – в гости. Конечно, заранее лучше отправить уведомительное письмо, для чего у нас издавна существовало довольно бойкое почтовое сообщение. Причём письма передавались не только и не столько через специальных почтовых, а с любым попутным транспортом, который честно доставлял послание, разумеется, не до дверей адресата, но до ближайшего отделения.
Так вот, я как-то вычитал, что на телефонные кабели привешивают новый способ связи, который на большой земле прозвали «Интернетом». Журнальчик, в котором я это вычитал, был позапрошлогодний, из чего я сделал вывод о том, что технология эта должна быть уже достаточно неплохо освоена, и поделился соображениями с Кроули. Как ни странно, он сразу смекнул, к чему я клоню, и отправился наводить справки по своим каналам, а мне велел не сводить глаз с заходивших к нам изредка кораблей, чтобы при первой же возможности немедленно отправляться навстречу команде и пассажирам с расспросами об этой новинке и о том, насколько она там у них в ходу. Как потом оказалось, спохватились мы вовремя, то есть, оказались не в конце уходящего в даль технологического паровоза, а где-то в середине. Когда мы в два голоса заговорили о необходимости иметь интернетную связь с континентом и через неё привлекать новых туристов, оказалось, что до старейшин эта тема уже кем-то доводилась, но не заинтересовала и не получила поддержки, а сейчас наша вторая волна информации была воспринята не настолько в штыки, чтобы быть отметённой с порога. Из Санестола Кроули сперва переговорил по проводу со своим континентальным родственником, и тот обещал максимально оперативно прислать ему свежую прессу по интересующей нас проблеме. Заодно Кроули пообщался с тамошними старейшинами на предмет переброски кабеля от них к нам, чтобы мы могли как следует развернуться и стать рупором всего острова. Санестол, если помните, это наш запад, там постоянно штормит, там кружит Гольфстрим, одним словом, там не то место, которое могло бы поспорить с нашим югом за первенство на туристической стезе. Все понимали, что будущее за югом. Мы же могли клятвенно обещать, что приведём своих клиентов полюбоваться на их сухопутные достопримечательности. В результате проделанной в разных направлениях работы меньше чем за два года мы обзавелись собственным мощным по тем временам сервером, нашли толковых ребят среди городских, и под моим и Кроули бдительным руководством был создан вполне презентабельный сайт, рассказывающий о радостях отдыха у нас на острове. Пришлось, конечно, повозиться с оформлением, то есть с фотографиями, поскольку изначально ни у кого из наших тут фотоаппаратов не было, потом выяснилось, что никто не умеет плёнки проявлять, потом удалось собрать целый фотоархив, распечатывая результаты в Исландии за большие деньги, потом всё это было там же отдано на сканирование, и, наконец, ура, сайт заработал. А поскольку в те времена активность в интернете только-только зарождалась, его постепенно стали замечать и, о чудо, действительно, приезжих прибавилось. Не так, чтобы гавань забилась приходящими по дюжине на дню кораблями, но раз в неделю кто-нибудь да бросал у нас якорь. Раньше судно-два в месяц – уже хорошо. Старейшины даже забезпокоились, не слишком ли они позволили нам много свободы в наших электронных активностях, поскольку, не испытывая от большой земли никогда никакой особой зависимости, мы не хотели в одночасье потерять свою самобытность и стать придатком какой-нибудь державы. Туризм туризмом, но золотая середина, по их мнению, выдерживаться должна. А то, не ровён час, снова примчат любители обращать всех в свою религию или пить с утра до ночи – кому такая радость нужна? Кроули с этими замечаниями соглашался, не мог не согласиться, однако я видел, что новые клиенты пробуждают в нём живой азарт и желание, чтобы их было больше. Наш сайт никого не обманывал и не вводил в заблуждение. На пару со стариком мы писали в текстах всё честно, как есть, сразу давая понять желающим к нам наведаться, что именно они могут здесь ожидать, а чего – ни за какие коврижки. Поэтому в итоге наши гости оказывались в целом людьми взрослыми, повидавшими мир, уставшими от его суеты и решившими провести несколько дней в уединении, среди почти первозданной природы и суровых, как им могло показаться, аборигенов. Могу вас заверить: разочарованным от нас не уезжал никто.
Пока мы заполняли сайт, произошло несколько довольно значительных событий, которым я поначалу не придал должного значения, но которые, вот увидите, повлияют на дальнейший ход моего рассказа. Во-первых, Тандри нашла-таки свою судьбу. Во-вторых, собирая разрозненные достопримечательности Фрисландии под одну общую крышу сайта, я не только ещё сильнее проникся любовью к своей родине, но и ощутил в себе определённые задатки летописца. Я буквально чувствовал, как под моими пальцами оживают образы из легенд, как скупая история наполняется жизнью и как интерес к ним посторонних сторицей возвращается ко мне энергией и желанием продолжать творить дальше. Нет, я ничего лишнего не сочинял: это было бы не честно ни по отношению к гостям, ни к нашему острову, не требующему лишних симпатий ценой досужего обмана. Просто мне казалось, что я умудряюсь находить даже в заурядном нечто такое, что влекло к себе окружающих и множило ряды наших постояльцев и мешочки с деньгами в сундуке Кроули и в комоде моей матери.
Кстати, о деньгах. С прибытия на наш остров капитана Кука сотоварищи сразу после второй мировой в их отношении произошли если не разительные, то довольно существенные перемены. У нас появились банки. Точнее, банк. Он так и называется – «Фрисбанк». Банк по континентальным меркам крохотный, в каждой из нескольких разбросанных по острову контор трудится от силы два-три человека, но он представлен во всех основных городских центрах и оказывает услуги, в частности, приезжим, у которых, как вы понимаете, нет возможности расплачиваться по-прежнему находящимся у нас в обороте золотом. Ни одна из интересующих вас лавок просто так ваши деньги не примет, будь то кроны, доллары или что ещё. Бумажки нам ни к чему. Поэтому вы первым делом идёте с корабля в ближайшее отделение «Фрисбанка» и покупаете там на ваши бумажные активы наших золотых монет, которыми впоследствии со всеми и расплачиваетесь. Банк же собирает полученные фантики в одну кучу, и кто-нибудь из сотрудников время от времени садится на отплывающий корабль (в сопровождении парочки хорошо обученных драться и стрелять богатырей) и отправляется на большую землю либо менять их на драгоценности, либо сразу закупать нужные для острова вещи. В итоге никто не в накладе, и все довольны. Со временем «Фрисбанк» зарекомендовал себя так хорошо, что старейшины передали ему право на выдачу ссуд, чем раньше занимались собрания фортусов, не ниже. Ссуды, разумеется, безпроцентные, как того всегда требовал фолькерул. Образовывались из обязательных ежегодных пожертвований всех постоянных обитателей Фрисландии. Тоже безпроцентных. Если дело, под которое давались деньги, начинало процветать, банк участвовал в его прибылях, а вместе с ним, все, чьи пожертвования участвовали в данной инвестиции. Если прогорало, что ж, участников оказывалось так много, что потери для каждого почти не ощущалось. В любом случае все знали, кому и на что идут средства, и это придавало желания всячески молодому предприятию содействовать. Кроули никаких займов не брал из принципа, привлекая средства другими способами, описанными выше. Видимо, его ирландская душа не любила делиться. Лично я был бы более открыт для общественных денег, но какое начальство станет считаться с мнением лишь недавно расставшегося с детством сотрудника?
Я, конечно, шучу. Кроули меня по-своему, по-стариковски любил и доверял, думаю, гораздо больше, нежели я того заслуживал. Ему нравился мой слог. Сам он, я уверен, мог написать заметки для сайта гораздо лучше, но для него появившийся у нас в конторе старенький компьютер представлялся чем-то диким и неприступным, так что сиживал за ним только я, а Кроули считывал получавшиеся тексты, иногда правил и часто хвалил. Фрисландию он изучил неплохо, правда, соглашался, что недостаточно для составления полноценных законченных легенд, а тем более для проведения экскурсий, которые включали выезд «на место», прогулку с гидом, то есть, со мной, мимо достопримечательностей, выслушивание запоминающегося (о, я старался!) пересказа связанных с ними событий, перекус в ближайших заведениях, ночёвку, и после свободного времени – либо возвращение, либо дорогу к следующей точке на предложенном нами маршруте. При этом подобные экскурсии, особенно многодневные, приносили нам наибольшие прибыли. Иногда в группе оказывались не только заморские гости, но и наша местная публика, главным образом, с детьми, которым мои рассказы почему-то тоже нравились.
Опять я лукавлю: я догадываюсь, почему. У нас на острове никогда не было развито издательское дело. Книги за ненадобностью не печатались. Житие родами, когда под одной крышей днюют и ночуют разом несколько поколений, позволяло младшим приобщаться к нашей истории через изустные предания бабок и дедов, что всегда полезно да только не всегда является общепринятым повествованием. Возьмите хотя бы тот же сказ про то, как трое братьев из Доффайса сватались к красавице Элинор из Санестола. На востоке он звучал так, будто отец Элинор искал для дочери мужей среди лучших из лучших, а на западе, на её родине, считалось, что это сами братья, дружно влюбившись в неземную красоту девушки, устремились завоевывать её сердце. У нас, на юге, никакими сказами вообще народ не увлекался, предпочитая то, что мы называем былинами, в которых ничего волшебного нет, а есть героизм, сила и благородство. У северян же полным-полно, наоборот, сказок, причём глубоко философских, в которых главными действующими лицами выступают животные и силы природы. Никакой унификации, одним словом. Пришлось мне в какой-то момент отпроситься у родителей, оставить на время Кроули в одиночестве и пуститься по острову говорить со стариками и собирать известные им предания. Одновременно я умудрялся заводить новые знакомства, которые впоследствии мне очень помогли, когда нужно было искать пристанища для экскурсионных групп и вообще – поддержку на местах. Не думаю, что Кроули хоть раз довелось пожалеть о той удочке, которую ему испортил трёхлетний карапуз и которая стала причиной нашего с ним первого мужского разговора.
Надеюсь, читатель уже свыкся с моей манерой то и дело сбиваться с основной сюжетной линии на всевозможные мелкие детали и пояснения, но как кто-то когда-то сказал, «дьявол в мелочах».
Ещё говорят «на ловца и зверь бежит». Стоило нам из чисто корыстных соображений подтолкнуть процесс виртуального подключения Фрисландии к остальному миру, как то и дело стали происходить интересные открытия. Как-то раз, вернувшись из исследовательской поездки по пригородам Доффайса, где мне посчастливилось узнать некоторые доселе нигде не упоминавшиеся подробности постройки крепости в Кампе, я обнаружил за своим столом в нашей конторе сосредоточенно колдующего над компьютером молодого мужчину с ухоженной рыжей бородкой и даже слишком правильным, практически римским профилем. При моём появлении на пороге он не выразил ни малейшего смущения или даже интереса, продолжая высматривать что-то на чёрном экране и то и дело отстукивая задорную дробь по клавишам. Кроме него, никого в помещении не было, поэтому мне пришлось наводить справки самостоятельно. Я кашлянул. Пальцы незнакомца на мгновение замерли над клавиатурой, на меня обратился рассеянный взгляд, хрипловатый голос сказал «Привет», и дальше всё продолжалось точно также, как было до моего появления. Я снял рюкзак, поставил его под вешалку, разулся и, беззвучно ступая по половицам в толстых вязаных носках, заглянул за плечо рыжего. По чёрному экрану вытягивались слева направо длинные зеленовато-белые строчки букв, цифр и значков, иногда экран гас, сразу же вспыхивая пустой строчкой с мигающим курсором, курсор снова устремлялся вправо, а за ним шлейфом снова толпились цифры, буквы и значки, которые печатали неутомимые пальцы. Мне никогда прежде не приходилось видеть на нашем экране ничего подобного. Я даже не предполагал, что кто-то может вот так запросто проникнуть в компьютерную душу. А в том, что передо мной именно душа компьютера, я почему-то ни секунды не сомневался.
– Я Тим, – сказал я.
– Привет, Тим. Я Гордиан, – отозвался рыжий и, не оглядываясь, протянул мне через левое плечо руку для рукопожатия.
Тут я должен сделать очередную ремарку, чтобы вам было понятно некоторое моё замешательство после услышанного. Как вы не могли не заметить по нашим названиям и языку и как бы странно на первый взгляд это ни показалось, в стародавние времена Фрисландия оказалась под влиянием римлян. Влияние это вообще-то было довольно причудливым, нигде после себя не оставившим ни малейших видимых следов. Если между Шотландией и Англией ещё виднеются кое-где остатки каменной кладки, называемой валом Адриана, который по легенде отделял северных дикарей-горцев от занявших английские равнины римских легионов, то у нас вы ничего подобного не найдёте. При этом, как я отмечал вскользь выше, грамматика наша во многом основывается на вполне классической латыни с её флексиями, заменяющими артикли и предлоги. Опять же, никаких ожидаемых памятников письменности вплоть до сего дня у нас на острове обнаружено не было. Католицизма, со всем этим обычно связанного, мы знать не знаем. Но твёрдо уверены, что без прихода римлян в качестве наших предков точно не обошлось. Более того, каким бы справедливым ни был наш фолькерул и какими бы равноправными мы, жители Фрисландии, между собой ни считались, самое время признаться в том, что нам тоже не чужды определённые стереотипы. Так мы искренне верим в то, будто среди нас ходят, отпускают рыжие бороды и клацают по клавиатурам прямые потомки тех самых римлян, которые здесь какое-то время жили, а потом безследно исчезли под ударами приплывших с востока германцев. Последних принято называть викингами, но, опять же, судя по оставшемуся нам в наследство языку, это были не общепринятые скандинавы, а люди с континента. Возможно, бриты. Даже скорее всего бриты. Так вот, эти римские потомки у нас воспринимаются, конечно, не настолько избранными, как священные коровы в Индии, но их говорящие имена и фамилии заставляют некоторых из нас ощущать лёгкий трепет. Это отнюдь не значит, что если тебя зовут, скажем, Гордиан, то тебе обеспечено безоблачное будущее и всеобщее уважение, но если в тебе нет «той самой» крови, тебя в принципе не могут звать Гордианом. Выводы делайте сами.
– Что курочишь? – поинтересовался я, замечая, что кофеварка с кухни перекочевала поближе к компьютеру и стоит, готовая поделиться душистой жидкостью, на расстоянии вытянутой руки от непрошеного гостя.
– Коды кое-какие правлю, – буркнул он в ответ и, словно угадав ход моих мыслей, пригубил холодный кофе из забытой на время чашки. Моей чашки. – Ваш сайтец медленновато загружается, вот Дилан и попросил проверить.
Я невольно задумался, кто такой Дилан, и не сразу понял, что парень имеет в виду Кроули. По имени у нас принято называть друзей и родственников, по фамилии – людей уважаемых.
Руку, кстати, я ему тогда так и не пожал. А он и не заметил. Я стоял и смотрел, как на экране компьютера творится невразумительная чехарда, в результате которой что-то должно было либо исправиться, либо окончательно сломаться. Гордиан стучал по клавишам уверенно, предполагая первое, тогда как я знал, что случится второе. Наконец, экран вспыхнул и погас. Я выругался. Гордиан досадливо шлёпнул ладонью по столу и впервые как следует оглянулся на меня.
– Что?!
– Добил?
– Кого?
Я ткнул пальцем в монитор, но тут услышал знакомый урчащий звук и увидел, что экран снова оживает знакомыми цветами и приветствиями.
– Я думал, он сдох…
Гордиан посмотрел на меня с сожалением, пожал плечами и встал со стула. Он оказался повыше меня, каким-то слишком изящным и ломким. Я понятия не имел, как быть дальше. Подумал, что если он старше, то и должен первым проявлять инициативу. Так и получилось.
– Дилан сказал, как я закончу, можно будет пойти к твоей матери перекусить. Отведёшь?
– А ты закончил?






