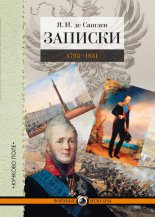Город женщин Гилберт Элизабет

Нью-Йорк, апрель 2010 года
На днях его дочь прислала мне письмо.
Анджела.
За эти годы я много думала о ней, но лично мы общались всего трижды.
Первый раз – в 1971 году: я шила ей свадебное платье.
Второй – в 1977-м: она сообщила, что умер ее отец.
Сейчас она писала, что умерла ее мать. Не знаю, на какую реакцию она рассчитывала: возможно, хотела вызвать у меня замешательство. Но уверена, она это не со зла. Анджела не такая. Анджела – добрый человек. И, что важнее, интересный.
Но кто же знал, что ее мать протянет так долго? Мне-то казалось, она давно умерла. Как и все остальные. (Впрочем, с какой стати удивляться чужому долголетию, когда я сама цепляюсь за жизнь, как ракушка за дно корабля? С чего я возомнила, что я одна такая – старуха, которая ковыляет по Нью-Йорку в свои страшно сказать сколько лет, упорно отказываясь умирать и освобождать ценную недвижимость?)
Но больше всего в письме Анджелы меня поразила последняя строчка.
«Вивиан, – писала она, – теперь, когда мамы уже нет, может, расскажешь наконец, кем ты была для моего отца?»
Что ж.
Так кем я была для ее отца?
На этот вопрос мог ответить лишь он сам. А раз он предпочел промолчать, кто я такая, чтобы рассуждать от его имени?
Но я могу говорить за себя. И рассказать, кем он был для меня.
Глава первая
Летом 1940 года меня, девятнадцатилетнюю дурочку, отправили жить к тете Пег в Нью-Йорк. У тети был свой театр.
Чуть раньше меня вытурили из колледжа Вассар, потому что я прогуливала занятия и в итоге провалила все до единого экзамены в конце первого курса. На самом деле, несмотря на плохие оценки, я не была совсем уж законченной тупицей, но, видимо, если ничего не учить, то даже ум не поможет. Сейчас я уже не помню, чем занималась в те часы, когда должна была сидеть на лекциях, но, зная себя, рискну предположить, что вертелась перед зеркалом. (Помню, как раз в том году я пыталась научиться делать «ракушку» – освоение этой прически казалось мне самым важным делом в жизни, и далось оно мне нелегко, хотя в Вассаре все равно не оценили бы мое достижение.)
Я так и не прижилась в колледже, хотя возможностей было предостаточно. В Вассаре учились самые разные девушки и существовали самые разные группировки, но ни одна из них меня не привлекала – я просто не видела себя их частью. В том году там развелось множество политических активисток: они носили строгие черные брюки и обсуждали мировую революцию. Но мировая революция меня не интересовала. (И до сих пор не интересует. Хотя мне очень нравились их черные брюки – такие шикарные, вот если бы еще карманы не топорщились.) Были в Вассаре и студентки, отважно вгрызающиеся в гранит науки, – им предстояло стать врачами и адвокатами в те времена, когда женщины в подобных профессиях попадались еще довольно редко. Они могли бы меня привлечь, но нет. Начнем с того, что я их не различала. Все они носили одинаковые бесформенные шерстяные юбки, словно сшитые из старых свитеров. При виде этих юбок настроение у меня сразу портилось.
Не то чтобы Вассар был начисто лишен блеска, нет. Например, студентки с факультета средневековой литературы – романтичные, волоокие – были весьма миленькие, как и самовлюбленные девушки творческого склада с распущенными длинными волосами или великосветские аристократки с точеными профилями итальянских гончих. Но ни с кем из них я так и не подружилась. Вероятно, потому что интуитивно понимала: любая в этом колледже умнее меня. (Подростковая паранойя тут ни при чем: я до сих пор считаю, что все там были умнее меня.)
Честно говоря, сама не знаю, почему я оказалась в колледже, – разве что следовала предначертанию судьбы, смысл которого мне никто не объяснил. С раннего детства мне твердили, что я пойду в Вассар, но никто не говорил зачем. Для чего это все? Что я должна извлечь из обучения? И зачем мне жить в пропахшей вареной капустой комнатушке с неулыбчивой соседкой, которая всерьез решила посвятить свое будущее общественным реформам?
Не говоря уже о том, что к моменту поступления в колледж я наелась учебы досыта. Сначала я несколько лет провела в школе для девочек имени Эммы Уиллард в Трое, штат Нью-Йорк, где преподавали блестящие выпускницы семерки лучших женских колледжей Северо-Востока США, – разве этого мало? С двенадцати лет я отбывала срок в интернате, и мне казалось, что с меня хватит. Сколько книг нужно прочесть, чтобы доказать свое умение читать? Я даже знала, кто такой Карл Великий, – неужели нельзя оставить меня в покое?
К тому же вскоре после начала учебного года я обнаружила в Покипси бар, где наливали дешевое пиво и играли джаз до самого утра. Я научилась незаметно ускользать из кампуса (мой коварный план ежедневного побега включал незапертое окно в туалете и спрятанный велосипед. О, я была грозой охраны!) и стала завсегдатаем этого заведения, ввиду чего латинские спряжения на следующее утро давались мне с трудом: я мучилась от похмелья.
Находились и другие препятствия для учебы.
Например, все эти сигареты сами себя не выкурили бы.
Короче говоря: я была занята.
Поэтому на курсе, где учились триста шестьдесят две блестящие юные девушки, я заняла триста шестьдесят первое место в списке успеваемости. Услышав об этом, мой отец в ужасе заметил: «Страшно представить, чем отличилась триста шестьдесят вторая!» (Потом мы узнали, что бедняжка болела полиомиелитом.) Так что деканат отправил меня домой, вежливо попросив не возвращаться.
Мама не знала, что со мной делать. Мы и в лучшие времена были не особенно близки. Она обожала лошадей, а я не была лошадью и не интересовалась верховой ездой, так что говорить нам было не о чем. Теперь же я так ее опозорила, что даже смотреть на меня ей было невмоготу. Мама окончила Вассар с отличием, не то что я. Выпуск 1915 года, история и французский. В этом почтенном заведении маму все помнили, не в последнюю очередь благодаря ежегодным пожертвованиям с ее стороны; поэтому меня и приняли в Вассар, и вот чем я ее отблагодарила. Случайно встречая меня в коридорах нашего дома, мама кивала мне, как дипломат на службе. Вежливо, но холодно.
Папа тоже не знал, как со мной быть, однако у него имелись заботы поважнее неблагополучной дочери – он владел рудниками бурого железняка. Да, я разочаровала отца, но ему было не до меня. Ему, промышленнику и изоляционисту, и без того хватало проблем: разгорающаяся в Европе война могла поставить бизнес под угрозу.
Что до моего старшего брата Уолтера, тот учился на отлично в Принстоне, и я его не интересовала – хотя, конечно, он не преминул выразить неодобрение по поводу моего безответственного поведения. Сам-то Уолтер ни разу в жизни не поступил безответственно. Еще в школе он пользовался таким почтением у одноклассников, что те прозвали его Пророком (я не шучу, честное слово). Теперь он изучал инженерное дело: хотел построить инфраструктуру, которая поможет людям всего мира. (А я даже не знала, что такое инфраструктура, – можете добавить это к перечню моих грехов.) Хотя мы с Уолтером были примерно одного возраста – разница в два года, – мы даже в детстве никогда не играли вместе. Когда ему исполнилось девять, он убрал из своего поля зрения все, что касалось детских забав, включая младшую сестру. Для меня в его жизни места не нашлось, и я это понимала.
У друзей и подруг тоже была своя жизнь. Их ждали колледж, работа, замужество, взрослые дела – все то, что меня совершенно не интересовало и было выше моего понимания. Вот так и получилось, что никто меня не замечал и не собирался развлекать. Меня обуяли тоска и вялость. От скуки буквально подводило живот. Всю первую половину июня я бросала теннисный мяч о стену гаража и насвистывала «Маленький коричневый кувшинчик»[1], пока родители не взбеленились и не отправили меня к тете в город. И я их не виню.
Нет, они, конечно, опасались, что в Нью-Йорке из меня сделают коммунистку и наркоманку, но до скончания веков слушать, как дочь швыряет о стенку теннисный мяч, еще хуже.
<>Так я и оказалась в городе, Анджела, и вот там-то все началось.В Нью-Йорк меня отправили на поезде – и что это был за поезд! «Эмпайр-Стейт-экспресс» прямиком из Ютики, сияющий хромированный механизм для отсылки бестолковых дочерей куда подальше. Вежливо попрощавшись с мамой и папой, я вручила свой багаж проводнику в красной шапочке и тут же почувствовала себя очень важной персоной. Всю дорогу до Нью-Йорка я просидела в вагоне-ресторане, где пила солодовое молоко, ела груши в сиропе, курила и листала журналы. Да, меня выгнали из дому – но с каким шиком!
В то время, Анджела, поезда были гораздо роскошнее нынешних.
Впрочем, обещаю не твердить через слово, мол, «в наши дни было лучше». Помню, в молодости я терпеть не могла стариковские сетования такого рода. (Да всем плевать! Всем плевать на ваше нытье про «золотое времечко», развалины вы старые!) К тому же, смею тебя заверить, я отдаю себе отчет в том, что далеко не все было лучше в 1940-е. К примеру, дезодоранты и кондиционеры тогда изрядно уступали нынешним, и воняло от всех жутко, особенно летом, а еще у нас был Гитлер. Но поезда, несомненно, были роскошнее нынешних. Вот когда ты в последний раз наслаждалась солодовым молоком и сигаретой в поезде? То-то же.
Я села в поезд в симпатичном голубом платьице с узором из птичек, желтым кантом вдоль ворота, не слишком облегающей юбкой и глубокими карманами на бедрах. Я помню это платье с такой точностью, потому что, во-первых, всегда запоминаю, что на ком надето, – всегда, слышишь? – и, во-вторых, я сама его сшила. И потрудилась на славу. Платье длиной точно до середины икры получилось кокетливым и эффектным. Помню, я пришила к нему подплечники в отчаянной попытке хоть немного приблизиться к образу Джоан Кроуфорд, но сомневаюсь, что сработало. В этом платье, дополненном скромной шляпкой-колокольчиком и позаимствованной у мамы простой голубой сумочкой (набитой исключительно косметикой и сигаретами), я выглядела не столько богиней киноэкрана, сколько тем, кем и являлась: едущей в гости к родственникам девятнадцатилетней девственницей.
В Нью-Йорк девятнадцатилетнюю девственницу сопровождали два больших чемодана. В одном путешествовали мои наряды – каждая вещь аккуратно сложена и завернута в папиросную бумагу; во втором – ткани, тесьма и швейные принадлежности, то есть все, из чего можно сшить еще больше нарядов. Кроме того, я везла с собой громоздкий футляр со швейной машинкой – тяжелой неповоротливой штуковиной, крайне неудобной в транспортировке. Но машинка была мне как родная, и без нее я не могла жить.
Поэтому она отправилась со мной.
Этой машинкой – и всем, что впоследствии у меня появилось благодаря ей, – я обязана бабушке Моррис, поэтому давай отвлечемся на минутку и поговорим о ней.
При слове «бабушка», Анджела, тебе, верно, представляется милая старушка-одуванчик, убеленная сединами. Но это не про бабушку Моррис. Она была высокой темпераментной стареющей кокеткой с крашенными под красное дерево волосами; ее повсюду сопровождало облако духов и сплетен, а одевалась она как циркачка.
Это была самая яркая женщина в мире – яркая во всех смыслах слова. Бабушка носила платья из жатого бархата невероятных цветов – она не называла их «кремовый», «малиновый» или «голубой», как прочая публика с убогим воображением; нет: она говорила «пыльная роза», «бордо» и «делла Роббиа». У нее были проколоты уши, в отличие от большинства приличных дам тех времен; в обитых бархатом бабушкиных шкатулках для драгоценностей хранился клубок дешевых и дорогих бус, сережек и браслетов, который можно было распутывать бесконечно. У нее имелся особый автомобильный костюм для послеполуденных выездов в город и такие огромные шляпы, что в театре она укладывала их рядом с собой на соседнее кресло. Ей нравились котята и косметика, которую она заказывала по почтовым каталогам; она любила читать статьи о сенсационных убийствах в таблоидах и писала романтические стихи. Но больше всего на свете бабушка любила драму. Она не пропускала ни одного спектакля в нашем городе и обожала движущиеся картинки – кино. Я часто ходила с ней за компанию, так как вкусы у нас совпадали. (Нас обеих привлекали сюжеты, где невинных девиц в воздушных платьях похищают опасные мужчины в зловещих шляпах, а потом спасают другие мужчины с гордыми подбородками.)
Понятное дело, я любила бабушку Моррис.
Впрочем, больше в нашей семье ее не любил никто. Все, кроме меня, считали ее позором и недоразумением, особенно ее невестка (моя мать), для которой лучше было умереть, чем прослыть фривольной. Говоря о бабуле, мама неизменно морщилась и называла ее не иначе как «эта вертихвостка».
Моя мать, как ты, верно, уже догадалась, романтических стихов не писала.
Но именно бабушка Моррис научила меня шить.
Она была превосходной швеей. (Ее, в свою очередь, тоже обучила бабушка, всего за одно поколение поднявшаяся от прислуги-эмигрантки из Уэльса до богатой американской леди, в немалой степени благодаря умению обращаться с иголкой и ниткой.) Бабушка Моррис и из меня вознамерилась сделать превосходную швею. Поэтому мы не только ели ириски в кино и читали друг другу журнальные заметки о том, как невинных белых девушек продают в сексуальное рабство, но каждую свободную минуту посвящали шитью. И не просто шитью. Бабушка Моррис требовала от меня совершенства. Она делала десять стежков, затем предлагала мне сделать следующие десять, и если у меня не получалось столь же безупречно, как у нее, все распарывала и велела повторить. Она научила меня обращаться с нежнейшими материалами вроде тюля и кружева, и вскоре уже ни одна ткань меня не пугала, даже самая капризная. А крой! А подкладка! А вытачки! В двенадцать лет я могла сшить корсет на китовом усе. Хотя никто, кроме бабушки Моррис, после 1910 года корсеты не носил.
В том, что касалось шитья, бабуля соблюдала строгость, и я охотно покорялась. Ее критика жалила, но не смертельно. Меня так увлекало создание нарядов, что обучение было только в радость, и я знала, что бабушка хочет лишь одного: сделать из меня настоящего мастера.
Ее редкая похвала окрыляла меня, и я еще усерднее овладевала искусством кройки и шитья.
На тринадцатилетие бабушка купила мне швейную машинку, которая впоследствии и отправилась со мной в Нью-Йорк на поезде, – изящный черный и убийственно мощный «Зингер-201». (Он брал даже кожу; при желании я могла бы прострочить обивку сидений «бугатти».) По сей день не припомню лучшего подарка. Я взяла «Зингер» с собой в школу-интернат и благодаря этой машинке обрела невероятное влияние в среде привилегированных учениц, которые мечтали хорошо одеваться, но сплошь и рядом не обладали достаточными навыками. Стоило одной сболтнуть, будто я могу сшить что угодно – а я и правда могла, – и ко мне выстроилась очередь. Девчонки из школы Эммы Уиллард одна за другой стучались ко мне в дверь, умоляя расставить платье в талии, подшить подол или подогнать по фигуре прошлогодний вечерний наряд старшей сестры. Ко мне пришла популярность – а это единственное, что имеет значение в школе. Да и не только в школе.
Должна сказать, была и еще одна причина, почему бабушка решила научить меня шить: фигура у меня не укладывалась в стандарты. С раннего детства я была слишком высокой и худой. Миновал переходный возраст, но я только еще больше вытянулась. Годы шли, а у меня по-прежнему не было бюста; туловище тянулось ввысь, как ствол дерева, а руки и ноги служили ему ветвями. Ни одно покупное платье не пришлось бы мне впору, так что проще было шить самой. А еще бабуля Моррис – благослови Господь ее душу – научила меня одеваться под стать своему высокому росту и не выглядеть при этом акробатом на ходулях.
Если тебе покажется, что я недовольна собственной внешностью, поверь, это не так. Я просто излагаю факты: да, я высокая и тощая, тут не поспоришь. Но если ты с тоской готовишься к истории гадкого утенка, который переехал в город и превратился в прекрасного лебедя, можешь не волноваться: моя история совсем другого сорта.
Я всегда была красавицей, Анджела.
Более того: я всегда это знала.
Безусловно, именно поэтому в вагоне-ресторане «Эмпайр-Стейт-экспресс» с меня не сводил глаз красивый мужчина, наблюдая, как я пью солодовое молоко и ем груши в сиропе.
Наконец он подошел и предложил мне огонька. Я кивнула, он сел напротив и начал со мной флиртовать. Мне очень льстило его внимание, но я совершенно не умела кокетничать и не знала, как себя вести. Поэтому в ответ на все его попытки завязать разговор я только глазела в окно и притворялась, будто погружена в раздумья. Я даже немного хмурилась, силясь выглядеть серьезной и значительной, хотя собеседник, наверное, счел меня скорее близорукой и угрюмой.
Ситуация грозила обернуться еще большей неловкостью, но в конце концов меня отвлекло собственное отражение в окне, которое надолго заняло мое внимание. (Прости, Анджела, но любая юная красотка готова бесконечно рассматривать себя в зеркале, так уж они устроены.) Оказалось, даже прекрасный незнакомец интересует меня куда меньше формы собственных бровей. Дело было даже не столько в степени их ухоженности – которая меня тоже бесконечно волновала, – сколько в том, что тем летом я пыталась научиться поднимать одну бровь, пока другая остается неподвижной, как у Вивьен Ли в «Унесенных ветром». Тренировки, как ты можешь догадаться, требовали предельной концентрации. Время летело незаметно; утонув в собственном отражении, я забыла обо всем.
А когда очнулась, мы были уже на Центральном вокзале, моя прежняя жизнь осталась позади, а прекрасный незнакомец исчез.
Но не волнуйся, Анджела, прекрасных незнакомцев в этой истории будет вдосталь.
И кстати! Я же забыла рассказать – если, конечно, тебе интересно, – что бабушка Моррис умерла за год до того, как поезд доставил меня в Нью-Йорк. Ее не стало в августе 1939 года, всего за пару недель до начала моей учебы в Вассаре. Ее смерть не была неожиданной, бабушка уже несколько лет болела, но эта потеря – потеря лучшего друга, наставницы, самого близкого человека – потрясла меня до глубины души.
А знаешь, Анджела, не исключено, что именно поэтому я так плохо училась на первом курсе Вассара. Может, я и не настолько тупая и ленивая. Может, мне попросту было грустно.
Я лишь сейчас это поняла, когда написала тебе.
Господи.
Как же долго до нас иногда доходит.
Глава вторая
Итак, я прибыла в Нью-Йорк в целости и сохранности – невинный цыпленок только что из скорлупы, чуть ли не с желтком на перышках.
Тетя Пег должна была встретить меня на Центральном вокзале. Так мне сказали родители, посадив на поезд в Ютике с утра, но ничего конкретного не сообщили. Например, где именно мы с ней должны встретиться. Мне не дали ни номера телефона для экстренной ситуации, ни адреса на тот случай, если я потеряюсь. Мне просто велели «ждать тетю Пег на Центральном вокзале». И все.
Но Центральный вокзал огромен, на то он и центральный, и найти там кого-либо совершенно невозможно. Поэтому неудивительно, что по прибытии я тетю Пег не встретила. Я долго стояла на платформе с чемоданами и разглядывала снующую вокруг толпу, но не видела никого похожего на тетю Пег.
Не подумай, Анджела, что я не знала, как она выглядит. Мы с ней пару раз встречались, хотя тетя с отцом не были близки. (Это еще мягко сказано. Свою сестру папа одобрял не больше, чем их общую мать, бабушку Моррис. Когда за обеденным столом разговор заходил о тете Пег, отец фыркал: «Везет же некоторым – колесят по всему свету, живут в своем выдуманном мире, бросают деньги на ветер!» А я думала: «Вот это да!»)
Когда я была маленькой, Пег иногда приезжала к нам на Рождество, но не слишком часто, так как постоянно гастролировала с театральной труппой. Но больше всего Пег запомнилась мне по нашему с папой визиту в Нью-Йорк: мне было одиннадцать, я сопровождала его в деловой поездке, и мы заехали к тете. Та повела меня на каток в Центральном парке. А потом к Санта-Клаусу. (Хотя мы обе согласились, что я слишком взрослая для Санта-Клауса, я бы ни за что такого не пропустила и втайне мечтала познакомиться с Сантой.) В довершение мы пообедали в ресторане со шведским столом. Один из чудеснейших дней в моей жизни. Мы с папой не стали ночевать в городе, потому что он ненавидел Нью-Йорк и боялся там оставаться, но ту поездку я запомнила навсегда. И просто влюбилась в тетю. Она держалась со мной на равных, как со взрослой, а что еще нужно одиннадцатилетней девочке, которую все считают ребенком?
Потом тетя Пег приезжала в мой родной Клинтон на похороны бабушки Моррис, своей матери. На службе она сидела рядом и держала мою руку в своей большой крепкой ладони. Это было непривычно и успокаивающе (в нашей семье никогда не держались за руки, представь себе). После похорон Пег крепко обняла меня – ручищи у нее были как у дровосека. Я совсем размякла в ее объятиях и выплакала целый Ниагарский водопад. От нее пахло лавандовым мылом, сигаретами и джином. Я вцепилась в тетку, как несчастная маленькая коала. Но после похорон нам не удалось как следует поговорить: ей нужно было возвращаться в город, где ее ждала работа над спектаклем. Мне стало стыдно, что я так разревелась у нее на груди, хотя это и помогло.
Ведь мы с ней были едва знакомы.
Строго говоря, на тот момент, когда я в девятнадцать приехала в Нью-Йорк, чтобы поселиться у тети, мне было известно о ней следующее.
Я знала, что Пег принадлежит театр «Лили», расположенный где-то в центре Манхэттена.
Знала, что она не собиралась строить театральную карьеру – все вышло случайно.
Знала, что она дипломированная медсестра, работала в Красном Кресте и во время Первой мировой войны служила во Франции.
Именно там, в лазаретах, Пег сообразила, что у нее гораздо лучше получается развлекать раненых солдат, чем лечить их. У нее обнаружился талант к постановке веселых незатейливых спектаклей в полевых госпиталях и бараках – задешево и на скорую руку. Война – страшная штука, но каждого она чему-то учит. Тетя Пег научилась делать шоу.
После войны она надолго задержалась в Лондоне и устроилась там в театр. Работая над одной из постановок в Вест-Энде, познакомилась с будущим мужем Билли Бьюэллом – красивым, щеголеватым американским офицером. Он тоже решил остаться в Лондоне после войны и тоже работал в театре. Как и Пег, Билли происходил из хорошей семьи. Его родителей бабушка Моррис называла «тошнотворно богатыми». (Я долго пыталась постичь смысл этого выражения. Бабушка глубоко чтила богатство; сколько же должно быть у людей денег, чтобы даже ей стало тошно? Однажды я спросила ее напрямую, и она ответила: «Они же из Ньюпорта[2], деточка». Как будто других объяснений не требовалось.) Но Билли Бьюэлл, хоть и был из Ньюпорта, не желал иметь ничего общего с тем культурным классом, к которому принадлежал. Это их с Пег объединяло. Блеск и нищета театра были им куда милее аристократического лоска «клубного общества». А еще Билли был плейбоем и любил «повеселиться» – таким деликатным словом бабушка Моррис обозначала его склонность кутить напропалую, швыряться деньгами и гоняться за каждой юбкой.
После свадьбы Билли и Пег вернулись в Америку и основали гастролирующий театр. Почти десять лет – все 1920-е – они колесили по стране с небольшой труппой и давали представления в маленьких городках. Билли писал сценарии спектаклей и играл в них главные роли; Пег подвизалась режиссером-постановщиком. К славе они не стремились: их привлекала беззаботная жизнь безо всяких взрослых обязательств. И все-таки, несмотря на отсутствие амбиций, успех их настиг.
В 1930 году, в разгар Великой депрессии, когда американцы смотрели в будущее со страхом и тревогой, мои дядя с тетей неожиданно поставили хит. Билли написал пьесу «Ее веселая интрижка» – такую жизнерадостную и забавную, что люди готовы были смотреть и пересматривать ее по нескольку раз. Это был музыкальный фарс о британской наследнице из высшего света, которая влюбляется в американского плейбоя (естественно, его играл Билли Бьюэлл). Пьеса представляла собой легкомысленный пустячок, как и прочие спектакли Пег с Билли, но почему-то обрела необычайную популярность. Возможно, причина заключалась в том, что шахтерам и фермерам по всей Америке в то время отчаянно не хватало радости и они готовы были вытрясти из карманов последнюю мелочь, чтобы похохотать над «Ее веселой интрижкой». И вот простецкая бестолковая пьеса превратилась в гусыню, несущую золотые яйца. Она достигла такой популярности и собрала столько хвалебных отзывов в прессе, что в 1931 году Билли и Пег приехали с ней в Нью-Йорк и целый год выступали в крупном бродвейском театре.
В 1932 году кинокомпания «Эм-Джи-Эм» экранизировала «Ее веселую интрижку». Сценарий вновь написал Билли, но главная роль досталась не ему. Ее отдали Уильяму Пауэллу, а Билли к тому времени решил, что стезя сценариста привлекательнее актерской. Сценаристы сами решают, когда работать, не зависят от зрительских симпатий, и режиссеры не указывают им, что делать. За успехом фильма «Ее веселая интрижка» последовала целая серия прибыльных продолжений: «Ее веселый развод», «Ее веселый малыш», «Ее веселое сафари» – несколько лет Голливуд выпекал хиты один за другим, аки сосиски в тесте. Вся эта чехарда с экранизациями принесла Билли и Пег немало денег, но также обозначила конец их брака. Билли влюбился в Голливуд и остался там. Пег же решила закрыть гастролирующий театр и на свою половину дохода от фильмов купила громадное старое полузаброшенное здание в Нью-Йорке: театр «Лили».
Все это случилось примерно в 1935 году.
Официально Билли и Пег так и не развелись. И хотя они никогда не ссорились, после 1935 года супругами они быть перестали, пожалуй, во всех смыслах. Они жили и работали отдельно, а также, по настоянию Пег, разделили счета, то есть моя тетя больше не могла претендовать на дядино баснословное ньюпортское наследство. Бабушка Моррис не понимала, как можно добровольно отказаться от такого состояния, и, вспоминая об этом, с нескрываемым разочарованием вздыхала: «Увы, деньги Пег никогда не интересовали». Она считала, что Пег и Билли не оформили развод, потому что не хотели утруждать себя формальностями – богема, что с них взять. А может, они по-прежнему любили друг друга? Если и так, это была любовь, которая горячее всего на расстоянии, когда супругов разделяет целый континент. «И нечего смеяться, – замечала бабушка. – Раздельное проживание спасло бы многие браки!»
Сам дядя Билли все мое детство где-то пропадал – то на гастролях, то в Калифорнии. И пропадал он с таким завидным постоянством, что я его даже ни разу не видела. Для меня Билли Бьюэлл был легендой: я знала его лишь по рассказам и фотографиям. Но что это были за рассказы – и что за фотографии! Мы с бабушкой Моррис постоянно натыкались на снимки Билли в таблоидах о жизни голливудских звезд и читали о нем в колонке сплетен Уолтера Уинчелла и Луэллы Парсонс. Однажды мы узнали, что он был гостем на свадьбе Джанет Макдональд и Джина Рэймонда, – восторгу нашему не было предела! В еженедельнике «Вэрайети» красовалась дядина фотография со свадебного приема. Он стоял за спиной блистательной Джанет Макдональд, на которой было свадебное платье нежнейшего розового оттенка. На фото Билли любезничал с Джинджер Роджерс и ее тогдашним мужем Лью Эйрсом. Бабушка ткнула в дядю пальцем и сказала: «Ты только глянь. Наш пострел везде поспел, колесит по всей стране. Смотри, как Джинджер ему улыбается! Будь я Лью Эйрсом, глаз не сводила бы со своей женушки».
Я хорошенько разглядела фото с помощью бабушкиной лупы, украшенной драгоценными камушками. Красивый блондин во фраке слегка касался руки Джинджер Роджерс, а та буквально сияла от счастья. Надо сказать, дядя Билли гораздо больше походил на кинозвезду, чем окружавшие его настоящие кинозвезды.
Не верилось, что такой мужчина когда-то женился на тете Пег.
Пег, конечно, замечательная, но вполне обычная, домашняя. И что он в ней нашел?
Тети Пег нигде не было.
С прибытия поезда прошло уже немало времени, и я оставила надежду, что меня встретят на платформе. Отдав багаж служителю в красной шапочке, я нырнула в плотный людской поток, изо всех сил пытаясь разглядеть в этом хаосе тетю. Ты, верно, решишь, что я струхнула, очутившись в Нью-Йорке одна без плана действий и сопровождающих, но я почему-то ни капли не испугалась. Я не сомневалась, что все закончится хорошо. Вероятно, причина в воспитании: девушки из хороших семей даже мысли не допускают, что в нужный момент никто не явится их спасти.
Наконец мне надоело бродить в толпе, я села на скамейку на самом видном месте в главном зале и стала ждать спасения.
И дождалась.
Спасителем оказалась невысокая седая дама в скромном сером костюме. Она ринулась ко мне, точно сенбернар к заплутавшему в снегах лыжнику, – с целеустремленной сосредоточенностью и боевой решимостью.
Вообще-то, слово «скромный» описывает ее костюм недостаточно точно. Он напоминал двубортный квадратный шлакоблок. Такие костюмы специально придуманы с целью обдурить весь мир, убедив его, что у женщин нет груди, талии и бедер. Этот наряд могли сшить только в Англии. На него было страшно смотреть. Кроме того, на женщине были черные массивные оксфордские туфли на низком каблуке и старомодная зеленая войлочная шляпа – любимый фасон заведующих сиротскими приютами. Я знала такой типаж по школе: бедные старые девы, которые пьют какао за ужином и полощут горло соленой водой для повышения тонуса.
Серая мышь, скучная от макушки до пяток, а главное, намеренно скучная.
Дама-шлакоблок решительно шагала ко мне с суровым видом, держа в руках фотографию в затейливой серебряной раме пугающих размеров. Она взглянула на снимок, затем на меня.
– Вивиан Моррис? – спросила она. Чистейший британский выговор сообщил мне, что моя догадка верна и двубортный костюм действительно прибыл из Англии вместе со своей хозяйкой.
Я кивнула.
– Ты выросла, – сообщила дама.
Я недоуменно вытаращилась на нее. Она меня знает? А я ее? Мы встречались, когда я была маленькой?
Заметив мою растерянность, незнакомка продемонстрировала фотографию в серебряной раме, которую держала в руках. Я с удивлением обнаружила, что смотрю на наш семейный портрет, сделанный примерно за четыре года до этого. Его снимали в настоящей фотостудии, потому что моя мать решила, что нам всем необходим «хотя бы один нормальный портрет». Родители стояли с недовольным видом – еще бы, ведь напротив них суетился за фотоаппаратом обычный трудяга, смущая их своей принадлежностью к рабочему классу. Мой братец Уолтер с задумчивым лицом опустил руку матери на плечо. Я была еще более худосочной, чем сейчас, и очень странно смотрелась в детском матросском костюмчике.
– Оливия Томпсон, – представилась дама голосом, свидетельствующим о том, что она привыкла делать подобные объявления. – Я секретарь твоей тети. Она не смогла приехать. В театре возникло ЧП. Небольшой пожар. Она отправила меня встретить тебя. Прости, что заставила ждать. Я уже несколько часов здесь хожу, но, поскольку для опознания мне дали только эту фотографию, найти получилось не сразу. Как видишь.
В тот момент меня разобрал смех, как и сейчас, когда я об этом вспоминаю. Мне показалась ужасно забавной картина, как суровая немолодая тетка бродит по Центральному вокзалу с гигантским семейным портретом в серебряной раме, который будто в спешке сорвали со стены богатого дома (собственно, так оно и было), и заглядывает каждому в лицо, пытаясь сопоставить стоящего перед ней человека с девочкой на фотографии, снятой четыре года назад. И как я раньше ее не заметила?
Но Оливия Томпсон явно считала, что ничего смешного тут нет.
Вскоре я узнала, что для нее такое поведение было типичным.
– Забери багаж, – скомандовала она. – И поедем в «Лили». Вечернее представление уже началось. Давай быстрее. И чтоб без фокусов.
Я послушно засеменила за ней – утенок, следующий за мамой-уткой.
Без фокусов.
В мыслях крутилось: «Небольшой пожар?» – но задавать вопросы не хватило духу.
Глава третья
Впервые приехать в Нью-Йорк можно только раз, Анджела, и это великое событие.
Ты, может, и не поймешь всей романтики, ведь ты в Нью-Йорке родилась. Для тебя наш прекрасный город существовал всегда. А может, ты любишь его гораздо больше, чем я, чувствуешь с ним особое родство, которого мне не понять. Одно знаю точно: тебе повезло, что ты выросла здесь. Но очень не повезло, что не случилось приехать сюда впервые. Тут я тебе сочувствую, ведь ты упустила самое невероятное впечатление в жизни.
Тем более если речь о Нью-Йорке в 1940 году.
Таким город не будет уже никогда. Я не хочу сказать, что до или после 1940-го Нью-Йорк был хуже или лучше. У каждого времени свой шарм. Но когда юная девушка приезжает в Нью-Йорк впервые, город словно рождается на ее глазах, отстраивается заново лишь для нее одной. И тот город, то место – второго такого Нью-Йорка не было и не будет. Он навек отпечатался в моей памяти, как засушенная под прессом орхидея. Мой идеальный Нью-Йорк – он всегда останется таким.
У тебя есть свой идеальный Нью-Йорк, у каждого он свой, – но тот город навечно принадлежит мне.
Дорога от Центрального вокзала до театра заняла совсем немного времени – мы пересекали город по прямой, – однако таксист вез нас через самое чрево Манхэттена, где новичку легче всего почувствовать пульс города. У меня разбежались глаза, я дрожала от волнения; хотелось рассмотреть все сразу. Но я вспомнила о хороших манерах и попыталась завести со своей сопровождающей светскую беседу. Оливия, впрочем, оказалась не из тех, кто испытывает потребность беспрерывно сотрясать воздух словами, и ее загадочные ответы лишь порождали новые вопросы, которые, как подсказывало мне чутье, она не соизволит обсуждать.
– Давно вы работаете на тетю? – спросила я.
– С тех пор, как Моисей в пеленках лежал.
С минуту я переваривала ответ.
– И чем вы занимаетесь в театре?
– Ловлю все, что падает, пока не разбилось.
Некоторое время мы ехали в тишине, и я пыталась уложить в голове слова Оливии. Потом решилась возобновить разговор:
– А какой спектакль сейчас идет?
– «Жизнь с матерью». Мюзикл.
– О, кажется, я про него слышала!
– Вряд ли. Ты слышала про «Жизнь с отцом»[3]. Бродвейская пьеса, была хитом в прошлом году. А у нас – «Жизнь с матерью». Мюзикл.
«А это законно?» – подумалось мне. Разве можно взять бродвейский хит, изменить одно слово в названии и поставить в другом театре? Оказалось, можно, если на дворе сороковые, а «другой» театр – это «Лили».
– А вдруг люди по ошибке купят билеты на ваш мюзикл, решив, что идут на «Жизнь с отцом»? – спросила я.
– Бывает, – хмыкнула Оливия. – Значит, им не повезло.
Тут я почувствовала себя маленькой надоедливой дурочкой и решила впредь молчать. Остаток пути я просто смотрела в окошко. Было невероятно увлекательно разглядывать город, проносящийся мимо. Куда ни повернись, открывались замечательные виды. Стоял чудесный летний вечер, было уже поздно, а нет ничего прекраснее позднего летнего вечера в центре Манхэттена. Только что прошел дождь. Над головой алело закатное небо. В окошке мелькали зеркальные небоскребы, неоновые вывески, блестящие мокрые улицы; по тротуарам бежали, шли, прогуливались и фланировали люди. Высоченные экраны на Таймс-сквер изливали на прохожих ослепительно сияющий поток рекламы и свежайших новостей. Вспыхивали огнями торговые галереи, платные дансинги, кафетерии, театры и кинозалы, роскошью не уступающие дворцам. А я, как зачарованная, не могла отвести от них глаз.
Не доезжая Девятой авеню, мы свернули на Сорок первую улицу. Тогда она не блистала красотой; впрочем, и сейчас немногим лучше. Но в 1940-м вся улица состояла из хитросплетения пожарных лестниц и запасных выходов домов, чьи парадные фасады смотрели на Сороковую и Сорок вторую улицы. А в центре невзрачного квартала сияло огнями единственное здание – «Лили», театр моей тетушки, чьи подсвеченные афиши зазывали на «Жизнь с матерью».
До сих пор так и вижу его. Настоящая махина, построенная, как я теперь знаю, в стиле ар-нуво, но тогда просто поразившая меня своей громадой. Фойе явно должно было создавать впечатление вопиющей роскоши. Здесь царил торжественный полумрак: дорогие деревянные панели на стенах, лепные потолки, кроваво-красная напольная плитка и массивные старинные светильники от «Тиффани». Интерьер украшала пожелтевшая от табачного дыма роспись с изображениями полуголых нимф, забавляющихся с сатирами, – и одной из забавниц в скором времени явно грозили известные неприятности, если она не поостережется. Были там и картины, где мускулистые герои с толстенными икрами боролись с морскими чудищами, но сценки выглядели скорее эротично, чем воинственно (складывалось впечатление, будто цель схватки – вовсе не победа в бою, если ты меня понимаешь). В других сюжетах стенной росписи фигурировали дриады, которые грудью вперед высвобождались из древесных пут, пока в ручейке по соседству плескались наяды, с энтузиазмом поливая водой голые торсы друг дружки. Резные колонны увивали мраморные виноградные гроздья и глициния – и, разумеется, лилии. Короче, обстановка была откровенно бордельная. И она сразу меня покорила.
– Пойдем прямо на спектакль. – Моя провожатая взглянула на часы. – Слава богу, он вот-вот кончится.
Она распахнула массивные двери, ведущие в зрительный зал. К моему огорчению, Оливия Томпсон воспринимала свое рабочее место с такой брезгливостью, будто ей противно здесь до чего-либо дотрагиваться, но я… я была совершенно очарована. Внутри театр поистине ошеломлял – громадный и сверкающий, как старинная шкатулка с драгоценностями, внутрь которой я ненароком попала. Меня восхищало решительно все: слегка покосившиеся подмостки, ряды не слишком удобных кресел, тяжелый пурпурный занавес, тесная оркестровая яма, потолок с позолотой и массивная поблескивающая люстра, при взгляде на которую первым делом возникал вопрос: «А если она рухнет?..»
Здесь все было грандиозным, и все нуждалось в обновлении. Зал напомнил мне бабушку Моррис – не только из-за ее любви к роскошным старым театрам, но и потому, что сама она выглядела точно так же: старая, но с гонором и разодетая в поеденный молью бархат.
Мы стояли в глубине зала, прислонившись к стене, хотя свободных мест было предостаточно. Если честно, зрителей оказалось немногим больше, чем актеров на сцене. Оливия тоже это заметила. Посчитав публику по головам, она записала число в блокнотике, который выудила из кармана, и тяжело вздохнула.
На сцене тем временем творилось нечто невероятное. Видимо, мы действительно попали на самый финал, поскольку чуть ли не все актеры высыпали на подмостки одновременно, и каждый вел свою партию. У задника смешанный кордебалет отплясывал канкан; танцоры улыбались во весь рот и задирали ноги выше головы. В центре миловидный юноша и бойкая девушка отбивали чечетку с таким пылом, будто у них горели подметки; при этом парочка во весь голос распевала, что «теперь все будет хорошо, мой друг, ведь это-это-это любовь!». По левому флангу выстроилась колонна артисток бурлеска. Их костюмы и жесты балансировали на грани дозволенного цензурой, но роль в сюжете оставалась неясной (если допустить, что у постановки вообще был сюжет). Похоже, их задача состояла в том, чтобы, вытянувшись в струнку, медленно поворачиваться вокруг своей оси, дабы зритель мог в полной мере и со всех ракурсов насладиться их статями прекрасных амазонок. С другого края сцены мужчина в костюме бродяги жонглировал кеглями.
Даже для финала действо продолжалось очень долго. Гремел оркестр, отплясывал кордебалет, счастливая запыхавшаяся парочка никак не могла поверить в наступление безбрежного счастья, артистки бурлеска в медленном развороте демонстрировали свои фигуры, жонглер потел и подбрасывал кегли – и вдруг все инструменты слились в едином мощном аккорде, прожекторы завертелись, руки актеров одновременно взметнулись вверх, и все кончилось!
Раздались аплодисменты.
Не шквал оваций, нет. Скорее легкий шелестящий ветерок.
Оливия не аплодировала. Я из вежливости похлопала, хотя в глубине зала мои хлопки казались особенно одинокими. Впрочем, аплодисменты быстро стихли. Актерам пришлось покидать сцену в почти полной тишине, а это плохой знак. Публика мрачно проследовала мимо нас к выходу, словно горстка трудяг, бредущих домой после тяжелого рабочего дня (собственно, они ими и были).
– Думаете, им понравилось? – спросила я Оливию.
– Кому?
– Зрителям.
– Зрителям? – Оливия растерянно моргнула, словно раньше ей даже не приходило в голову, что у них есть свое мнение. Поразмыслив, она ответила: – Уясни одну вещь, Вивиан: у наших зрителей не бывает ни особых надежд на входе в «Лили», ни особых восторгов на выходе.
Судя по тону, она вполне одобряла такой расклад или, по крайней мере, давно с ним смирилась.
– Пошли, – сказала она. – Твоя тетя за кулисами.
Туда мы и отправились, нырнув в шум, гам и суету, которые неизменно поднимаются за сценой после спектакля. Все сновали туда-сюда, кричали, курили, переодевались. Танцовщицы подносили друг другу зажигалки, артистки бурлеска снимали головные уборы. Рядом несколько рабочих в комбинезонах таскали декорации, хоть и без особого рвения. То и дело раздавался громкий заливистый смех, но не потому, что было над чем смеяться; просто вокруг были артисты, а они всегда не прочь повеселиться.
И тут я увидела свою тетю Пег. Высокую, дюжую, с папкой в руке. Ее каштановые с проседью волосы были коротко и неудачно подстрижены, отчего Пег смахивала на Элеонору Рузвельт, но с более волевым подбородком. На ней были длинная саржевая юбка цвета лососины и оксфордская рубашка – по всей видимости, мужская. А еще синие гольфы до колен и бежевые мокасины. Если по описанию костюм показался тебе безвкусным, Анджела, поверь, ты не ошиблась. Он был безвкусным тогда, безвкусен сейчас и останется безвкусным, даже когда погаснет солнце. Никому не под силу стильно выглядеть в саржевой юбке цвета лососины в комплекте с голубой мужской рубашкой, гольфами и мокасинами!
Тетин нелепый наряд казался еще более нелепым по контрасту с облачением двух восхитительно прекрасных артисток бурлеска, с которыми она говорила. Сценический грим придавал им неземной шик, на головах высились прически из сияющих локонов. Обе накинули поверх костюмов розовые шелковые халаты. Я еще ни разу не видела, чтобы женщины так откровенно выставляли себя напоказ. Одна из них, блондинка – заметь, платиновая, – обладала такой фигурой, что Джин Харлоу удавилась бы от зависти. Вторую, жгучую брюнетку, я приметила еще из глубины зала благодаря ее исключительной красоте. (Впрочем, особой зоркости не потребовалось: такую сногсшибательную девицу приметил бы и марсианин со своего Марса.)
– Вивви! – воскликнула Пег и ослепительно улыбнулась, отчего на душе у меня сразу потеплело. – Малышка! Ты все-таки добралась!
«Малышка!»
Ни разу в жизни меня не называли малышкой, и по неведомой причине я так расчувствовалась, что захотелось броситься в тетины объятия и зарыдать. Как здорово было услышать это ее «все-таки добралась» – как будто меня хвалили за великое достижение! А ведь на самом деле список моих достижений ограничивался тем, что меня сначала вышвырнули из колледжа, потом из родительского дома и наконец я потерялась на Центральном вокзале. Но искренний восторг тети Пег пролился бальзамом мне на душу. В кои-то веки я пришлась ко двору. И не просто ко двору: мне были рады.
– С Оливией ты уже знакома. Она смотритель нашего зверинца, – пояснила Пег. – А это Глэдис, наша прима…
Платиновая блондинка улыбнулась, надула пузырь из жвачки и промурлыкала:
– При-иве-ет.
– …и Селия Рэй из кордебалета.
Селия протянула изящную руку и глубоким голосом произнесла:
– Очень приятно. Я очарована.
Тембр у нее был просто невероятный. Дело было не только в сильном нью-йоркском акценте, но и в заметной хрипотце. Артистка варьете с голосом Лаки Лучано[4]!
– Ты ужинала? – спросила Пег. – Небось с голоду умираешь?
– Да нет, – ответила я. – Не то чтобы умираю, хотя толком не ужинала.
– Тогда пошли скорее куда-нибудь! Опрокинем пару стаканчиков и наверстаем упущенное.
Тут вмешалась Оливия:
– Багаж Вивиан еще не доставили наверх, Пег. Чемоданы так и стоят в фойе. Девочка целый день провела в пути, ей наверняка хочется освежиться. А нам не мешало бы подумать над распределением ролей.
– Ребята сами принесут ее вещи, – отмахнулась Пег. – И выглядит она вполне свежо, как по мне. А над распределением ролей и думать нечего.
– Над распределением ролей всегда не мешает подумать.
– Завтра разберемся, – отрезала Пег, к вящему неудовольствию Оливии. – Не хочу я сейчас говорить о делах. Я бы сейчас убила за хороший обед, а еще больше мне хочется выпить. Давай все-таки выберемся, а?
Пег как будто просила у Оливии разрешения.
– Не сегодня, Пег, – твердо произнесла Оливия. – День выдался долгий. Девочка устала. Ей нужно отдохнуть и устроиться на новом месте. Наверху Бернадетт приготовила мясной рулет, а я могу сделать бутерброды.
Пег, кажется, приуныла, но уже через минуту снова повеселела.
– Значит, идем наверх! – провозгласила она. – Давай, Вивви! Вперед!
Уже потом я узнала о своей тете одну интересную вещь: когда она говорила «идем», подразумевалось, что приглашаются все, кто находится непосредственно в зоне слышимости. За ней всегда тянулась толпа, и тетю не особенно заботило, из кого эта толпа состоит.
Вот почему тем вечером в жилых помещениях над театром ужинали не только мы с Пег и Оливией, но и Глэдис с Селией, артистки бурлеска. А еще тщедушный юноша, которого Пег в последнюю минуту перехватила на выходе из-за кулис. Я узнала в нем одного из танцоров кордебалета. Казалось, пареньку не больше четырнадцати и ужин ему совсем не повредит.
– Роланд, пойдем наверх, поешь с нами, – предложила тетя.
Роланд замялся:
– Спасибо, Пег, обойдусь.
– Не волнуйся, дорогой, еды у нас много. Бернадетт приготовила большой мясной рулет. На всех хватит.
Оливия было запротестовала, но Пег шикнула на нее:
– Ой, Оливия, довольно изображать надзирательницу! Если надо, я своей порцией поделюсь. Роланду не мешало бы поправиться, а мне похудеть, так что все в выигрыше. И дела у нас не так уж плохи. Можем позволить себе прокормить несколько лишних ртов.
Мы направились к выходу из зрительного зала, где широкая лестница вела наверх, в апартаменты над театром. Поднимаясь по ступенькам, я таращилась на Селию и Глэдис, так называемых шоу-герлз. Таких красоток я в жизни не видела. В школе Эммы Уиллард тоже был театр, но там играли совсем другие девчонки. Из тех, кто никогда не моет голову, носит черные трико и воображает себя Медеей на сцене и в жизни. Я их терпеть не могла. А Глэдис и Селия – те принадлежали к особой категории. Даже особой расе. Меня завораживали их манера держаться, акцент, грим, движение бедер под шелковыми халатами. Кстати, Роланд двигался точно так же. Его жесты были плавными, он мягко покачивал бедрами. А как все они тараторили! Обрывки сплетен и слухов сыпались на меня, как дождик ярких конфетти.
– Да ничего в ней нет, кроме фигуры! – говорила Глэдис, видимо, о какой-то знакомой.
– Там и фигуры нет, – парировал Роланд, – только ноги.
– На одних ногах далеко не уедешь, – отвечала Глэдис.
– На сезон хватит, – встряла Селия, – хотя как знать.
– А ее кавалер еще хуже.
– О, этот дурень!
– Дурень-то дурень, а от халявного шампанского ни разу не отказался!
– Ей бы поставить его на место.
– На него где сядешь, там и слезешь.
– Сколько можно работать билетершей?
– Но вы видели ее кольцо? Такой бриллиант ого-го сколько стоит.
– Лучше бы трезво поразмыслила о будущем.
– Лучше нашла бы себе богатого папика из глухомани.
О чем шла речь? Что имелось в виду? Кто эта бедняжка, которой перемывали косточки? Какое будущее светит простой билетерше, которая не умеет трезво мыслить? Кто подарил ей кольцо с бриллиантом? И откуда берется халявное шампанское? Все эти вопросы несказанно меня волновали. Ведь это же так важно! И что еще за «папик из глухомани»?
Никогда еще я так отчаянно не жаждала услышать окончание истории, а ведь у нее даже не было сюжета – лишь безымянные персонажи, намеки на действие и атмосфера надвигающегося кризиса. Сердце пустилось вскачь – да и как тут устоять девятнадцатилетней балбеске вроде меня, которая в жизни не думала ни о чем серьезном!
Мы вышли на тускло освещенную лестничную площадку, Пег отперла дверь и впустила нас внутрь.
– Вот ты и дома, малышка, – сказала она.
«Дом» тети Пег занимал третий и четвертый этажи театра «Лили». Здесь располагались жилые помещения, а на втором этаже, как я потом узнала, была контора. Первый этаж занимал сам театр: фойе и зрительный зал, их я тебе уже описывала. Но третий и четвертый этажи служили домом. Там мы и расположились.
Мне хватило одного взгляда, чтобы понять: Пег ничего не смыслит в дизайне интерьеров. Если допустить, что она обставляла комнаты по своему вкусу, а не как придется, то вкус у нее явно хромал: повсюду громоздилась массивная антикварная мебель, давно вышедшая из моды и дополненная стульями от разных гарнитуров. Все это было расставлено без всякой системы. Как и в доме моих родителей, на стенах висели мрачные темные картины, видимо доставшиеся по наследству от кого-то из родственников, – выцветшие гравюры с лошадьми и портреты чопорных старых квакеров. Серебро и фарфор тоже присутствовали, как и у нас дома, – подсвечники, сервизы и прочая утварь, с виду иногда даже недешевая, хотя как знать? Все эти вещицы казались чужими и нелюбимыми. Зато повсюду стояли пепельницы, и вот они-то выглядели так, будто ими часто пользуются и очень их любят.
Не могу сказать, что там была совсем уж дыра: не грязно, а просто как-то бестолково. По пути мы миновали столовую – точнее, комнату, которая в любом другом доме называлась бы столовой, но у тети Пег вместо большого обеденного стола посреди комнаты размещался стол для пинг-понга. Еще больше меня удивило, что прямо над ним нависала громадная люстра, которая наверняка мешала играть.
Наконец мы расположились в просторной гостиной – такой большой, что сюда поместилось довольно много мебели и даже рояль, бесцеремонно втиснутый в угол.