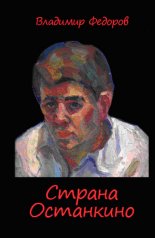Все сказки Ганса Христиана Андерсена Андерсен Ганс Христиан

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.
Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, схватывался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю, но Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его дождем изюма и оловянных солдатиков – вот что значит настоящие-то принцы!
Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города… Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила его. И вот он увидал ее; она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:
- Мой Яльмар, тебя вспоминаю
- Почти каждый день, каждый час!
- Сказать не могу, как желаю
- Тебя увидать вновь хоть раз!
- Тебя ведь я в люльке качала,
- Учила ходить, говорить,
- И в щечки и в лоб целовала,
- Так как мне тебя не любить?
И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали головами, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.
Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с окном. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.
– Хочешь прокатиться, Яльмар? – спросил Оле. – Побываешь ночью в чужих землях, а к утру – опять дома!
И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви, – кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась у них из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но все напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и – бух! – упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.
– Ишь какой! – сказали куры.
А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали.
И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:
– Ну не глуп ли он?
– Конечно, дурак! – сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.
– Какие у вас чудесные тонкие ноги! – сказал индейский петух. – Почем аршин?
– Кряк! Кряк! Кряк! – закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слыхал.
– Могли бы и вы посмеяться с нами! – сказал аисту индейский петух. – Очень забавно было сказано! Да куда, это, верно, слишком низменно для него! Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять сами себя!
И куры кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло.
Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу, – он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А куры закудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него сделался пунцовым.
– Завтра из вас сварят суп! – сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.
Славное путешествие совершили они ночью с Оле-Лукойе!
– Знаешь что? – сказал Оле-Лукойе. – Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! – И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. – Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!
– А как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу? – спросил Яльмар.
– Уж положись на меня! – сказал Оле-Лукойе. – Ты у меня сделаешься маленьким.
И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною с пальчик.
– Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же идешь в гости!
– Ну хорошо! – согласился Яльмар, и был наряжен чудеснейшим солдатиком.
– Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? – сказала Яльмару мышка. – Я буду иметь честь отвезти вас.
– Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, сударыня! – сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу.
Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, в котором как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был празднично освещен гнилушками.
– Не правда ли, как хорошо здесь пахнет? – спросила мышка-возница. – Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?
Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, – мышки-кавалеры, по самой же середине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и ужасно целовались на глазах у всех. Что ж, они были ведь обручены и готовились вступить в брак.
А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, а счастливая парочка поместилась в самых дверях, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Диво, да и только!
Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно.
Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатной компании, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика.
– Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется заполучить меня к себе! – сказал Оле-Лукойе. – Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, – говорят они мне, – мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! – добавляют они с глубоким вздохом. – Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньги!
– Что будем делать сегодня ночью? – спросил Яльмар.
– Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет обвенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!
– Знаю, знаю! – сказал Яльмар. – Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас же празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!
– Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!
Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружье на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся комнатная мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш:
- Затянем песенку дружней,
- Как ветер пусть несется!
- Хотя чета наша, ей-ей,
- Ничем не отзовется.
- Из лайки оба и торчат
- На палках без движенья,
- Зато роскошен их наряд –
- Ну просто загляденье!
- Итак, прославим песней их:
- Ура, невеста и жених!
Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.
– Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? – спросил молодой.
На совет пригласили бывалую путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.
– Зато там нет нашей зеленой капусты! – сказала курица. – Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!
– Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! – сказала ласточка. – К тому же здесь так часто бывает дурная погода.
– Ну, к этому можно привыкнуть! – сказала курица.
– А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!
– То-то и хорошо для капусты! – сказала курица. – Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарища-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть последней дрянью, чтобы не находить нашу страну самою лучшею в мире! Такая дрянь недостойна и жить в ней! – Тут курица заплакала. – Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!
– Да, курица – особа вполне достойная! – сказала кукла Берта. – Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам – то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.
На том и порешили.
– А сегодня будешь рассказывать? – спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.
– Сегодня некогда! – ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. – Погляди-ка вот на этих китайцев!
Зонтик был похож на большую китайскую чашку, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых, кивая головами, стояли маленькие китайцы.
– Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! – продолжал Оле. – Завтра ведь святой день, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню – посмотреть, вычистили ли церковные домовые все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле – посмотреть, смёл ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой!
– Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! – сказал вдруг висевший на стене старый портрет. – Я прадедушка Яльмара и очень вам благодарен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие же светила, как наша Земля, тем-то они и хороши!
– Спасибо тебе, прадедушка! – отвечал Оле-Лукойе. – Спасибо! Ты – всей семьи голова, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; греки и римляне звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!
И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.
– Ну уж, нельзя и своего мнения высказать! – сказал старый портрет.
Тут Яльмар проснулся.
– Добрый вечер! – сказал Оле-Лукойе.
Яльмар кивнул ему головкой, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.
– А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.
– Ну, хорошенького понемножку! – сказал Оле-Лукойе. – Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что… да нет, невозможно даже и сказать!
Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:
– Сейчас увидишь моего брага, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!
И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:
– Какие у тебя отметки за поведение?
– Хорошие! – отвечали все.
– Покажи-ка! – говорил он.
Приходилось показать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, – позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли – они сразу крепко прирастали к седлу.
– Но ведь Смерть – чудеснейший Оле-Лукойе! – сказал Яльмар. – И я ничуть не боюсь его!
– Да и нечего бояться! – сказал Оле. – Смотри только, чтобы у тебя всегда была хорошая отметка за поведение!
– Да, вот это поучительно! – пробормотал прадедушкин портрет. – Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!
И он был очень доволен.
Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.
1841
Свинопас
Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.
Разумеется, с его стороны было несколько смело заявить дочери императора: «Хочешь за меня замуж?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот ждите-ка этого от императорской дочки!
Послушаем же, как было дело.
На могиле покойного отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.
Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости; других занятий у них не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.
– Ах, если бы тут была маленькая киска! – сказала она.
Но появилась прелестная роза.
– Ах, как это мило сделано! – сказали все фрейлины.
– Больше чем мило! – сказал император. – Это прямо недурно!
Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.
– Фи, папа! – сказала она. – Она не искусственная, а настоящая!
– Фи! – повторили все придворные. – Настоящая!
– Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! – возразил император.
И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка.
– Superbe! Charmant![10] – сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.
– Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! – сказал один старый придворный. – Да, тот же тон, та же манера давать звук!
– Да! – сказал император и заплакал, как ребенок.
– Надеюсь, что птица не настоящая? – спросила принцесса.
– Настоящая! – ответили ей доставившие подарки послы.
– Так пусть себе летит! – сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.
Но принц не унывал, вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался.
– Здравствуйте, император! – сказал он. – Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?
– Много вас тут ходит да ищет! – ответил император. – Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!
И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую, крошечную каморку рядом со свиными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку:
- Ach, mein lieber Augustin,
- Alles ist hin, hin, hin![11]
Занимательнее же всего было то, что, держа над подымавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек не чета был какой-нибудь розе!
Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услыхала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепьяно «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.
– Ах, ведь и я это играю! – сказала она. – Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.
Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.
– Что возьмешь за горшочек? – спросила она.
– Десять принцессиных поцелуев! – отвечал свинопас.
– Божи избави! – сказала фрейлина.
– А дешевле нельзя! – отвечал свинопас.
– Вот невежа! – сказала принцесса и пошла было, но… бубенчики зазвенели так мило:
- Ach, mein lieber Augustin,
- Alles ist hin, hin, hin!
– Послушай! – сказала принцесса фрейлине. – Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?
– Нет, спасибо! – ответил свинопас. – Десять поцелуев принцессы или горшочек останется у меня.
– Как это скучно! – сказала принцесса. – Ну, придется вам стать вокруг меня, чтобы никто нас не увидал!
Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса – горшочек.
Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до кухни простого сапожника, о которой бы они ни знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.
– Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!
– Еще бы! – подтвердила обер-гофмейстерина.
– Да, но держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!
– Помилуйте! – сказали все.
А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.
– Но это superbe! – сказала принцесса, проходя мимо. – Вот так попурри! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!
– Он требует сто принцессиных поцелуев! – доложила фрейлина, побывав у свинопаса.
– Да что он, в уме? – сказала принцесса и пошла своей дорогой, но сделала два шага и остановилась. – Надо поощрять искусство! – сказала она. – Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!
– Ну, нам это вовсе не по вкусу! – сказали фрейлины.
– Пустяки! – сказала принцесса. – Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!
И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.
– Сто принцессиных поцелуев! – повторил он. – А нет – каждый останется при своем.
– Становитесь вокруг! – скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас стал ее целовать.
– Что это за сборище у свиных закуток? – спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки. – Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.
И он расправил задки своих туфель. Туфлями служили ему старые стоптанные башмаки. Эх ты, ну как он зашлепал в них!
Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев – надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.
– Это еще что за штуки! – сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. – Вон! – закричал рассерженный император и прогнал из своего государства и принцессу и свинопаса.
Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и поливал на них.
– Ах, я несчастная! – плакала принцесса. – Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!
А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, так что принцесса невольно преклонилась перед ним.
– Теперь я только презираю тебя! – сказал он. – Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!
И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь:
- Ach, mein lieber Augustin,
- Alles ist hin, hin, hin!
1841
Гречиха
Часто после грозы видишь, что гречиха в поле опалена дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?
А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, – дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиною посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.
Другие поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом – чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в благочестивом смирении свои головы к земле.
Тут же, возле самой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.
– Я не беднее хлебных колосьев! – говорила она. – Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?
Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:
– Глупое дерево, у него от старости в животе трава растет!
Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепесточки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.
– Склони голову! – говорили ей цветы.
– Незачем! – отвечала гречиха.
– Склони голову, как мы! – закричали ей колосья. – Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!
– Ну а я все-таки не склоню головы! – сказала гречиха.
– Сверни лепестки и склони голову! – сказала ей и старая ива. – Не гляди на молнию, когда разверзаются облака! Сам человек не дерзает этого; в это время можно заглянуть в самое небо Господне, но за такой грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Мы, бедные полевые злаки, ведь куда ниже, ничтожнее человека!
– Ниже? – сказала гречиха. – Так вот же я загляну в небо Господне!
И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Все кругом заполыхало от молний, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.
Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:
– О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?
Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я; они прощебетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.
1841
Бронзовый кабан
Вгороде Флоренции, недалеко от площади дель Грандука, есть небольшой переулок, который зовется, если не ошибаюсь, Порта-Росса. Тут, перед овощным и зеленным рынком, стоит бронзовый кабан искусной работы; изо рта его бежит чистая свежая вода. Само животное совсем уже почернело от времени, одна морда блестит, как полированная: ее отполировали сотни рук бедняков, детей и взрослых, обнимавших ее и подставлявших под струю воды свои пересохшие рты. Посмотреть только, как какой-нибудь хорошенький полунагой мальчуган обнимает красивое животное и приближает свой свеженький ротик к его морде – настоящая картина! Всякий, кто попадет во Флоренцию, без труда найдет это место: стоит только спросить любого нищего, и он сейчас скажет, где находится бронзовый кабан.
Был ранний зимний вечер; горы лежали все в снегу, но на небе сиял месяц, а месяц в Италии светит так, что превращает и ночь в день – не хуже наших темных зимних дней. Да что я – не хуже! Даже лучше, потому что тут светится сам воздух, и небо как будто поднимается выше, тогда как у нас, на севере, эта холодная свинцовая крыша – небо – просто гнетет нас к сырой земле, которая рано или поздно придавит крышку нашего гроба.
В герцогском саду, под сенью пихт, где и зимой цветут тысячи роз, целый день сидел маленький оборвыш. Мальчуган мог бы послужить живым изображением Италии: он так и сиял красотой и в то же время был так жалок, так несчастен… Ему страшно хотелось есть и пить, но никто не подал ему сегодня ни единой монетки. Между тем стемнело, сад пора было запирать, и сторож выгнал мальчика вон. Долго стоял бедняжка, задумавшись, на мосту, перекинутом через Арно, и смотрел на блестевшие в воде звезды.
Потом он направился к бронзовому кабану, нагнулся, обхватил его ручонкой за шею и, приблизив ротик к его блестящей морде, стал жадно глотать свежую воду. Тут же валялись несколько листочков салата и пара каштанов – они пошли ему на ужин. На улице не было ни души, мальчик был один-одинешенек, и он уселся на бронзового кабана, склонился курчавою головкой на голову животного и мигом заснул.
В полночь бронзовый кабан шевельнулся, и мальчик явственно услышал: «Держись крепче, малыш, теперь я побегу!» И кабан в самом деле пустился с мальчиком во всю прыть. Вот так езда была!
Прежде всего они направились на площадь дель Грандука; бронзовая лошадь на герцогском монументе громко заржала; пестрые гербы на старой ратуше засветились, точно транспаранты, а Микеланджелов Давид взмахнул пращою; повсюду пробуждалась какая-то странная жизнь. Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» стояли, точно живые; крик смертельного ужаса раздавался по великолепной безлюдной площади.
Возле Палаццо Уффици, под аркой, где собирается во время карнавала вся флорентийская знать, бронзовый кабан остановился.
– Держись крепче! – сказал он мальчику. – Теперь марш вверх по лестнице!
Мальчуган за все это время не проронил ни словечка, трепеща от страха и от радости. Вот они вступили в длинную галерею; мальчик хорошо знал ее: он бывал здесь и прежде. Стены пестрели картинами, повсюду стояли бюсты и статуи, озаренные чудным светом; казалось, здесь царил светлый день. Но еще лучше стало, когда растворилась дверь в боковые залы! Вся эта роскошь была хорошо памятна мальчику, но на этот раз все являлось ему в каком-то особенном, чудном освещении.
Вот перед ним прелестная нагая женщина – такое совершенство природы могло быть воспроизведено в мраморе только искусством несравненного художника. Ее дивные формы дышали жизнью, у ног ее резвились дельфины, бессмертие сверкало в ее взоре. Люди зовут ее Венерой Медицейской. По обеим сторонам богини разместились мраморные статуи чудных юношей: один точил меч – его зовут «Точильщиком»; на другом же пьедестале боролись гладиаторы. И меч точился, и борцы сражались ради богини красоты.
Весь этот блеск почти ослеплял мальчугана; стены сияли разноцветными красками; все было – сама жизнь, само движение. Тут было еще одно изображение Венеры, земной Венеры, полной жизни и огня, какою грезилась она Тициану. Да, это были два чудных женских образа! Прекрасное, ничем не прикрытое тело Тициановой Венеры покоилось на мягком ложе; грудь ее тихо вздымалась, голова слегка шевелилась, пышные волосы падали на круглые плечи, а темные глаза горели страстью. Ни одна из картин не смела, однако, совсем выступить из рамы. Сама богиня красоты, гладиаторы и точильщик тоже оставались на своих местах: их сковывало сияние, лившееся от изображения Мадонны, Иисуса и Иоанна. Святые перестали быть картинами, это были уже сами святые!
Что за красота, что за блеск царили в этих залах! Бронзовый кабан обошел их шаг за шагом, и мальчик увидел все. Одно зрелище вытеснялось из памяти другим, но одна картина оставила в его душе неизгладимый след, главным образом благодаря изображенным на ней радостным, счастливым детям; мальчик уже раз видел их днем.
Многие прошли бы, пожалуй, мимо этой картины, а между тем это истинное сокровище поэзии. На ней изображен Христос, сходящий в преисподнюю, но вокруг него толпятся не измученные грешники, а язычники. Рисовал картину флорентиец Анджело Бронзино. Лучше всего в ней – выражение на лицах детей твердой уверенности в том, что они взойдут на небо. Двое малюток уже обнимаются друг с другом; один, стоящий повыше, протягивает руки стоящему пониже, указывая при этом пальцем на самого себя, как бы говоря: «Я иду на небо!» На лицах же взрослых написаны робкая, неуверенная надежда и смиренная мольба.
На эту картину мальчик смотрел дольше всего; бронзовый кабан стоял смирно, и вдруг послышался тихий вздох. Откуда он вырвался? Из картины или из груди животного? Мальчик протянул руку к улыбающимся детям, но кабан помчался обратно в аванзалу.
– Спасибо тебе, милый, славный кабанчик! – сказал мальчуган и погладил животное, которое – тук, тук! – сбегало вниз по лестнице.
– Спасибо и тебе! – сказал кабан. – Я помог тебе, а ты помог мне: я могу двигаться, лишь когда на мне сидит невинный ребенок. Тогда я могу даже проходить под лучами лампады, горящей перед образом Мадонны. Всюду могу я входить с тобой, только не в церковь! Но смотреть туда в открытые двери мне не воспрещено! Не слезай же с меня! Если ты слезешь, я стану таким же мертвым, неподвижным, каким ты видел меня днем в переулке Порта-Росса.
– Я не покину тебя, милый кабан! – сказал мальчик, и они вихрем помчались по улицам на площадь, к церкви Санта-Кроче.
Огромные входные двери раскрылись; на алтаре горели свечи, так что в церкви и даже на безлюдной площади было светло.
С надгробного памятника, помещавшегося в левом приделе церкви, струился какой-то удивительный свет, словно вокруг образовалось сияние из сотни тысяч движущихся звезд. На памятнике красовался герб: красная, словно пылающая в огне, лестница на голубом поле. То была гробница Галилея; она очень проста, герб же полон глубокого значения. Он мог бы послужить гербом самого искусства или науки: представителей их ведь тоже ведет к бессмертию пылающая лестница; все пророки искусства и науки, отмеченные дарами Духа, восходят на небо, как пророк Илия.
Изображения, помещавшиеся на мраморных саркофагах в правом приделе церкви, казалось, все ожили. Тут стоял Микеланджело, там – Данте с лавровым венком на челе, здесь – Альфьери, Макиавелли – повсюду великие мужи, гордость Италии[12]. Церковь Санта-Кроче великолепна, куда красивее, хоть и не так велика, как мраморный Флорентийский собор.
Складки мраморных одеяний шевелились, а сами изображения великих людей поднимали головы и устремляли взоры на блестящий алтарь, откуда слышалось пение и где кадили золотыми кадилами мальчики в белоснежных одеждах; сильное благоухание струилось из церкви на площадь.
Мальчик протянул руку к светлому сиянию, но в тот же миг бронзовый кабан помчался дальше, и ему пришлось крепко прижаться к шее животного. Ветер так и свистел у него в ушах, двери собора с визгом затворились; тут сознание оставило мальчика, смертельный холод охватил его члены, и – он открыл глаза.
Было уже утро; он полусидел, полулежал, почти совсем соскользнув со спины кабана, который стоял, как и всегда, на своем обычном месте.
Ужас охватил мальчика при одной мысли о той, кого он звал матерью. Она послала его вчера собирать милостыню, но никто не подал ему ничего; голод мучил бедняжку. Еще раз обнял он кабана, поцеловал его в морду, кивнул ему головой и направился в одну из самых узких улиц, где едва-едва мог пройти навьюченный осел. Затем мальчик вошел в полуотворенную, окованную железом дверь и стал подниматься по грязной кирпичной лестнице с веревкой вместо перил. Лестница вела на открытую галерею, всю увешанную лохмотьями; с галереи во двор спускалась другая лестница; посреди двора находился колодец, от которого во все этажи были проведены толстые железные проволоки, а по ним то и дело двигались ведра с водой; ворот скрипел, а вода из ведер плескала на мостовую двора. По узенькой полуразвалившейся кирпичной лесенке мальчик поднялся еще выше; навстречу ему весело сбегали по ступеням двое русских матросов и чуть не сбили мальчугана с ног. Они возвращались с веселой ночной пирушки; за ними шла немолодая, но крепко сложенная женщина с густыми черными волосами.
– Много принес? – спросила она мальчика.
– Не сердись! – взмолился он. – Никто не дал мне ничего!
И он схватился за край платья матери, как бы желая поцеловать его. Они вошли в комнату; описывать ее мы не станем; довольно будет сказать, что тут стоял глиняный горшок с горячими угольями – грелка, или marito, как его зовут в Италии. Женщина взяла его и стала греть свои руки.
– Что-нибудь ты принес все-таки? – спросила она, толкнув мальчика локтем.
Ребенок заплакал; она дала ему пинка ногою; он громко завопил.
– Замолчи, не то я разобью твою горластую башку! – сказала она и замахнулась на него грелкой.
Мальчик с криком припал к земле. Дверь отворилась, и вошла соседка, тоже с грелкой в руках.
– Феличита! Что ты делаешь с ребенком?
– Ребенок мой! – отвечала Филичита. – Я могу убить его, если захочу, да и тебя вместе, Джианина!
И она замахнулась грелкой. Соседка подняла на защиту свою, и горшки столкнулись – черепки, уголья и зола разлетелись по всей комнате, а мальчик – за дверь, на двор да на улицу! Бедный ребенок бежал, пока у него не захватило дух, и он поневоле остановился у церкви Санта-Кроче, у той самой, в которой побывал сегодня ночью. Церковь вся сияла в огнях; он вошел, опустился на колени возле первой гробницы направо – это была гробница Микеланджело – и громко зарыдал. Народ приходил и уходил, обедня кончилась, никому не было дела до мальчика; приостановился было и посмотрел на него только какой-то пожилой горожанин, но потом и тот пошел своею дорогой, как другие.
Ребенок совсем обессилел от голода и жажды, заполз в угол между стеной и мраморной гробницей и заснул. Проснулся он только под вечер – кто-то растолкал его; он встал и увидал перед собою того же самого старика.
– Тебе нездоровится? Где ты живешь? Ты целый день здесь? – засыпал он мальчика вопросами.
Мальчик ответил, и старик повел его в маленький домик на одной из боковых улиц неподалеку от церкви. Они вошли в перчаточную мастерскую: пожилая женщина прилежно шила, а по столу перед ней прыгала маленькая беленькая болонка, остриженная так коротко, что сквозь шерстку просвечивало розовое тельце. Болонка кинулась к мальчику.
– Невинные души живо признают друг друга! – сказала женщина и погладила собачку и ребенка.
Добрые люди, накормив и напоив мальчика, позволили ему переночевать у них, а на другой день дядюшка Джузеппе хотел поговорить с матерью мальчугана.
Ребенка уложили на маленькую бедную постель, но она показалась ему княжеской: он привык проводить ночи на жестких камнях мостовой. Спокойно заснул он и видел во сне роскошные картины и бронзового кабана.
Утром дядюшка Джузеппе ушел, а бедный мальчуган пригорюнился: дело кончится тем, что его отведут к матери! И он плакал, целуя беленькую резвую собачку, а добрая женщина ласково кивала им головой.
Ну, с чем-то вернулся дядюшка Джузеппе? Он долго беседовал с женой; та одобрительно покачивала головой и гладила мальчика по головке, говоря:
– Такой милый мальчик! Из него выйдет славный перчаточник, не хуже тебя! У него такие тонкие, гибкие пальцы! Он самою Мадонной назначен в перчаточники!
И мальчик остался у них. Жена перчаточника учила его шить; кормили его хорошо, спал он отлично и сделался веселым, резвым мальчиком, который не прочь был иногда пошалить и подразнить Беллиссиму – так звали собачку; но хозяйка грозила ему пальцем, бранилась и сердилась, что очень огорчало мальчика. Раз как-то он сидел, задумавшись, в своей каморке, в которой сушились и кожи; окна, выходившие на улицу, были огорожены толстыми решетками; мальчик не мог спать: бронзовый кабан не выходил у него из головы, и вдруг он услышал на улице: тук! тук! Это, наверное, кабан! Мальчик бросился к окну, но улица была уже пуста.
– Помоги-ка синьору, возьми ящик с красками! – сказала раз утром хозяйка при виде молодого соседа-художника, тащившего ящик и накатанный на палку холст.