Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки Сапольски Роберт
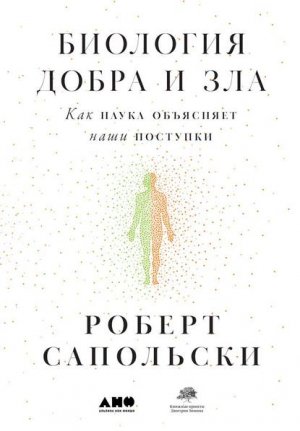
Мэлу Коннеру, который научил меня…
Джону Ньютону, который вдохновил меня…
Лизе, которая спасла меня…
Эта книга издана в рамках программы «Книжные проекты Дмитрия Зимина» и продолжает серию «Библиотека «Династия». Дмитрий Борисович Зимин – основатель компании «Вымпелком» (Beeline), фонда некоммерческих программ «Династия» и фонда «Московское время».
Программа «Книжные проекты Дмитрия Зимина» объединяет три проекта, хорошо знакомые читательской аудитории: издание научно-популярных переводных книг «Библиотека «Династия», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель».
Подробную информацию о «Книжных проектах Дмитрия Зимина» вы найдете на сайте ziminbookprojects.ru.
Введение
Мое воображение то и дело рисует подобный сюжет: команда наших с боем прорывается в его секретный бункер. Ладно, фантазировать так фантазировать: я одной левой вырубаю его элитную охрану, влетаю в бункер с пулеметом Браунинга на изготовку. Он выхватывает свой люгер, но я вышибаю у него пистолет. Его рука тянется за припрятанной на случай провала капсулой с цианидом. Но я и тут успеваю – выбиваю ее. Он издает яростный рык и бросается на меня с нечеловеческой злобой. Мы схватываемся, катаемся по земле, я изворачиваюсь, придавливаю его и молниеносно надеваю наручники. «Адольф Гитлер! – объявляю я. – Вы арестованы за преступления против человечества!»
И вот на этом самом месте героическое выступление фантазии заканчивается и воображение блекнет. Что я сделаю с Гитлером? Организм реагирует настолько остро, что мне приходится мысленно переключиться на глаголы в сослагательном наклонении, чтобы хоть как-то дистанцироваться от ситуации. Что следовало бы сделать с Гитлером? Стоит дать себе волю, как в голове тут же рисуются картины мщения. Перебить позвоночник в районе шеи так, чтобы его парализовало, но при этом он бы все чувствовал. Ослепить с помощью тупого предмета. Лишить слуха, проткнув барабанные перепонки; вырвать язык. И чтобы он продолжал жить, питался через трубку и дышал на аппарате. Обездвиженный, лишенный возможности видеть, слышать и говорить – только чтобы чувствовал. Впрыснуть ему что-нибудь, из-за чего он заболеет раком, и рак будет изъедать его плоть, и язвы будут расти и расти – пока каждая клетка его тела не возопит в агонии, пока каждый миг существования не превратится в ад. Вот что следовало бы сделать с Гитлером. Вот что я хотел бы сделать с Гитлером. И сделал бы.
В детстве я не однажды проигрывал подобные сцены в воображении. Я и сейчас иногда их себе представляю. И когда я погружаюсь в них, сердце начинает колотиться. Мне становится жарко, кулаки сжимаются. Да, пусть все это случится с Гитлером, самым ужасным злодеем в истории человечества, его душа заслужила самое адское наказание.
Но тут возникает огромная проблема. Я не верю в существование души или ада, слово «злой» считаю уместным в обсуждении мюзиклов[1] и сомневаюсь, что наказание имеет какое-то отношение к уголовному судопроизводству. Однако и тут возникает проблема: по моим ощущениям, некоторых людей однозначно нужно казнить, но ведь в принципе я против смертных приговоров. Я люблю смотреть второсортное кино со стрельбой и драками, несмотря на то что голосую за строгий контроль над огнестрельным оружием. И я получил огромное удовольствие, когда на одном детском дне рождения смог отодвинуть некие невнятные внутренние возражения и играл в лазерную войну, стреляя из укрытия в незнакомцев (было здорово, пока какой-то прыщавый малец не попал в меня раз этак сто, а потом еще и потешался надо мной; я почувствовал себя не по-мужски трусовато). В то же время я знаю наизусть «Down by The Riverside» («ain’t gonna study war no more»)[2] и даже помню, в каких местах нужно хлопать в ладоши.
Иными словами, у меня в голове мешанина из мыслей и ощущений в отношении насилия, агрессии и соперничества. Как и у большинства людей.
Начнем с до боли знакомого. У нашего вида проблемы с жестокостью. Мы способны «вырастить» сотни ядерных грибов; мы знаем, что через вентиляцию метро или душевые лейки можно запустить ядовитый газ, что пассажирские самолеты могут превращаться в оружие, что с помощью обычного письма вполне реально заразить адресата сибирской язвой, что массовую резню представляют военной стратегией, что бомбы взрываются на рынках, что дети с автоматами устраивают кровавую бойню другим детям. Что в некоторых регионах мира каждый – от разносчика пиццы до пожарного – боится нападения. И это мы не говорим о насилии, действующем не напрямую, а исподволь: вспомним, например, про жестокое обращение с детьми, про жизнь национальных меньшинств в окружении символов, кричащих о превосходстве и силе большинства. Мы все существуем с оглядкой на угрозу, исходящую от себе подобных.
Если бы речь шла о насилии как таковом, то проблема легко решалась бы с помощью интеллекта. СПИД – это безоговорочное зло, значит, искореняем. Болезнь Альцгеймера – тоже. Шизофрения, рак, истощение, болезнетворные бактерии, глобальное потепление, нацелившиеся на Землю кометы – аналогично.
Вот только жестокость не желает помещаться ни в какие списки. И сложность с ней в том, что иногда она – явное зло, а иногда мы ничего против нее не имеем.
В этом и состоит главное утверждение данной книги: мы не ненавидим насилие. Мы ненавидим неправильное насилие, насилие в неправильном контексте (и боимся его). Потому что насилие в правильном контексте выглядит как-то иначе. Мы платим приличные деньги, чтобы посмотреть на него на стадионе, мы учим детей давать сдачи в драке и довольны, когда во время игры в баскетбол с соседями удается, в нашем-то уважаемом возрасте, незаметно для судьи применить силовой прием. Наша речь изобилует военными метафорами: мы скрещиваем шпаги и призываем к оружию, сплачиваем ряды и стоим насмерть. Названия спортивных команд прямо воспевают насилие: «Воины» (Warriors), «Викинги» (Vikings), «Львы» (Lions), «Тигры» (Tigers), «Медведи» (Bears). Мы мыслим в подобных терминах, даже когда дело касается такого интеллектуального упражнения, как шахматы: «Каспаров нападал с убийственной настойчивостью. Ближе к финалу ему самому угрожала мощная атака противника»{1}. Мы выстраиваем разнообразные теории вокруг насилия, мы выбираем лидеров, непревзойденных в данной области, а что касается женщин, то большинство из них предпочитает героев-победителей. Так что, когда агрессия «правильная», она нам нравится.
В том-то и состоит неоднозначность насилия, именно потому так трудно проникнуть в его потаенный смысл, что нажатие на курок может означать и бесчеловечную агрессию, и акт самопожертвования.
В данной книге обсуждается биология насилия, агрессии и соперничества плюс связанные с ними поведение и поведенческие мотивации как отдельного человека, так и групп и целых государств; мы обсудим, когда эти действия хороши, а когда дурны. Эта книга о том, как люди причиняют друг другу зло. Но одновременно в ней рассказывается и о прямо противоположном: как люди умеют себя вести по-доброму. И каким же образом биология поможет нам судить о взаимопомощи, сотрудничестве, примирении, эмпатии и альтруизме?
Книга важна для меня по нескольким личным причинам. Начать с того, что я, счастливо избежав в жизни какого бы то ни было насилия, теперь чудовищно страшусь даже мыслей о нем. Мне кажется, что если я, типичный профессор-очкарик, напишу побольше умных слов про нагоняющий ужас предмет, прочту о нем побольше лекций, то страх сам собой потихоньку уйдет. И если каждый посетит известное количество лекций по биологии насилия и будет старательно делать домашнее задание, то вскоре мы сможем безбоязненно выпускать волков и овец на одну полянку. Вот она, вера ученого в обманчивую эффективность научного знания.
У книги есть и другой мотив личного характера. Я отношу себя к пессимистам. Дайте мне любую тему – и я в считаные минуты объясню, как и почему все развалится. Или как все великолепным образом получится, но именно из-за этого произойдет огромное несчастье. Неприятное качество, особенно для моего окружения. Когда у меня появились дети, я понял, что должен со своим пессимизмом что-то делать. Я стал присматриваться, ища подтверждения тому, что в мире не все так плохо. Начал с малого: «Не бойся, детка, динозавр никогда не придет и не съест тебя; конечно, папа обязательно найдет своего маленького Немо[3]». По мере углубления в предмет я пришел к неожиданному осознанию: сферы действия человеческого зла и насилия не всеохватны и не фатальны, а научное знание открывает способы обойти их. Пессимисту внутри меня пришлось хоть и с трудом, но признать этот факт и подвинуться, освобождая место оптимисту.
Подход к изучению
Я совмещаю две профессии: нейробиологию, т. е. изучение мозга, и приматологию, т. е. изучение обезьян, в том числе и человекоподобных. Таким образом, эта книга основана на научных знаниях, прежде всего биологических. И тут нужно сделать сразу три замечания. Во-первых, мы не можем приступать к изучению таких предметов, как агрессия, соперничество, взаимопомощь и эмпатия, не привлекая биологию. Я говорю это с оглядкой на определенную когорту социологов, которые считают биологию неуместной и даже идеологически подозрительной, когда дело касается социального поведения людей. Но точно так же важно – и это во-вторых, – что стоит нам начать опираться только на биологическое знание, как корабль наш окажется без руля и без ветрил. Об этом тоже нельзя забывать. Это сказано в пику молекулярным фундаменталистам, убежденным, что у социологии нет будущего против «настоящей» науки. И в-третьих, когда вы доберетесь до конца книги, то сами поймете, что бессмысленно выделять в поведении аспекты «биологические» в противовес, скажем, «психологическим» или «культурным». Они теснейшим образом переплетены и взаимосвязаны.
Совершенно очевидно, что понимание биологии, стоящей за поведением, чрезвычайно важно. Но, к сожалению, чертовски сложно{2}. Наша задача сильно упростилась бы, интересуйся мы биологической основой миграции перелетных птиц или инстинкта спаривания у самок хомячков в период овуляции. Но как раз это нас не интересует. Нам подавай поведение человека, поведение человека в социуме, а зачастую и ненормальное социальное поведение. А сей предмет предполагает привлечение целого массива знаний – и о химии мозга, и о гормонах, и о сенсорных ориентирах, а также о внутриутробной среде, о раннем детском развитии, генах, биологической и культурной эволюции, об экологии условий – и это, конечно, не всё.
Как вообще подступиться к изучению поведения при таком количестве факторов? Обычно, имея дело с комплексными, многоплановыми задачами, мы применяем определенную стратегию. Мы делим задачу на отдельные части со своими наборами объяснений. Предположим, что рядом с вами петух, а через дорогу – курица. Петух призывно посматривает на курицу, что по куриным стандартам очень соблазнительно, и она кидается через дорогу на предмет спаривания. (Я понятия не имею, как все на самом деле происходит, поэтому просто предположим.) И тут мы задаем ключевой с точки зрения биологии поведения вопрос: «Почему курица перешла дорогу?» Если вы являетесь психонейроэндокринологом, то ответите: «Потому что в определенной части мозга курицы определенным образом срабатывает система эстрогеновой регуляции, заставляя курицу реагировать на специфические сигналы самца». Если вы биоинженер, то ответ будет таков: «Потому что у курицы бедренная кость образует ось вращения в тазовом суставе, что позволяет ей ускорить движение». Если же вы биолог-эволюционист, то скажете: «Потому что за прошедшие миллионы лет эволюции те курицы, которые реагировали на подобные стимулы в фертильные периоды, оставили больше копий своих генов, а теперь подобное поведение стало врожденным». Этот список можно продолжить, разбирая данное явление по различным категориям и привлекая решения из соответствующих дисциплин.
Наша цель – избежать подобной категоризации. Раскладывание фактов по отдельным корзинкам имеет свои преимущества, например, так проще запоминать сведения. Но зато можно совершенно запутаться при анализе этих же фактов – ведь границы между категориями часто условные. Однако как только мы принимаем эти границы, то забываем об их условности и отстаиваем с неразумной настойчивостью. К примеру, видимый спектр – это излучения с постепенным переходом длин волн от фиолетового до красного, и мы только условно разграничили его, дав названия цветам (попробуй укажи в точности, где кончается «зеленый» и начинается «голубой»). В качестве иллюстрации заметим, что в разных языках предлагается делить видимый спектр в разных точках, и поэтому в них используются разные слова для обозначения цветов. Покажите кому-нибудь два близких цвета. Если в языковой среде «испытуемого» есть возможность определить границу между этими двумя цветами, то он преувеличит разницу между ними. Если же оба цвета лингвистически попадают в одну категорию, то случится прямо противоположное. Иными словами, когда мы мыслим в терминах категорий, то оценить уровень схожести и различия нам будет трудно. В случае же уделения слишком большого внимания границам потеряется целостное видение картины.
Именно поэтому при исследовании сложнейших элементов человеческого поведения – уж конечно, более сложных, чем у перебегающей дорогу курицы, – нам стоит попытаться отойти как можно дальше от разделения на биологические категории.
Чем же заменить эту стратегию?
Возьмем некую поведенческую реакцию. Откуда она берется? Обратимся к первой из наших «объяснятельных» категорий – нейробиологии. Какие процессы происходили в мозге человека за секунду до события – этой реакции? Теперь немного отодвинемся во времени, увеличим окошко окуляра и адресуемся к следующей категории. Какой звук, запах или вид за минуту до события запустил нервную систему и привел к данной реакции? И далее, к очередной категории: какие гормоны были задействованы за день до события, почему человек стал восприимчив к соответствующим сенсорным стимулам, запустившим нервную стимуляцию и давшим на выходе определенную поведенческую реакцию? Поле зрения уже увеличилось настолько, что теперь мы рассуждаем в терминах нейробиологии и сенсорного восприятия, а также прибегаем к знаниям из эндокринологии.
Но мы не останавливаемся на этом и продолжаем увеличивать поле зрения. Какие факторы среды, скажем за предыдущий год, переформировали структуру и функцию мозга конкретной особи, изменив таким образом ответ мозга на действие гормонов и сенсорных стимулов? Затем мы отстраняемся еще дальше – в детство индивида, зародышевую среду, его генетическую конструкцию. А поле зрения все расширяется – теперь мы видим не только индивидуальные, но и крупномасштабные факторы: каким образом культура формирует поведение людей? Как экология влияет на культуру? И так далее, и так далее… Масштаб рассмотрения все увеличивается, и вот уже мы рассуждаем о событиях тысячелетней давности, об эволюции конкретного типа поведения.
Да, такая стратегия явно лучше: мы не пытаемся объяснить происходящее с позиции отдельно взятой научной дисциплины (т. е. «все объясняется действием вот такого – далее на ваш выбор – гормона/гена/закона детского развития»). Вместо этого на каждом этапе у нас в распоряжении будут целые группы научных знаний. Но тут вступают в силу некие тонкие механизмы, и вот это как раз самый существенный аспект нашей книги: стоит нам привлечь для объяснения поведения одну из научных дисциплин, как подспудно приводятся в действие знания из остальных сфер. В любом объяснении в конечном итоге собирается информация обо всех факторах, повлиявших на данное поведение. Поясню. Если вы говорите: «Данная поведенческая реакция происходит из-за высвобождения в мозге нейрохимического элемента Y», то подразумеваете, что «данная поведенческая реакция происходит потому, что утром активно секретировался гормон Х, а это повлекло за собой усиленное высвобождение нейрохимического элемента Y». И далее: «Данная поведенческая реакция происходит из-за того, что среда, в которой развивался данный индивид, обеспечила предрасположенность к высвобождению в мозге нейрохимического элемента Y в ответ на определенные стимулы». Одновременно: «…из-за гена, который кодирует конкретную версию нейрохимического элемента Y». Стоит вам даже вскользь упомянуть слово «ген», как нам немедленно придется добавить: «…из-за миллионов факторов, приведших к эволюции этого гена».
Нет никакого деления по дисциплинам. Каждое поведение сформировано совместными действиями всех предшествующих биологических факторов и, в свою очередь, само станет биологическим фактором, влияющим на последующие события. Таким образом, нельзя говорить, что поведение есть результат действия определенного гена, определенного гормона или определенной детской травмы, потому что одно объяснение автоматически указывает и на все остальные. Нет обособленных дисциплин. «Нейробиологическое», «генетическое» или «психологическое» объяснения суть не более чем удобный прием, своего рода проход в многоарочный, многофакторный холл с какой-то одной стороны, короткий односторонний взгляд на целое явление.
Впечатляет, да? Или нет? Может быть, мои напыщенные слова попросту означают: «К комплексным проблемам – комплексный подход»? Открытие совершил, надо же. Соорудил Страшилу Мудрого из соломы и вещаю: «О, мы с вами подойдем к проблеме с умом, тонко. Мы не поддадимся на упрощенные схемы, мы не какие-нибудь там узкие специалисты по курицам-перебегающим-через-дорогу – нейрохимики, эволюционные биологи или психоаналитики, не вылезающие из своих уютных научных мирков».
Конечно же, ученые не таковы. Они умные. Они понимают, что проблему необходимо рассматривать с разных сторон. По необходимости они могут сужать поле исследования, потому один человек не в состоянии объять все. Но все ученые хорошо знают, что в рамках отдельно взятой научной дисциплины не опишешь целостной картины.
Так да или нет? Давайте обсудим несколько типичных цитат из рассуждений ученых. Вот первая:
Доверьте мне десяток здоровых нормальных детей и дайте возможность воспитывать их так, как я считаю нужным; гарантирую, что, выбрав каждого из них наугад, я сделаю его тем, кем задумаю: врачом, юристом, художником, коммерсантом и даже нищим или вором, независимо от его данных, способностей, призвания или расы его предков[4]{3}.
Так говорил Джон Уотсон, основатель бихевиоризма, примерно в 1925 г. В бихевиоризме утверждалось, что поведение есть нечто стопроцентно пластичное и что правильная среда способна сформировать любое поведение. Эти взгляды доминировали в американской психологии в середине XX столетия. Мы еще вернемся к бихевиоризму и его серьезным недостаткам. Приведенная цитата показывает, как Уотсон намертво увяз в единственной научной дисциплине, усматривая во всем развитии лишь влияние среды. «…Гарантирую… что сделаю его тем, кем задумаю». И все же мы рождаемся неодинаковыми, у нас разный потенциал независимо от того, как нас учат[5]{4}.
Вот еще одно высказывание:
Нормальное функционирование психики зависит от бесперебойной работы синапсов мозга, а психические болезни являются результатом синаптических расстройств… Для того чтобы модифицировать болезненные идеи и направить их по другим каналам, нам нужно поправить синаптические нарушения и изменить пути, по которым непрерывно проходят нервные импульсы{5}.
«Поправить синаптические нарушения». Звучит весьма прихотливо. Это слова португальского невролога Эгаша Мониша, сказанные примерно в то время, когда он получил Нобелевскую премию 1949 г. за разработку лоботомии. Здесь мы имеем дело с ученым, который тоже намертво увяз в своей научной дисциплине, прилагая к миру упрощенные знания о нервной системе. Берем старый добрый нож для колки льда и подправляем эти микроскопические синапсы (примерно так производили лейкотомию, позднее названную лоботомией, поставив операцию на поток).
И последняя цитата:
Давно установлена невероятно высокая репродуктивность у морально неполноценных… Социально низкосортный человеческий материал получил возможность… проникать и впоследствии уничтожать здоровую нацию. Отбор по критериям выносливости, героизма, общественной пользы… должны взять на себя специальные организации, чтобы человечество не вымерло, позволив неполноценным семейную жизнь и сдавшись на милость предложенному природой отбору. Расовая идея как основа нашего государства уже многого помогла достичь в этом отношении. Мы должны – и обязаны – культивировать в себе здоровые чувства Доброго и Прекрасного и вменить им в обязанность… истреблять подонков, заполонивших общество{6}.
То был Конрад Лоренц, специалист по поведению животных, нобелевский лауреат, сооснователь этологии (не отключаемся!), частый гость телепрограмм{7}. Дедушка Конрад в своих австрийских штанах на подтяжках, со знаменитым гусенком, всюду вышагивающим за ним, был оголтелым пропагандистом нацизма. Лоренц вступил в нацистскую партию в ту же секунду, как австрийцам разрешили членство в ней. Он работал в Канцелярии по расовой политике НСДАП; получил место психолога с правом решать, кто из поляков или поляков с примесью немецкой крови достаточно германизирован, чтобы государство оставило его в живых. Вот вам пример человека, чье научное видение было патологически зашорено чудовищно ошибочными представлениями о роли генов.
И ведь это не какие-то ученые из третьеразрядного городка. Мы говорим о влиятельнейших фигурах научного мира XX столетия. Именно они наметили подходы к тому, как и кого обучать, какие социальные изъяны поддаются корректировке, а с какими придется мириться. Именно они дали зеленый свет разрушительному вмешательству в мозг людей против их воли. И именно они решительно занялись проблемами, которых на самом деле не было. Теперь понятно, что если поведение человека начать объяснять в категориях только одной дисциплины, то последствия могут выйти далеко за рамки чисто научных дискуссий.
Человек как животное, или Как разнообразна наша агрессия
Итак, первая трудность – все время держать в голове междисциплинарный подход. Вторая трудность – осмыслить тот факт, что мы, люди, являемся человекообразными обезьянами, а также приматами и млекопитающими. Да-да, мы принадлежим животному миру. И следующая трудность состоит в том, чтобы определить, в чем мы похожи на остальных животных, а в чем абсолютно от них отличаемся.
По каким-то показателям люди неотличимы от животных. Когда мы пугаемся, у нас выделяется тот же гормон, что и у маленькой рыбки, за которой гонится акула. Биология удовольствия с точки зрения химии мозга одинакова у нас и у капибары. Нейронные связи у человека и креветки работают по одному и тому же принципу. Поселите вместе двух самок крысы – через несколько недель у них синхронизируются репродуктивные циклы, и овуляция у обеих начнется с разницей в несколько часов. Что-то похожее произойдет и с двумя женщинами в подобной же ситуации (по результатам некоторых исследований). Это явление называется «эффект Уэлсли»[6], т. к. впервые его описали на примере девушек, проживающих вместе в женском колледже Уэлсли{8}. А уж если дело доходит до насилия, то мы ведем себя чисто по-обезьяньи: мутузим, дубасим противника, швыряемся камнями и готовы убивать голыми руками.
Таким образом, в каких-то ситуациях важно понять, насколько мы схожи с другими видами животных. А в других, наоборот, нужно постараться выяснить, что нового приобрела наша человеческая физиология по сравнению с физиологией животных, часто так схожей с нашей. При просмотре страшного фильма у нас активируется классическая физиологическая реакция бдительности. Если мы думаем о смерти, то запускается стрессовая реакция. Когда мы любуемся прелестным детенышем панды, у нас выделяются гормоны, связанные с заботой о потомстве и социализацией. То же относится и к агрессии: самец шимпанзе, набрасываясь на сексуального соперника, использует те же мышцы, что и мы, кидаясь в драку по идеологическим мотивам.
И наконец, сосредоточившись только на изучении человека, можно понять нечто существенное о нашей человеческой природе, потому что нам присуще кое-что исключительное, человеческое. Да, некоторые виды животных практикуют секс не только для производства потомства, но только человек спросит после полового акта: «Тебе было хорошо?» Мы строим культуры на умозрительных концептах о смысле жизни и способны передавать эти верования через поколения, даже если они разделены тысячелетиями: вспомните вечный бестселлер – Библию. Или вот еще: мы умеем нанести вред такими чисто человеческими способами, которые требуют ничтожных мускульных усилий: нажать на курок, кивнуть в знак согласия, отвернуться. Мы изобрели пассивную агрессию, мы можем уничтожить взглядом, унизить сомнительной похвалой или снисходительной заботой. Все животные уникальны, но люди уникальны совершенно уникальным образом.
Приведу два примера того, какими странными – и уникальными – способами люди наносят вред и проявляют заботу друг о друге.
Расскажу – эх, была не была! – о своей жене. Мы едем в машине, жена за рулем, дети сзади. И тут какой-то придурок нас подрезает, мы едва не попадаем в аварию, при этом совершенно ясно, что он сделал это специально, из какого-то злобного эгоизма, а не по неосторожности. Жена гудит ему, а он в ответ показывает средний палец. Мы негодуем, мы в ярости. Черт-где-же-эти-проклятые-полицейские-когда-они-нужны! Неожиданно жена заявляет, что собирается преследовать придурка, пусть понервничает. Мой гнев еще не прошел, но преследовать – мне это не кажется самым благоразумным на свете действием. А жена между тем пристраивается за обидчиком.
Некоторое время водитель пытается оторваться разными способами, но моя жена плотно висит у него на хвосте. Наконец мы останавливаемся на светофоре, причем хорошо нам известном – там всегда подолгу горит красный. Перед нашим врагом другая машина, так что деваться ему некуда. Неожиданно жена выхватывает что-то из ящичка между сиденьями и со словами «Теперь он об этом пожалеет!» распахивает дверцу автомобиля. Я начинаю слабо возражать: «Дорогая, а ты уверена, что это необх…» – однако она уже выскочила и колотит в окно его машины. Я подбегаю, но слышу только, как она ядовитым голосом договаривает: «Если ты способен сделать такую гадость другому человеку, то вот, получи». И закидывает что-то ему в окно. В машину возвращается победителем, очень довольная.
«Что ты ему закинула?!» Жена молчит. Загорается зеленый, за нами никого, так что мы просто стоим. Машина злодея законопослушно мигает поворотником, аккуратно съезжает на боковую улицу и на скорости этак пять миль в час исчезает. Если машина в принципе может выглядеть виноватой, то эта выглядела именно так.
«Дорогая, ну что же ты ему бросила?» Губы ее растягиваются в ехидной улыбке. «Виноградный чупа-чупс!» Я был потрясен этой пассивной агрессией. «Если он такой ужасный и злобный, у него точно было кошмарное детство, и конфета, наверное, хоть чуть-чуть это исправит». Да уж, теперь он дважды подумает, прежде чем кого-то оскорбить. Я светился от гордости за жену.
А вот и второй пример. В середине 1960-х гг. в Индонезии под предводительством правых случился военный переворот, на 30 следующих лет установивший в стране так называемый Новый порядок с диктатором Сухарто во главе. С одобрения правительства за переворотом последовали репрессии против коммунистов, левых, интеллигенции, сторонников объединения, китайцев – полмиллиона человек погибло. Массовые расстрелы, пытки, дотла сожженные вместе с обитателями деревни… Видиадхар Сураджпрасад Найпол в книге «Среди правоверных: Путешествие в ислам» (Among the Believers: An Islamic Journey){9} приводит услышанные им в Индонезии слухи, что, когда армейские соединения прибывали в деревню для полной зачистки, читай – уничтожения, они привозили с собой традиционный оркестр гамелан, совершенно неуместный. Как-то Найполу повстречался нераскаявшийся непосредственный участник резни, и появилась возможность проверить эти слухи. Тот ответил: «Да, все правда. В составе нашего подразделения были музыканты, певцы, флейтисты, мы возили с собой и гонги – в общем, целая музыкальная группа». Но почему? Зачем все это? Участник резни с удивлением посмотрел на писателя и дал очевидный, с его точки зрения, ответ: «Чтоб было красиво».
Бамбуковые флейты, горящие поселки, бомбардировка чупа-чупсовой материнской любовью. Перед нами вырисовывается задача: попытаться обрисовать всю виртуозность, с которой люди вредят и заботятся друг о друге, и понять, насколько тесно переплетена биология этих двух процессов.
Глава 1
Поведение
Мы все поступаем сообразно обстоятельствам. Ведем мы себя отвратительно, или, наоборот, превосходно, или так себе, средненько – все равно мы совершаем поступок. Что же происходило секундой раньше, что запустило данное поведение? Этим заведует нервная система. А еще раньше, за несколько секунд или минут до совершения поступка? Это уже область сенсорной стимуляции, большая часть которой воспринимается бессознательно. Но что случилось еще раньше, в предыдущие часы или дни, как произошла настройка сенсорного восприятия? Тут мощно сработали гормоны. И так далее. Продолжив эту линию, мы дойдем до эволюции и отбора, которые миллионы лет назад запустили весь процесс.
Итак, начнем. Хотя нет. На подступах к этой гигантской запутанной истории сначала следует определить понятия. Это наш долг, впрочем, весьма и весьма неблагодарный.
Вот несколько наиболее важных слов в этой книге: агрессия, насилие, отзывчивость, эмпатия, сочувствие, конкуренция, сотрудничество, альтруизм, зависть, злорадство, неприязнь, прощение, примирение, месть, взаимность и (почему бы и нет?) любовь. И они бросают нас в трясину дефиниций.
В чем же трудность? Одной из причин, как уже говорилось во введении, является идеология: вокруг этих терминов развернулись целые баталии, что прямо, а что криво в их смысловых определениях[7]{10}. В словах заключена сила, и они часто бывают нагружены смыслом, иной раз потрясающе чудным. Вот, например, как можно использовать термин «конкуренция»:
а) когда ваша лаборатория пытается обойти в каком-то исследовании кембриджскую группу (что, конечно, горячит воображение, но в целом смущает);
б) во время игры в футбол (ну хорошо, пока лучший игрок не переходит на другую сторону, если счет совсем перекашивается);
в) когда учитель в школе объявляет приз за лучший рисунок рождественской индейки (глупо и неинтересно);
г) в споре, за какого бога больше всего следует убивать (хорошо бы этого избежать).
Но главная трудность определений – и она была особо оговорена во введении – в том, что внутри разных дисциплин эти термины означают разное. «Агрессия» – это о чем? Об эмоциях, мыслях или о поигрывании мускулами? А «альтруизм»? Речь идет о предмете, который можно исследовать математически у разных видов, к примеру у бактерий? Или мы говорим о развитии морали у детей? А еще в каждой дисциплине принято по-своему разграничивать понятия – где-то стараются их объединить, а где-то – разбить на более узкие: одни ученые считают, что поведение подразделяется на два подтипа, а другие различают 17 вариантов.
Давайте рассмотрим, к примеру, разные типы «агрессии»{11}. Зоопсихологи различают агрессию наступательную и защитную, которые реализуются оккупантами и резидентами территории. В основе этих типов лежит разная биология. Но помимо того исследователи поведения животных отделяют агрессию конспецификов (особи одного вида) от защитных мер против хищников. А криминалистам важно различить агрессию импульсивную и умышленную. Антропологи же обращают внимание на уровень организации, который обеспечивает агрессивное поведение: они говорят о военных действиях, клановой мести, убийствах.
А еще с точки зрения разных дисциплин агрессия может быть спровоцированной, т. е. явиться ответом на определенные действия, или возникающей спонтанно, она может быть эмоциональной, когда кровь вскипает, или же хладнокровно выполненной акцией (примерно так: это местечко мне подходит для гнезда, поэтому убирайся-ка отсюда подобру-поздорову или я выклюю твои глаза, и ничего личного){12}. Это «ничего личного» может нести и другой смысл – указание на кого-то послабее, на кого можно перенести агрессию в случае испуга, подавленности, боли. Подобное использование третьего лица универсально – напугай крысу, и она немедленно побежит кусать более робкую товарку. Бета-самец павиана, проиграв сражение альфе, бросится преследовать низкорангового омегу[8]. Когда увеличивается безработица, тут же подскакивает число случаев домашнего насилия. Как мы увидим в главе 4, заместительная агрессия может снижать у насильника стресс на гормональном уровне; буквально удары «наружу» помогают справиться с ударами внутренними. И конечно, есть еще отвратительная форма агрессии, которая не служит никакой цели (инструментальная агрессия) и не является реакцией на что-то, а реализуется просто ради удовольствия.
Существуют и специальные типы агрессивного поведения. К ним относится, например, материнская агрессия, в ее основе отчетливо видна эндокринология. Есть разница между агрессией и ритуальной угрозой агрессии. Так, у многих приматов уровень реальной агрессии существенно ниже, чем ее видимость, которую создают ритуализированные угрозы (скажем, демонстрация зубов у собак). Точно так же у бойцовых рыбок большинство схваток в действительности ритуальные[9].
Не стоит заблуждаться относительно положительных понятий – их определения не менее трудны. Сочувствие и эмпатия, примирение и прощение, альтруизм и «патологический альтруизм»{13} – как их различать? Для психолога последний термин мог бы означать созависимость от наркотиков, в основе которой лежит сочувствие человека к партнеру-наркоману. Для нейробиолога этот термин описывает симптом некоторых пвреждений лобной коры; в экономических играх, где необходимо менять тактику, люди с таким нарушением всегда выбирают альтруистический вариант и не могут переключиться на более эгоистический, хотя прекрасно понимают задумки противника.
Когда речь заходит о положительных поступках, наиболее распространенная проблема опять сводится к семантике – действительно ли существует чистый альтруизм? Можем ли мы как-то отделить доброе деяние от желания взаимного блага, или общественного признания, или повышения самооценки или это путь в небеса обетованные?
С подобными проблемами люди напрямую сталкиваются в такой драматичной сфере жизни, как донорство органов. Об этом написано в статье Лариссы Макфаркуар «Самый щедрый разрез» (The Kindest Cut), опубликованной в 2009 г. в The New Yorker{14}. Есть люди, которые жертвуют органы не членам семьи или близким друзьям, а совершенно незнакомым людям. Казалось бы, чистой воды альтруизм. Но эти добрые самаритяне всех раздражают, вызывая подозрение и скептицизм. «Они что, ожидают, что им тайно заплатят за почку?! Наверняка им просто нужно внимание публики». А потом еще будут всю жизнь приставать к реципиенту, как в фильме «Роковое влечение»[10]. И вообще, какое им дело? В статье высказывается предположение, что людям очень не нравится обезличенность, бесстрастность этих глубочайших актов добра.
Мы подошли к важной мысли, которая красной нитью проходит через всю мою книгу. Как уже отмечалось, для нас ясно разграничены импульсивная агрессия и хладнокровное насилие. Первый тип нам понятен, и мы готовы найти смягчающие обстоятельства – представим, к примеру, обезумевшего от горя человека, который убивает убийцу своего ребенка. И наоборот, бесстрастное насилие кажется непостижимым кошмаром. Таков наемный убийца социопат Ганнибал Лектер, хранящий ледяное спокойствие, когда его рука наносит смертельный удар[11]{15}. Вот почему хладнокровное убийство несет коннотацию резкого осуждения.
Точно так же мы ожидаем, что наши самые лучшие, самые социально оправданные поступки согреты добрыми, сердечными эмоциями. Хладнокровное благодеяние кажется оксюмороном, настораживает. Однажды я был на конференции нейрофизиологов и практикующих медитацию буддийских монахов. Первые изучали, что происходит во время медитации в мозгах у вторых. И один из ученых спросил одного из монахов, почему тот прекращает медитировать: не потому ли, что от долгого сидения в позе лотоса болят колени? Монах ответил: «Иногда я останавливаюсь раньше, чем хотелось бы, но не из-за боли. Боли я не замечаю. С моей стороны это проявление доброты к своим коленям». «Ого! – подумал я. – Эти ребята с другой планеты». Чудесной, достойной всякого восхищения, но тем не менее другой. Для нас осмысленны преступления на почве страсти или страстные, что называется от души, благодеяния (хотя, как мы увидим, зачастую в беспристрастной доброте содержится немало того, что стоит взять на заметку).
Импульсивная плохость, сердечная хорошесть и их раздражающая несовместимость со своими хладнокровными версиями подчеркивают ключевую проблему, подмеченную еще Фрейдом, но усиленную и лаконично обобщенную в высказывании Эли Визеля, лауреата Нобелевской премии мира, пережившего немецкий концлагерь: «Противоположность любви – не ненависть. Ее противоположность – безразличие». Биология сильной любви и сильной ненависти, как мы вскоре увидим, во многих отношениях похожа.
И это напоминает нам, что мы ненавидим не агрессию. Мы ненавидим неправильный вариант агрессии, а в правильном контексте мы любим ее. И наоборот, в неправильном контексте даже самое похвальное поведение не будет выглядеть привлекательно. Понять мышечное обслуживание нашего поведения проще, чем сам смысл мышечных действий, да это и не так важно
Вот, к примеру, изящное исследование на эту тему{16}. Испытуемые со сканирующим мозг устройством входят в комнату, где их поджидает либо ужасное инопланетное чудовище, либо раненый человек. Можно в зависимости от ситуации перевязать раненого или застрелить монстра. В отношении мышечных усилий перевязка или нажатие на курок – действия совершенно разные. Но в то же время оба они являются «правильными» поступками. Проигрывание в голове и того и другого действия активировало в мозге испытуемых сходные нейронные схемы в префронтальной коре – эксперте контекстных решений.
Мы приходим к тому, что главные термины, вокруг которых закручена интрига повествования, определить особенно трудно из-за глубокой контекстной зависимости. Поэтому я сгруппирую их таким образом, чтобы показать этот контекст. Описывать поведение в терминах про- и антисоциальности я не буду – подобный хладнокровный подход претит моим вкусам. Не буду я говорить и о «добром» и «злом» поведении – слишком это эмоционально и легковесно. Вместо этого для краткости написания понятий, которые в действительности отказываются укорачиваться, в этой книге говорится о биологии нашего самого лучшего и самого худшего поведения.
Глава 2
За секунду до…
Вот сократились определенные мышцы – и действие совершилось. Возможно, это был хороший поступок: вы с сочувствием погладили по руке страдающего человека. Возможно, это был дурной поступок: вы нажали на курок, прицелившись в невинную жертву. Возможно, это был хороший поступок: вы нажали на курок, целясь в злодея, чтобы спасти других. Возможно, это был дурной поступок: вы погладили по руке человека, запустив каскад сексуальных событий, в результате чего совершится предательство. Поступки, как мы ясно видим, определяются только контекстом. Таким образом, зададимся вопросом, с которого стартует эта и восемь следующих глав: почему совершается тот или иной этот поступок?
За отправную точку данной книги мы приняли утверждение, что разные дисциплины отвечают на поставленный вопрос со своих позиций – это может происходить в силу того или иного гормонального влияния, по итогам эволюционных адаптаций, как последствие переживаний в детстве, как результат действия генов или культурного воздействия; и мы знаем, что эти ответы сплетены в нераспутываемый клубок, ни один из них не выделяется особо. Но, чуточку отступив от момента поступка, все же спросим: а что произошло за секунду до него, вызвав конкретное действие? Этот вопрос отправляет нас в область нейробиологии и заставляет присмотреться к мозгу, который дал мышцам команду.
Глава 2 – один из краеугольных камней книги. Мозг – это место, где завершаются все предшествующие процессы, это проводник, который единообразно соединяет влияние всех остальных факторов, о чем будут рассказывать все последующие главы. Что происходило за час, за десять лет, за миллион лет до самого поступка? А происходили вещи, изменяющие мозг и, соответственно, поведение, которым он управляет.
С этой главой есть пара проблем. Во-первых, она чудовищно длинная. Прошу простить. Я стремился изложить все емко и лапидарно, без технических деталей, но здесь заключен основополагающий материал, и он требует внимания. А во-вторых, как бы ни старался я не вдаваться в технические подробности, материал может ошеломить тех, кто мало знаком с нейробиологией. Чтобы этого не случилось, пожалуйста, прямо сейчас пробегитесь по тексту приложения 1.
Теперь – к делу: что же такое важное случилось за секунду до поступка, просоциального (общественно полезного) или антиобщественного? Или, если перевести вопрос на язык нейробиологии, что происходило с потенциалами действия, нейромедиаторами и нейронными путями в конкретных участках мозга в течение этой секунды?
Три метафорических (не буквальных!) слоя
Мы начнем с макроорганизации мозга и воспользуемся моделью, предложенной в 1960-х гг. нейробиологом Полом Маклином{17}. Его модель триединого мозга представляет мозг в виде трех функциональных доменов.
Слой 1. Древняя часть мозга и его основа. Она имеется у всех видов животных, от геккона до человека. В этом слое формируются автоматические регуляторные функции. Если снижается температура тела, то регистрирует это именно древняя часть мозга и дает мышцам команду дрожать. Внезапное падение в крови уровня глюкозы тоже ощущается именно здесь, вызывая чувство голода. А если пораниться, то генерируется стрессовый ответ. И опять же здесь.
Слой 2. Часть мозга, появившаяся позже; она особенно разрослась у млекопитающих. Маклин считал, что здесь сконцентрированы эмоции, особое изобретение млекопитающих. При виде чего-то ужасного или пугающего эта часть мозга посылает команду в древний слой 1 – и вот вы дрожите от эмоционального переполнения. Если же кто-то загрустит, покинутый и нелюбимый, то мозг его тут же обратится к слою 1, и бедняге захочется немедленно утешиться едой. А если вы грызун, почуявший рядом кота, то нейроны слоя 2 сигналят слою 1, и тот запускает стрессовый ответ.
Слой 3. Недавнее эволюционное приобретение – неокортекс, или новая кора, сидящая на верхушке мозга. У приматов непропорционально большая часть мозга отдана на откуп этому слою, особенно в сравнении с другими видами. Узнавание, хранилище памяти, обработка сенсорных сигналов, абстракции, философия, самолюбование. Прочитайте в книге леденящие кровь строки, и вот уже слой 3 сигнализирует в слой 2, что вы в ужасе, а тот, получив команду, заставляет вас задрожать. Взгляд ваш упал на пирожное, и тут вы уже умираете от желания его попробовать – это слой 3 связался со слоем 2, а тот послал импульс в слой 1. Раздумывая о том, что ваш близкий не вечен, или как плохо детям в лагере беженцев, или как придурки-люди уничтожили Дерево-Дом На’ви в фильме «Аватар» (хотя погодите, На’ви же просто выдуманы!), вы включаете слой 3, и он сговаривается со слоем 2, а тот выходит на слой 1, и вы испытываете отчаяние и стресс примерно того же рода, как если бы спасались от льва.
Таким образом, мы получили мозг, разделенный на три функциональные полочки, со всеми прилагающимися преимуществами и недостатками расщепления нерасщепляемого. И самым главным недостатком оказывается упрощение. Например:
а) все три слоя перекрываются по анатомическому строению (так, одну из частей коры лучше относить к слою 2; не отключаемся!);
б) информация необязательно идет сверху вниз, от слоя 3 к слою 1. В главе 15 мы обсудим великолепный и необычный пример, когда субъект, у которого в руках чашка с холодным напитком (за информацию о температуре отвечает слой 1), оценивает окружающих несколько кособоко – ему все кажутся холодными флегматиками (слой 3);
в) автоматические действия (попросту говоря, область, подвластная слою 1), эмоции (подвластны слою 2) и мысли (подвластны слою 3) неразделимы;
г) триединая модель может создать впечатление – ошибочное, конечно, – что эволюция лепит каждый следующий слой на предыдущий/предыдущие без всякого его/их изменения.
Но так или иначе, с учетом всех этих оговорок, которые признавал и сам Маклин, триединая модель послужит нам хорошей организующей метафорой.
Лимбическая система
Чтобы осмыслить сущность лучшего и худшего поведения, нужно рассмотреть, что такое автоматизм, эмоции и познание. Я, пожалуй, начну со слоя 2 и его влияния на эмоции.
В начале XX в. нейробиологи считали, что ясно понимают, чем занимается слой 2. Возьмите крысу – стандартное лабораторное животное – и посмотрите на ее мозг. Прямо спереди находятся две гигантские доли – это обонятельные луковицы (по одной на каждую ноздрю); они являются первичной областью восприятия запахов.
Временами нейробиологи задавались вопросом, с какими областями мозга общаются обонятельные луковицы (т. е. куда они посылают свои нервные отростки?). Какие участки мозга отстоят от места, где происходит первичное улавливание запахов, только на один синапс? А на два синапса? А на три? И так далее.
Первыми на этом пути оказываются структуры слоя 2. Ага, подумали все, значит, здесь должна обрабатываться информация о запахах. И назвали эти структуры «обонятельный мозг» или «мозг-нюхач».
А тем временем приблизились 1930-е и 1940-е гг., и некоторые нейробиологи – среди них молодой Маклин, Джеймс Пейпец, Пол Бьюси и Генрих Клювер – решили разобраться, что же все-таки делает слой 2. Если, например, повредить связь между структурами слоя 2, это вызовет синдром Клювера – Бьюси, который характеризуется нарушениями социального поведения, что особенно выражено в сексуальном и агрессивном поведении. Исследователи пришли к выводу, что структуры слоя 2, названные вскоре лимбической системой (по не вполне понятным причинам), заведуют эмоциями.
Что правильнее – обонятельный мозг или лимбическая система? Обоняние или эмоции? Завязались беспардонные баталии, пока кто-то не сообразил, что у крыс запах и эмоции почти синонимичны. Ведь для грызунов практически все внешние стимулы, вызывающие эмоции, являются запахами. На время установился мир. Грызуну эмоциональные новости поставляются запахами, которые обеспечивают информационный вход в лимбическую систему. А у примата информацию в лимбическую систему поставляет в основном зрение.
Теперь лимбическую систему считают главным руководителем эмоций, которые питают наше самое доброе и самое ужасное поведение. В ходе массированных исследований удалось раскрыть функции отдельных ее структур – миндалевидного тела, гиппокампа, перегородки, хабенулы и маммиллярных тел.
Вообще-то в мозге нет «центров», ответственных за те или иные «формы поведения». Для лимбической системы и эмоций это тысячу раз правда. Существует в действительности участок участка в моторной коре, который в целом является «центром» сгибания левого мизинца. А другим участкам приписывается «центральная» роль в регуляции дыхания или температуры тела. Но точно не существует центров, которые бы заведовали чувствами «сексуальной озабоченности», или раздражения, или горько-сладкой ностальгии, или тепло-невнятным чувством (с легким оттенком снисходительности), что хочешь защищать кого-то, или тем, что зовется у нас любовью. Неудивительно, что нейронные сети, соединяющие различные лимбические структуры, невероятно сложны.
Автономная нервная система и древние области мозга
Сложные цепи возбуждения и торможения формируются отдельными участками лимбической системы. Их легче понять, если мы примем, что каждая лимбическая структура больше всего желает повлиять на работу гипоталамуса.
Почему? Потому что гипоталамус – важная шишка. Будучи частью лимбической системы, он обеспечивает взаимодействие слоев 1 и 2, т. е. регуляторной и эмоциональной систем мозга.
В соответствии с этим гипоталамус получает мощный поток входящей информации от лимбических структур слоя 2, а сам посылает непропорционально мало отростков в области слоя 1. Эти области представляют собой эволюционно древний средний мозг и ствол мозга[12], которыми регулируются автоматические реакции всего тела.
Для пресмыкающихся такое автоматическое регулирование осуществляется напрямую. Если мышцы работают напряженно, на это реагируют нейроны по всему телу, посылая сигналы вверх по спинному мозгу в слой 1, а оттуда сигналы уходят обратно в спинной мозг; в результате учащается пульс и повышается кровяное давление, вследствие чего к мышцам поступает больше кислорода и глюкозы. Набросился на еду – стенки желудка расширяются. Их нейроны немедленно реагируют и передают новую информацию дальше по цепочке – вот уже кровеносные сосуды и в стенках кишечника расширились, увеличив приток крови и ускорив пищеварение. Чересчур жарко? К поверхности тела посылается больше крови, и лишнее тепло уходит.
Все это происходит автоматически или, как говорят, автономно. Автономной нервной системой называются области среднего мозга вместе со стволом и отростками к спинному мозгу и оттуда ко всем частям тела[13].
И в какой же момент включается гипоталамус? С его помощью лимбическая система влияет на автономные функции, т. е. это средство, которое позволяет слою 2 переговариваться со слоем 1. Мочевой пузырь наполнился, и его мышечная стенка растянулась – средний мозг вместе со стволом голосуют за мочеиспускание. Вдруг перед нами что-то выскочило страшное – и лимбические структуры при посредничестве гипоталамуса вынуждают ствол и средний мозг дать ту же команду. Таким образом эмоции влияют на телесные функции, и этот лимбический путь ведет к гипоталамусу[14].
Автономная нервная система делится на две части: симпатическую и парасимпатическую системы, функции которых прямо противоположны.
Симпатическая нервная система (СНС) обеспечивает немедленный ответ тела на окружающие обстоятельства, например вызывает известную стрессовую реакцию «бей или беги». Медикам-первокурсникам обычно в шутку (тупую, впрочем) говорят, что СНС занимается четырьмя «Б» – бойся, бейся, беги и бери самку.
Конкретные ядра среднего мозга/ствола посылают длинные отростки нейронов СНС к спинному мозгу и на аванпосты во всем теле, где окончания аксонов высвобождают нейромедиатор норадреналин. За единственным исключением: в надпочечниках вместо норадреналина высвобождается хорошо знакомый нам адреналин[15].
Между тем парасимпатическая нервная система (ПНС) берет начало в других ядрах среднего мозга/ствола, отправляющих отростки к телу. В отличие от СНС и четырех «Б», ПНС заведует спокойным, вегетативным состоянием. СНС ускоряет сердце, а ПНС замедляет его. ПНС способствует пищеварению, а СНС тормозит его (и это имеет смысл: не стоит тратить энергию на переваривание завтрака, если приходится бежать, чтобы не стать чьим-то обедом)[16]. И, как мы увидим в главе 14, если при виде чужих страданий у вас активируется СНС, то, скорее всего, вместо помощи страдальцу вас будет больше занимать ваш собственный стресс. Включите ПНС, и тогда все станет наоборот. Учитывая, что СНС и ПНС выполняют противоположные задачи, на концах аксонов парасимпатических нейронов должен, очевидно, высвобождаться другой нейромедиатор. И это ацетилхолин[17].
Есть и второй, не менее важный путь воздействия эмоций на телесные функции. Речь идет о гормонах, их уровень в большинстве своем регулируется тоже гипоталамусом. Этому посвящена глава 4.
Итак, лимбическая система хоть не напрямую, но все же регулирует автономные функции и выделение гормонов. А какое это имеет отношение к поведению? Огромное – потому что в мозг поступают обратные сигналы и об автономном функционировании, и о гормональном состоянии, оказывая влияние на поведение обычно бессознательным образом[18]. Подождите, об этом будет подробнее рассказано в главах 3 и 4.
Место встречи лимбической системы и коры
Время вспомнить о коре[19] (английское название – cortex – происходит от латинского cortic, что означает «кора дерева»). Как уже говорилось, это самая наружная часть мозга и самая новая его часть.
К тому же это самая блестящая, самая логическая и думающая драгоценность в короне слоя 3. Большая часть сенсорной информации сходится сюда и здесь обрабатывается. Отсюда к мышцам поступают команды двигаться, здесь формируется и запускается речь, хранятся воспоминания, происходит пространственное и математическое мышление, отсюда исходят решительные действия. Кора возносится над лимбической системой будто в подтверждение философских (к примеру, декартовских) рассуждений о дихотомии «мысли – эмоции».
Это все, конечно же, неверно, как в уже упоминавшемся опыте с чашкой, содержащей холодный напиток (информацию о холоде обрабатывает гипоталамус), деформирующий оценку личности окружающих в сторону холодности и бездушности. Точность и суть того, что мы запоминаем, отфильтрованы эмоциями. Повреждения определенных участков коры блокируют речь; некоторые пострадавшие перенастраивают нейронный мир речи с помощью эмоций: речь пускается в лимбический обход, и человек способен спеть то, что не может сказать. Кора и лимбическая система не разделены, потому что между ними в обе стороны проходит масса аксонов. И здесь важно, что эти отростки двунаправлены, т. е. лимбическая система ведет с корой диалог, а не просто ей подчиняется. Далее мы обсудим классическую работу нейробиолога Антонио Дамасио «Ошибка Декарта» (Descartes’ Error), в которой разбирается надуманность дихотомии мыслей и чувств{18}.
Если гипоталамус существует в виде посредника между слоями 2 и 1, то между слоями 2 и 3 есть свой интерфейс: это исключительно интересная лобная кора[20].
Сущность лобной коры распознал в 1960-х гг. корифей нейробиологии Валле Наута из Массачусетского технологического института (МТИ)[21]{19}. Он изучал, из каких участков мозга в лобную кору приходят аксоны и куда они оттуда направляются. И обнаружил, что, как уже было сказано чуть выше, лобная кора двунаправленно сплетена с лимбической системой. Из этого Наута заключил, что лобная кора является квазиучастником лимбической системы. Все, естественно, решили, что он немного сошел с ума. Ведь лобная кора – это самая эволюционно молодая часть очень высокоинтеллектуальной коры. Она может снизойти в трущобы лимбической системы лишь затем, чтобы призвать к честному труду и христианской воздержанности местных хулиганов.
Но Наута, естественно, оказался прав. В разных обстоятельствах лобная кора и лимбическая система стимулируют или тормозят друг друга, или взаимодействуют и координируют работу друг друга, или переругиваются, пытаясь достичь противоположных результатов. Лобная кора и вправду является почетным членом лимбической системы. Львиная доля книги посвящена как раз взаимодействию лобной коры с (остальными) структурами лимбической системы.
Еще два момента. Во-первых, кора не гладкая, она «смята» в извилины и разделена бороздами. Извилины формируют суперструктуру из четырех отдельных долей: височной, теменной, затылочной и лобной – и каждая выполняет свои особые функции.
Во-вторых, мозг разделен на правую и левую половины или полушария, которые в первом приближении зеркально симметричны.
За исключением относительно небольшого числа срединных структур, части головного мозга парные (левое и правое миндалевидное тело, левый и правый гиппокамп, височные доли и т. д.). По своим функциям они часто специализированы (это называется латерализацией мозга); так, гиппокампы выполняют разные, хотя и взаимосвязанные, функции. Самая высокая латерализация характерна для коры. Левое полушарие – более аналитическое, а правое активнее вовлечено в творческие и интуитивные процессы. Широкая публика была очарована этим контрастом, утрируя его и доводя порой до абсурда. В результате к левополушарным отнесли дотошных счетоводов, а правополушарными стали любители мандал и поющие с китами. На самом деле между полушариями нет особых функциональных различий, и я в основном не обращаю внимания на латерализацию.
Теперь мы подошли к самым важным для нашего изложения частям мозга, вот они: миндалевидное тело, или просто миндалина, лобная кора и мезолимбическая/мезокортикальная дофаминовая система. Обсуждение других частей мозга, исполняющих роли второго плана, включены в разделы, посвященные этим трем главным исполнителям. Начнем, пожалуй, с того, кто больше других участвует в нашем худшем поведении.
Миндалина
Миндалина[22] является первичной лимбической структурой; она располагается под корой в височной доле. Если речь идет об агрессии, то в первую очередь обращают внимание на миндалину, она может много чего поведать об агрессивных формах поведения.
Миндалина и агрессия, первые сведения
Мы сейчас познакомимся с научными подходами, которые позволили выяснить роль миндалины в формировании агрессивного поведения, причем исследований на этот счет предостаточно.
Первым упомянем подход, который называется коррелированной регистрацией. Регистрирующие электроды прикрепляются к миндалинам[23] животных разных видов, и далее отслеживаются потенциалы действия нейронов. Эти потенциалы появляются, когда животное агрессивно. Или другой, но принципиально схожий метод. Нужно определить, сколько кислорода и глюкозы потребляют разные области мозга или сколько синтезируется белковых маркеров активации: в момент агрессии миндалина обгонит всех остальных по этим показателям[24].
Можно предложить кое-что получше простой корреляции. Если повредить миндалину, то уровень агрессии у животного снизится. Тот же непродолжительный эффект получится, если на время приглушить миндалину, введя в нее новокаин. И наоборот, если стимулировать миндалину с помощью вживленных электродов или используя возбуждающие нейромедиаторы (не отключайтесь!), то так можно запустить агрессию{20}.
Покажите людям изображения, которые вызывают гнев, и миндалина активируется (это продемонстрировано при помощи нейровизуализации). Подайте напряжение на вживленный в миндалину электрод (так делается во время некоторых нейрохирургических операций) – и вот уже испытуемый в ярости.
Наиболее убедительные доказательства были получены на основе наблюдений редких случаев, когда поражена только некоторая область миндалины. Такое бывает при энцефалите, врожденном синдроме Урбаха – Вите или хирургических вмешательствах, когда того требуют не поддающиеся другому лечению эпилептические приступы, исходящие из этой области{21}. Такие пациенты не способны определить злобное выражение лица, хотя другие выражения они преспокойно распознают. (Алло! Оставайтесь на линии.)
И что же происходит с агрессией при поражениях миндалины? На этот вопрос отвечают наблюдения за пациентами, которым делали операции на миндалине, но не из-за эпилептических припадков, а чтобы справиться с их агрессивным поведением. В 1970-х гг. подобная психохирургия вызвала яростную полемику. Я имею в виду не господ ученых, переставших здороваться друг с другом на конференциях. Я говорю о взрыве публичного негодования.
Тут поднимались острейшие биоэтические вопросы. Какую агрессию считать патологической? Кто это решает? Какие средства были испытаны до того и почему безуспешно? Все ли типы гиперагрессии одинаково опасны или одни с большей вероятностью отправятся под нож, чем другие? Что представляет собой лечение?{22}
В подавляющем большинстве случаев речь идет о редких эпизодах эпилептических приступов, которые начинались с неконтролируемой агрессии. И такие взрывы требовалось как-то смягчить (статьи с описанием подобных синдромов называются примерно так: «Клинические и физиологические следствия стереотаксической двусторонней амигдалотомии при неразрешимой агрессии»). Но представим, что миндалину разрушали не у страдальцев с припадками, а у людей с серьезным послужным списком агрессивных поступков. Именно на такие истории и обрушился весь поток грязи. Возможно, это был полезный опыт. А может, стоит справиться у Оруэлла. Это длинная и темная история, и я приберегу ее для другого раза.
И что, разрушение миндалевидного тела у человека и вправду снижает агрессию? Когда дело касается агрессивного взрыва, с которого начинается припадок, то да, несомненно, да. Но при операциях, цель которых – удержать в рамках агрессивное поведение, то… ну-у-у… наверное. Ведь при разнородности хирургических подходов и диагнозов у пациентов, при отсутствии современных инструментов нейровизуализации, показывающих в деталях, какие части миндалевидного тела были разрушены в каждом конкретном случае, при расплывчатости поведенческих критериев и описаний (в статьях «успешность» результатов оценивается в диапазоне от 33 до 100 %) нельзя сделать однозначный вывод. Так что эта операция почти никогда не практикуется.
Связь агрессии с миндалиной всплывает в двух печально известных случаях насилия. Первый касается Ульрики Майнхоф, основательницы «Фракции Красной армии» (изначально банды Баадера – Майнхоф), террористической группировки, бросавшей бомбы и грабившей банки в Западной Германии. До того как стать агрессивной радикалисткой, Майнхоф благополучно работала журналистом. Во время судебного процесса 1976 г. она была найдена повешенной в своей тюремной камере. (Убийство? Самоубийство? До сих пор не известно.) В 1962 г. она перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. И вот в 1976 г., когда делали посмертную аутопсию, обнаружилось, что остатки опухоли и хирургический шрам вросли в миндалину{23}.
Во втором случае речь идет о Чарльзе Уитмене, «техасском снайпере» из Остина, который в 1966 г. убил своих жену и мать, после чего поднялся на самый верх 28-этажной башни Техасского университета, откуда расстрелял 14 человек и еще 32 ранил. Это было первое массовое убийство в учебном заведении. В детстве Уитмен – говорю без шуток – пел в церковном хоре и возглавлял местных скаутов, потом счастливо женился и работал ведущим инженером с уникально высоким IQ. За год до случившегося он жаловался врачам на сильные головные боли и внезапные вспышки жестокости (отчаянное желание всех расстрелять с крыши). Он оставил записки рядом с телами убитых им жены и матери, в которых признавался, что любит их и что сам в замешательстве от содеянного. «Я на рациональном (sic!) уровне не могу привести ни одной причины для убийства», а далее: «И пусть у вас не будет никаких сомнений в том, что я всем сердцем был предан этой женщине». В своей предсмертной записке Уитмен просил провести аутопсию мозга и все его сбережения отдать в фонд изучения душевных заболеваний. Аутопсия подтвердила его подозрения. У Уитмена оказалась глиобластомная опухоль, которая давила на миндалину.
Можно ли после этого утверждать, что чудовищное злодеяние Уитмена было спровоцировано опухолью миндалины? Вероятно, следует ответить «нет, нельзя», если видеть в случившемся единственно только связь между миндалиной и агрессией. Тут нужно иметь в виду факторы риска, которые наложились на само неврологическое заболевание. В детстве Уитмена избивал отец, также он был свидетелем того, как отец истязал его мать и братьев. Бывший лидер скаутов и мальчик-хорист, повзрослев, стал сам поколачивать жену, а однажды, в годы службы во флоте, предстал перед военно-полевым судом за физическую расправу над сослуживцем[25]. И что показательно для его семейной истории, брата Уитмена убили в пьяной драке в возрасте 24 лет{24}.
Другая функция миндалины выходит на сцену
Итак, нашлось множество доказательств связи миндалины с агрессией. Но если спросить у специалистов по миндалине, какие функции у их любимой части мозга, то отнюдь не агрессия возглавит список. Они назовут в первую очередь страх и тревогу{25}. И это понятно – там, где генерируется агрессия, найдется место страху и опасениям.
Связь между миндалиной и чувством страха доказывается примерно так же, как и при исследовании связи миндалины с агрессией{26}. У лабораторного животного можно перерезать нейроны конкретных структур миндалины, можно регистрировать активность нейронов миндалины с помощью вживленных электродов и соотносить ее с теми или иными поведенческими реакциями животного, можно стимулировать электроды, отслеживая его внешнюю реакцию, или же менять в тех или иных структурах миндалины генетическую регуляцию. Что важно, у человека наблюдается то же самое – чем сильнее активность миндалины, тем более явными становятся признаки страха.
В одном из исследований испытуемому с датчиками на голове предлагалось играть в видеоигру «Ms. Pac-Man from hell», в которой игрок должен двигаться по лабиринту; если «вражеская» точка его догоняет, то игроку достается удар током{27}. Когда игроки увертывались от точки, миндалина бездействовала. Но стоило точке приблизиться – миндалина начинала подавать сигналы. И чем сильнее предполагался удар током, тем дальше от точки миндалина начинала возбуждаться и тем сильнее было это возбуждение. И тем страшнее было испытуемым, как они сами оценили в конце опыта.
Еще в одном исследовании участникам эксперимента сообщили, что их ударит током. Но не сказали, в какой момент{28}. И некоторые респонденты в условиях такой неопределенности и невозможности контролировать ситуацию выбирали получить удар током немедленно и даже посильнее, настолько ситуация оказалась для них невыносимой. А у других миндалина возбуждалась все больше по мере увеличения времени ожидания боли.
Следовательно, у людей именно миндалина отвечает за угрозу, пусть даже та совершенно эфемерная, проходящая только на бессознательном уровне.
Мощными доказательствами участия миндалины в формировании реакции страха снабжают нас исследования посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). У страдающих ПТСР наблюдается сверхактивация миндалины даже в относительно безопасных условиях; также отмечается, что активация при снятии пугающего стимула снижается в ней медленно{29}. Более того, у пациентов с застарелым ПТСР размер миндалины увеличен. В главе 4 будет показано, какую роль при этом играет стресс.
Миндалина также участвует в формировании тревожных состояний{30}. Представьте колоду карт, в ней половина карт красные, половина – черные. Сколько вы поставите на то, что верхняя карта красная? В этом случае речь идет о вероятностях. А теперь представьте, что в колоде есть по крайней мере одна красная и одна черная карта. Сколько вы теперь поставите на верхнюю красную? На этот раз мы пускаемся в область неопределенностей. Притом что в обоих случаях вероятности равны, люди испытывают большую тревогу при втором раскладе. И в результате в этом втором случае миндалина возбуждается сильнее. Она вообще очень чувствительна к сбивающим с толку социальным обстоятельствам. Вот высокоранговый самец макаки-резуса, он ухаживает за самкой. И эту самку помещают в изолированную комнату с прозрачной стенкой. В одном случае она там в одиночестве, а в другом – вокруг нее вертится самец-соперник. Ничего удивительного, что во второй ситуации миндалина отодвинутого самца бунтует. И что это – агрессия или тревога? По всей видимости, не агрессия, ведь уровень возбуждения миндалины никак не соотносится ни с агрессивными актами, ни с голосовыми сигналами самца, ни с уровнем выделяемого тестостерона. Но очень хорошо коррелирует с симптомами тревоги – у несчастного стучат зубы, он начинает себя царапать.
С социальной неопределенностью миндалина связана еще и следующим образом. В одной работе, где использовалась нейровизуализация, испытуемые участвовали в игре команда против команды. Результат игры потасовывали так, чтобы испытуемый оказывался в середине рейтинга{31}. Затем по ходу состязания экспериментаторы манипулировали очками таким образом, что рейтинг участника либо оставался более-менее стабильным, либо широко варьировал. Стабильные очки активировали лобную кору (об этом вскоре пойдет разговор). А случайный рейтинг возбуждал и лобную кору, и миндалину. И вправду тревожно, когда нет уверенности в собственном ранге.
Другое исследование затрагивает нейробиологию конформизма, соглашательства{32}. Вот группа участников, причем все, кроме одного, в тайном сговоре с экспериментаторами. Всем показывают Х и просят сказать, что это за буква. Все по очереди отвечают, что это Y. Назовет ли наш не посвященный в сговор тоже Y? Зачастую так и происходит. У тех же, кто стоит насмерть за Х, регистрируется возбуждение в миндалине.
Теперь о мышах. У них можно включать и выключать тревожность, возбуждая определенные нервные цепи в миндалине. А еще там можно активировать такие нервные цепи, что мышь потеряет способность различать опасные и безопасные условия[26]{33}.
И врожденный, и выученный страх формируются при участии миндалины{34}. Суть врожденного страха (иначе говоря, фобия) состоит в том, что вы безо всякого опыта, безо всяких проб и ошибок воспринимаете нечто ужасно пугающим. Например, крыса, которая родилась в лаборатории и общалась только с другими лабораторными крысами и студентами, инстинктивно боится и избегает запаха кошек. В то же время различные фобии активируют до известной степени различные нейронные схемы в мозге (например, в дантистофобию кора вовлечена сильнее, чем в боязнь змей). Но при этом все фобии возбуждают миндалину.
Врожденные страхи отличаются от страхов, приходящих из опыта, т. е. когда мы научаемся чего-то бояться – дурных соседей, писем из налоговой. В действительности разделение врожденных и приобретенных фобий не совсем четкое{35}. Все знают, что люди от рождения боятся змей и пауков. Но некоторые держат их в качестве домашних животных и дают им забавные имена[27]. Вместо неизбежного страха мы демонстрируем «подготовленное обучение», т. е. нам легче научиться бояться змей и пауков, чем панд или спаниелей.
То же самое происходит и с другими приматами. Например, выращенных в питомниках обезьян, которые никогда не сталкивались со змеями – равно как и с искусственными цветами, проще научить бояться первых, чем вторых. Как мы увидим в следующей главе, феномен подготовленного обучения выражается и в том, что нам легче научиться бояться людей с определенным типом внешности.
Размытость между врожденным и усвоенным страхом прекрасно накладывается на структуру миндалины. Эволюционно древняя центральная миндалина играет ключевую роль во врожденных фобиях. К ней прилегает базолатеральная миндалина (БЛМ), которая развилась позднее и немного напоминает сложную современную кору. Именно БЛМ учится новым страхам и посылает их в центральную миндалину.
Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета показал, как это происходит[28]{36}. Вот крысу ударили током: это у нее врожденный пусковой механизм страха. Когда действует данный стимул, центральная миндалина крысы активируется, выделяются гормоны стресса, симпатическая нервная система мобилизуется и, как очевидный ожидаемый результат, животное замирает: «Что это? Что делать?» Теперь усложним эксперимент. Перед каждым ударом тока будем давать нейтральный сигнал, не вызывающий страха, например звуковой. И если раз за разом соединять звук (условный раздражитель) с ударом тока (безусловный), то сформируется условно-рефлекторный страх – один только звук будет вызывать замирание, выделение гормонов стресса и т. д.[29]
Леду с коллегами показал, как слуховая информация стимулирует нейроны БЛМ. Поначалу возбуждение этих нейронов никак не сказывалось на нейронах центральной миндалины, т. е. на тех, которые активируются при ударе током. Затем при повторении парной стимуляции (удар плюс звук) происходила перенастройка нервных цепей, и тогда нейроны БЛМ получали средства влияния на центральную миндалину[30].
Нейроны БЛМ, которые в результате формирования условного рефлекса начали реагировать на звук, могли бы точно так же стать «участниками» условного рефлекса на свет. Другими словами, эти нейроны реагируют на сущность стимуляции, а не на его конкретику. Более того, если стимулировать эти нейроны электродами, то крысы быстрее закрепляют условный рефлекс страха. То есть снижается порог для установления новой связи. А если стимулировать слуховые нейроны безо всякого звука (т. е. давать слуховой стимул напрямую на нейроны, доставляющие звуковую информацию к миндалине) одновременно с электрическим ударом, то все равно получите условный рефлекс страха на звук. Так конструируется обучение ложному страху.
Конечно, происходят изменения и в синапсах. Когда реализуется условный рефлекс на страх, то возрастает возбудимость синапсов между нейронами БЛМ и центральной миндалины. Чтобы это понять, стоит присмотреться к количеству рецепторов возбуждающих нейромедиаторов в дендритных шипиках этих нейронов[31]. Еще при формировании условного рефлекса увеличивается уровень «факторов роста», способствующих росту новых связей между нейронами БЛМ и центральной миндалины. Уже определены некоторые гены, которые участвуют в этих процессах.
Положим, страх уже сидит внутри, выучен[32]{37}. Но вот условия изменились: то и дело раздается звук, а удара током больше нет. И выученный страх постепенно бледнеет. Как это происходит, как «умирает» страх? Как мы узнаем, что человек больше не боится, что события, прежде смотанные для него в один жуткий клубок, теперь воспринимаются порознь и не обязательно пугают его одинаково сильно? Вспомним, что при формировании условного рефлекса группа нейронов БЛМ начинает реагировать на звук при включении тока. А другая группа тем временем отвечает на звук, который ударом тока не сопровождается, т. е. занимается прямо противоположным делом (логично предположить, что эти две популяции нейронов тормозят друг друга). Ну и откуда к этим «больше-не-страшно» нейронам приходит импульс? Из лобной коры. То есть если нам удается перестать чего-то бояться, то не потому, что нейроны в миндалине перестали возбуждаться. Избавление от страха – это не пассивный процесс; мы не можем просто так забыть, что нечто казалось нам страшным. Мы активно учимся воспринимать это «нечто» все менее грозным[33].
Вполне понятно, что миндалина играет значимую роль в принятии социальных и эмоциональных решений. Возьмем, к примеру, экономическую игру «Ультиматум», в которой два игрока должны поделить денежный ресурс. Первый игрок предлагает какой-то вариант дележа, а второй должен либо согласиться с предложением, либо отвергнуть его{38}. В последнем случае деньги не достаются никому. Исследования показывают, что отказ вызывается эмоциями, возникающими как ответ на гнусную несправедливость и как желание наказать. Чем больше у второго игрока возбуждается миндалина после услышанного предложения, тем с большей вероятностью он его отвергнет. Люди же с повреждениями миндалины проявляют нетипичную щедрость в этой игре: они не начинают отклонять предложения даже при очень нечестном дележе.
Почему так? Ведь эти люди правила игры понимают, дают здравые стратегические советы другим игрокам. Более того, когда они считают, что играют с компьютером – т. е. участвуют в несоциальной версии игры, – то принимают те же решения, что и контрольные индивиды. Нет причин говорить и о каких-то задуманных многоходовках, в которых столь несоразмерная щедрость могла бы в конечном счете окупиться. Если задать им соответствующий вопрос, то окажется, что и у них, и у группы контрольных игроков одинаковые ожидания касательно уровня взаимности.
Все это вместе позволяет заключить, что, когда требуется принять социальное решение, миндалина приводит в действие скрытое недоверие и бдительность{39}. И все благодаря обучению. Авторы одного из исследований пишут: «Щедрость в игре на доверие у наших БЛМ-дефектных субъектов следует рассматривать как патологический альтруизм; это нужно понимать в том смысле, что такие люди не “отучаются” от альтруистического поведения вследствие отрицательного социального опыта». Другими словами, человеку с рождения присуще доверие, но он обучается быть бдительным и не доверять всем подряд. И за это обучение отвечает именно миндалина.
Как ни удивительно, но миндалина и один из ее адресатов в гипоталамусе играют определенную роль в мужской сексуальной мотивации (за сексуальное исполнение у самцов отвечают другие ядра гипоталамуса)[34], а в формировании женской сексуальной мотивации миндалина не участвует[35]. И как это понять? Тут нам поможет одно из исследований с нейровизуализацией. Молодым мужчинам (гетеросексуалам) давали смотреть картинки с привлекательными женщинами (контрольная группа рассматривала картинки с привлекательными мужчинами). Пассивное разглядывание картинок активировало систему награды. Но если разглядывание не пассивное, а предусматривает какие-то действия, например нужно нажимать на кнопку для перелистывания картинок, то миндалина активируется заметно больше. В других исследованиях также показано, что миндалины больше возбуждаются, когда размер награды переменчив. Более того, и при изменении размера награды, и при изменении степени отвращения возбуждаются некоторые сходные нейроны БЛМ – те, которые отвечают за изменения вообще, независимо от категории чувства. Для этих нейронов что «награда изменилась», что «наказание изменилось» – все одно. Так что миндалина, как сообщают нам эти исследования, не настроена на получение удовольствия от получения удовольствия. Здесь можно говорить о неуверенном, беспокойном стремлении к потенциальному удовольствию, о тревоге, страхе и гневе, что вознаграждение может оказаться меньше возможного или вообще не будет получено. Речь идет о том, сколь много снедающей исподволь немочи в нашей жажде удовольствий[36]{40}.
Миндалина – часть взаимосвязанной структуры мозга
Теперь, когда мы знаем кое-что о внутренних подразделениях миндалины, хорошо бы понять и ее внешние связи. То есть куда ведут нейронные пути из нее и откуда они приходят{41}.
Сенсорные входы. Для начала заметим, что в миндалину (в особенности базолатеральную часть) поступают сигналы от всех сенсорных систем{42}. А как иначе генерируется страх при звуках акульей мелодии из «Челюстей»? Как правило, информация от сенсорных систем разных модальностей (глаза, уши, кожа…) поступает в соответствующие области коры (зрительную, слуховую, осязательную…) для последующей обработки. Так, прежде чем миндалина воскликнет «Ой, это же пистолет!», зрительная кора должна, задействовав один за другим нейронные слои, преобразить пиксели возбуждений сетчатки в целостный образ пистолета[37]. При этом важно, что некоторая часть информации минует кору и отправляется прямиком в миндалину. А это значит, миндалина может в принципе получать сведения о чем-то пугающем до того, как кора даст об этом знать. Мало того – благодаря исключительной возбудимости нейронов упомянутого прямого пути миндалина может среагировать на легчайшие, эфемерные стимулы, незаметные для коры. К тому же нейроны этого короткого пути формируют более крупные и возбудимые синапсы в БЛМ, чем нейроны, приходящие из сенсорной зоны коры. Эмоциональный всплеск способствует выучиванию условно-рефлекторного страха. То, что короткий путь существует, продемонстрировано на примере пациента с повреждениями зрительной коры, вызвавшими т. н. корковую слепоту. Этот человек благодаря включению прямого пути был способен распознавать эмоции на лицах, хотя и не воспринимал большую часть зрительной информации[38].
Тут нужно понимать, что в миндалину поступает информация не совсем или даже совсем не точная, т. к. точность – это ведомство коры. И, как мы увидим в следующей главе, из-за этого случаются трагичные курьезы, когда, например, миндалина решает, что перед носом размахивают пистолетом, а в действительности это просто телефон.
Информация о боли. В миндалину приходят сведения о том, что непосредственно вызывает страх и тревогу, – о боли{43}. Информация идет по отросткам нейронов, тела которых находятся в древней, базовой структуре мозга, а именно в центральном сером веществе (ЦСВ). Стимуляция этой области вызывает панические атаки, а у людей с хроническими паническими атаками данная область увеличена в объеме. Если задуматься о роли миндалины в формировании тревожности, страха, неуверенности, то приходишь к заключению, что страх вызывается неожиданностью боли, а не самим болевым ощущением; именно неопределенность события активирует миндалину. Так что боль (и реакция миндалины на боль) обусловлена контекстом обстоятельств.
Отвращение всех мастей. А еще в миндалину приходят исключительно интересные отростки из т. н. островковой области, почтенной части префронтальной коры, которую мы будем рассматривать по ходу дела в следующих главах{44}. Если вы (или любое другое млекопитающее) надкусите тухлятину, то островковая область возбудится и вы сразу выплюнете гадость, почувствуете тошноту и рвотные позывы, скривите лицо – это островок проработал вкусовое отвращение. То же самое относится к запаху.
Примечательно, что у людей та же самая область активируется и при упоминании о чем-то отвратительном с морально-этических позиций: нарушении общественных норм или людях, опозоренных в глазах общественности. Возбуждение в области островка вызывает возбуждение в миндалине. Если кто-то в игре повел себя гадко и эгоистично, то по возбуждению в островковой зоне и миндалине можно предсказать, насколько велики будут недовольство и жажда мщения. Все это имеет отношение только к социальному поведению – если вас нагло обыгрывает компьютер, островок и миндалина не возбуждаются.
Активируется островковая зона и тогда, когда едят тараканов или воображают сей прелестный процесс. То же происходит, если соседнее племя сравнивается в мыслях с этими отталкивающими насекомыми. Мы скоро увидим, что здесь ключ к тому, как наш мозг отображает «мы и они».
И наконец, миндалина получает тысячи сигналов из лобной коры. Вскоре мы узнаем и об этом.
Двусторонние связи. Ниже я расскажу о том, что миндалина ведет диалог со многими областями мозга, включая лобную кору, островок, центральное серое вещество, а также с сенсорными нейронами, настраивая по-своему их возбудимость.
Взаимодействие миндалины и гиппокампа. Миндалина, естественно, сообщается со всеми лимбическими структурами, в том числе и с гиппокампом. Факты в целом свидетельствуют, что миндалина учится бояться, а гиппокамп выучивает отдельные конкретные обстоятельства. Но в критические моменты миндалина все же заставляет гиппокамп выучивать трах{45}.
Вернемся к крысе, у которой вырабатывают условно-рефлекторный страх. Если крыса находится в клетке А, то звенит звонок, а вслед за звуком подается ток. В клетке Б крысе просто включают звонок. В результате в клетке А крыса при звонке замирает от страха, а в клетке Б – нет. Миндалина выучивает сигнал опасности – звонок, а гиппокамп выучивает контекст сигнала – клетка А или Б. Совмещенное выучивание сигнала и контекста очень узко сфокусированы – мы все помним картинку, как самолет врезается в башню Всемирного торгового центра, но вряд ли кто вспомнит фоновые детали – облака, цвет неба и т. д. Гиппокамп решает, стоит ли помещать факт в свою копилку исходя из того, поработала ли над ним миндалина. Кроме того, спаренное действие миндалины и гиппокампа может масштабировать события. Предположим, в бандитском районе города в темном парке на вас наставили дуло пистолета. Впоследствии, в зависимости от обстоятельств, пистолет может оказаться стимулом, а темный парк контекстом или же темный парк становится стимулом, а бандитский район – контекстом.
Моторные выходы. Миндалина включена в еще один короткий путь; он затрагивает моторные нейроны, командующие движениями{46}. Ясно, что если требуется быстро сорганизоваться, например убежать, то миндалина запрашивает лобную кору, добиваясь одобрения от штаба. Но если возбуждение сильное, то миндалина обращается непосредственно к подкорковым рефлекторным двигательным дугам. И опять же наталкивается на компромисс между скоростью и точностью: последняя обеспечивается участием коры, но она же снижает скорость реакции. Вот таким-то образом ввод информации по короткому пути и заставит вас увидеть пистолет вместо мобильного телефона, а вывод команды по короткому пути вынудит вас нажать на курок прежде, чем вы осознаете, что происходит.
Активация. Миндалина в конечном итоге должна просигнализировать телу и мозгу о тревожных обстоятельствах. Нервные выходы из нее нацелены именно на исполнение этой роли. Как мы помним, главное в миндалине – ее центральная часть{47}. Оттуда отростки нейронов уходят, или проецируются, в близлежащую структуру, похожую на миндалину и называемую ядром ложа конечной полоски (ЯЛКП). Из ЯЛКП отростки проецируются в гипоталамус, в ту его часть, которая запускает гормональный стрессовый ответ (подробнее в главе 4). Кроме того, отростки нейронов ЯЛКП проецируются и в определенные области ствола и среднего мозга, отвечающие за активацию симпатической нервной системы и торможение парасимпатической нервной системы. На деле это выглядит так: происходит нечто эмоциональное, лимбическая система миндалины слоя 2 подает сигнал в слой 1 – и вот сердце заколотилось, кровяное давление подскочило[39].
Миндалина также активирует область т. н. голубого пятна, структуры ствола мозга, которое служит чем-то вроде собственной мозговой симпатической нервной системы{48}. Она посылает отростки нейронов, выделяющие норадреналин, по всему мозгу, в особенности в кору. Если в голубом пятне все тихо и гладко, то и вы спокойны. Если оно возбуждается, то и вы тоже. А если оно вопит от ужаса, как ему приказывает миндалина, то у всех нейронов случается аврал.
Мы из этого должны уяснить важную вещь{49}. Когда симпатическая нервная система начинает изо всех сил «нервничать»? Когда страшно, когда нужно убегать со всех ног, когда нужно сражаться или во время секса. Или если вы выиграли в лотерею, или радостно мчитесь по футбольному полю, или только что доказали теорему Ферма (это для тех, кто в теме). К слову: у самцов мышей примерно четверть нейронов в одном из ядер гипоталамуса обслуживают половое поведение, а если возбуждение усилить, то они же вовлекаются в иннервацию агрессивных реакций.
Это подразумевает два важных следствия. Первое состоит вот в чем. И половое поведение, и агрессия активируют симпатическую нервную систему, а она, в свою очередь, влияет на поведение. Сходные обстоятельства будут восприниматься по-разному на фоне различных сердечных ритмов: когда сердце учащенно колотится или когда оно спокойно, размеренно стучит. Значит ли это, что в зависимости от картины возбуждения автономной системы мы по-разному ощущаем окружающий мир? Нет, не значит. Но все же обратная связь автономной нервной системы влияет на ощущения – она меняет их интенсивность. Об этом подробнее рассказывается в следующей главе.
Во втором следствии отражена основная идея этой книги. А именно: сердцу по большому счету все равно, кипите вы от ярости или испытываете оргазм – оно будет биться сходным образом. Вспомните слова Визеля: противоположность любви – не ненависть, а безразличие.
Давайте теперь подытожим все, что узнали о миндалине. Лавируя между сознательной упрощенностью и научной сложностью, мы вывели самое важное – двойственную роль миндалины в оформлении агрессии и страха (некоторых из его сторон по крайней мере). Страх и агрессия могут и не быть тесно взаимоувязаны – испуг необязательно вызывает агрессию, а агрессия не всегда коренится в страхе. Обычно страх увеличивает агрессию у тех, кто склонен проявлять ее. А подчиненные индивиды, которые не имеют возможности выказать свою агрессию без риска, от страха ведут себя прямо противоположным образом.
Разобщенность страха и агрессии можно ясно увидеть в насилии психопатов, которых вряд ли назовешь боязливыми – и физиологически, и на субъективном уровне их чувствительность к боли ниже нормы. И миндалина у них хуже реагирует на обычную стимуляцию страха, да к тому же она меньше по размеру{50}. Так вот, картина психопатического насилия хорошо согласуется с этими фактами. У психопатов оно не спровоцированное, а инструментальное. То есть является лишь средством для достижения определенной цели, исполняется бесстрастно, безжалостно, по-змеиному безучастно.
Это значит, что страх и насилие нельзя накрепко спаривать. Но их связь, как правило, возникает, когда вспыхнувшая агрессия – это ответная реакция на вызов, бешеная, с пеной у рта. Если бы никто не устрашал нейроны миндалины, а вместо этого они бы сидели под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, то мир, наверное, был бы более благостным[40].
А теперь мы двинемся дальше, к следующей области мозга – второй из тех трех, о которых нам нужно знать поподробнее.
Лобная кора
Я долго, целые десятилетия, изучал гиппокамп. Он по-доброму относился ко мне. Хотелось бы думать, что и я платил ему тем же. Но иногда мне кажется, что я с самого начала ошибся с выбором, мне нужно было еще тогда заняться лобной корой. Ведь именно это – самая интересная часть мозга.
Что делает лобная кора? Список ее занятий велик: оперативное запоминание, решение текущих вопросов (организация информации с последующим стратегическим ее воплощением в действиях), отсрочка удовольствия, долговременное планирование, регуляция эмоций, сдерживание импульсивных порывов{51}.
Это портфолио многостаночника. Пожалуй, я бы объединил все эти профессии под одной шапкой, которую уместно было бы поместить на каждой странице этой книги: лобная кора заставляет нас поднапрячься, если дело видится правильным.
Назову для начала несколько важных черт, характеризующих лобную кору.
Становление этой части мозга произошло позже других, только у приматов она проявилась во всем своем великолепии. Среди генов, уникальных для приматов, непропорционально большая их часть работает именно в лобной коре. И более того, картина активации этих генов сильно варьирует у разных особей; размах индивидуальной изменчивости в их активности гораздо больше, чем усредненная для всех генов мозга разница между человеком и шимпанзе.
В лобной коре человека нейронные связи гораздо сложнее, чем у других человекообразных обезьян, и, согласно некоторым определениям ее границ, она у человека даже крупнее (разумеется, если брать удельный размер, т. е. относительно размера тела){52}.
В индивидуальном развитии человека лобная кора заканчивает свое формирование позже остальных частей мозга, при этом самые эволюционно молодые ее части созревают самыми последними. И вот что примечательно – лобная кора полностью вступает в строй, только когда человек достигает 20–25 лет. Прибережем этот фактик до главы о взрослении – там он нам пригодится.
И наконец, в лобной коре есть клетки особого типа. В целом наш мозг не может похвастаться неповторимым клеточным или химическим составом – наши нейроны, нейромедиаторы, нейропептиды и т. д. примерно такие же, как и у мухи. Мы отличаемся по количественным характеристикам: на каждый мушиный нейрон у нас приходятся мириады нейронов и мириады мириадов нейронных связей{53}.
Упомянутые в последнем пункте исключительные клетки – это т. н. нейроны фон Экономо (по-другому – веретенообразные нейроны). Они отличаются и по форме, и по картине связей. Поначалу считалось, что эти нейроны имеются только у человека, но потом их нашли у других приматов, китов, дельфинов и слонов[41]. Перед нами – звездная команда высокосоциальных видов.






