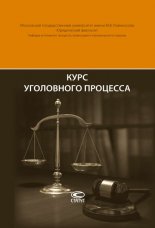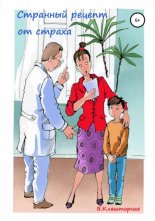Тысяча осеней Якоба де Зута Митчелл Дэвид
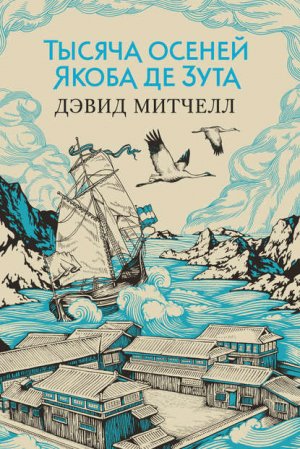
– Дожили, на японские архивы полагаться приходится… Впрочем, есть более неотложное дело. – Ворстенбос отпирает ящик стола и достает оттуда брусок японской меди. – Самая красная в мире, самая богатая золотом… Вот уже сотню лет она – та невеста, ради которой мы, голландцы, выплясываем в Нагасаки.
Он бросает плоский слиток Якобу, тот ловит.
– Невеста, однако, с каждым годом все тощает, и характер у нее портится. По вашим же собственным подсчетам… – Ворстенбос сверяется с лежащей на столе бумажкой, – в тысяча семьсот девяностом году мы экспортировали восемь тысяч пикулей. В девяносто четвертом – шесть тысяч. Гейсберт Хеммей, чьим единственным благоразумным поступком было то, что он умер прежде, чем его успели отдать под суд за несоответствие занимаемой должности, допустил, чтобы квота упала ниже четырех тысяч, а под руководством злополучного Сниткера – до жалких трех тысяч двухсот, каковые, до последнего слитка, пошли на дно вместе с «Октавией».
Настольные часы из Алмело отмеряют время драгоценными щипчиками.
– Помните, де Зут, перед отплытием я посетил Старый Форт?
– Помню, минеер. Генерал-губернатор два часа беседовал с вами.
– Это был тяжелый разговор не о чем ином, как о будущем голландской Явы. И это будущее вы сейчас держите в руках. – Ворстенбос кивает на медный слиток.
Металлическая поверхность показывает Якобу его размытое отражение.
– Я вас не понимаю, минеер…
– Увы, Сниткер не преувеличивал, живописуя печальную участь Компании. Одного только он не упомянул, потому что об этом никто не знает, кроме членов Совета Обеих Индий: казна в Батавии истощена, она пуста.
На той стороне улицы плотники стучат молотками. У Якоба ноет искривленный нос.
– Без японской меди в Батавии не могут выпускать монеты. – Ворстенбос вертит в руках нож слоновой кости для разрезания бумаги. – Без монет наемники-туземцы скоро разбегутся по своим джунглям. Пилюлю правды не подсластишь, де Зут: правительство в состоянии продержать наши гарнизоны на половинном жалованье до июля следующего года. К августу появятся первые дезертиры; к октябрю вожди местных племен проведают о нашей слабости, а к Рождеству в Батавии настанет разгул анархии, начнутся грабежи, массовые убийства… И Джон Буль, конечно, подсуетится.
В воображении Якоба невольно возникают картины грядущих бедствий.
– Каждый управляющий факторией Дэдзимы, – продолжает Ворстенбос, – всеми силами старался выжать из Японии как можно больше драгоценных металлов. А в ответ получали заламывание рук и фальшивые обещания. Колеса коммерции все же катятся вперед, ни шатко ни валко, но, если мы с вами, де Зут, потерпим неудачу, Восток будет для Голландии потерян.
Якоб кладет медный брусок на стол.
– Как можем мы добиться успеха там…
– …где столь многих ждало поражение? В бою помогут отвага и… письмо исторического значения. – Ворстенбос придвигает к краю стола письменный прибор. – Прошу вас, набросайте черновик.
Якоб садится за стол, снимает крышечку с чернильницы и обмакивает перо.
– «Я, генерал-губернатор Голландской Ост-Индии П. Г. ван Оверстратен…»
Якоб поднимает глаза на управляющего, но ошибки нет – он расслышал верно.
– «…Сего числа…» Когда мы вышли из Батавии, шестнадцатого мая?
Сын пастора прочищает горло.
– Четырнадцатого, минеер.
– «…Сего числа, э-э… девятого мая тысяча семьсот девяносто девятого года, обращаюсь с сердечным приветом к их августейшим превосходительствам, Совету старейшин, как искренний друг, коему позволено без всякой лести, не опасаясь впасть в немилость, высказать свои самые сокровенные мысли касательно освященной временем дружбы между Японской империей и Батавской республикой», точка.
– Японцы еще не знают о свершившейся революции.
– Тогда пусть будут пока Соединенные Провинции Нидерландов. «Слуги сёгуна в Нагасаки неоднократно меняли условия торговых соглашений, что повлекло за собой обнищание Компании»… Нет, пишите лучше «ущерб для Компании». Далее: «Так называемый цветочный налог достигает поистине ростовщических размеров; за десять лет рейхсталер трижды обесценивался, и в то же время квота на вывоз меди уменьшилась до ничтожно малой величины…» Точка.
Кончик пера обламывается от слишком сильного нажима; Якоб выбирает себе другое.
– «Однако на все обращения со стороны Компании отвечают бесконечными отговорками. Путь из Батавии в вашу отдаленную Империю изобилует опасностями – это доказывает кораблекрушение „Октавии“, при котором погибли двести голландцев. Более невозможно вести торговлю с Нагасаки без достойной компенсации затрат и риска». С новой строки. «Руководство компании в Амстердаме приняло окончательный меморандум по Дэдзиме. Суть этого документа можно коротко изложить следующим образом…» – Перо Якоба перескакивает через кляксу. – «Если квота на вывоз меди не будет повышена до двадцати тысяч пикулей…» – выделите это курсивом, де Зут, и в скобках добавьте цифрами – «…руководящая коллегия Объединенной Ост-Индской компании, Совет семнадцати, отказывается от дальнейшей торговли. Мы ликвидируем факторию на Дэдзиме, вывезем служащих, заберем скот и товары из пакгаузов, еще представляющие какую-либо ценность». Вот так! Что скажете, вызовет это переполох в курятнике?
– Не то слово, минеер. Но разве генерал-губернатор в самом деле грозил прекратить торговлю?
– Азиаты уважают силу. Припугнем – станут шелковые!
«Значит, не грозил», – понимает Якоб.
– А если блеф раскроется?
– Чтобы раскрыть блеф, нужно сперва догадаться, что противник блефует. Вы тоже участник этой стратагемы, так же как ван Клеф, капитан Лейси и я, а более никто. Заканчиваем письмо: «За квоту в двадцать тысяч пикулей меди я согласен в будущем году отправить еще один корабль. Если Совет сёгуна предложит…» – выделите курсивом – «…хоть на один пикуль меньше, они тем самым срубят под корень древо коммерции, обрекут единственный крупный порт Японии на медленную смерть и наглухо заложат кирпичами свое окно во внешний мир…» Что такое?
– Кирпичи здесь не в ходу, минеер. Может быть, «заколотят досками»?
– Годится. «Тем самым сёгун лишится возможности следить за ходом прогресса в Европе, на радость русским и другим врагам, которые не сводят с Империи жадных очей. Сделайте правильный выбор – об этом умоляют вас еще не рожденные потомки, а также…» – с новой строки – «…искренне ваш, П. Г. ван Оверстратен, генерал-губернатор Ост-Индии, кавалер ордена Оранского льва» и прочие финтифлюшки, какие в голову придут. К полудню перепишите набело, в двух экземплярах – к приходу Кобаяси. На обоих поставьте подпись ван Оверстратена, по возможности похожую на подлинник. Один экземпляр запечатайте вот этим. – Ворстенбос вручает Якобу кольцо-печатку с вензелем «ООК» – Объединенной Ост-Индской компании.
Два последних приказа ввергают Якоба в изумление.
– Я должен подписать и запечатать, минеер?
– Вот вам… – Ворстенбос шарит на столе. – Образец подписи ван Оверстратена.
– Подделать подпись генерал-губернатора – это же… – Якоб сильно подозревает, что истинный ответ: «тяжкое преступление».
– Нечего кривиться, де Зут! Я бы и сам подписал, но я левша, корябаю как курица лапой, а для нашей стратагемы требуется красивый росчерк. Вообразите благодарность генерал-губернатора, когда мы вернемся в Батавию с троекратно увеличенной квотой на вывоз меди! Мне, вне всякого сомнения, обеспечено место в Совете. И разве я тогда забуду своего верного секретаря? Конечно, если излишняя щепетильность… или трусость… помешает вам выполнить мою просьбу, я легко могу обратиться к господину Фишеру…
«Сначала действуй, – думает Якоб, – а терзаться будешь потом».
– Я подпишу, минеер.
– В таком случае не теряйте времени даром; Кобаяси явится через… – управляющий смотрит на часы, – сорок минут. Нужно, чтобы к тому времени воск на печати успел застыть, верно?
У Сухопутных ворот обыск уже закончен; Якоб забирается в паланкин. Петер Фишер щурится в беспощадных солнечных лучах.
– На час-другой Дэдзима ваша, господин Фишер, – сообщает ему Ворстенбос из своего начальственного паланкина. – Будьте добры вернуть ее мне в том же состоянии!
– Безусловно, – отвечает пруссак, изобразив напыщенную гримасу, словно у него пучит живот. – Безусловно.
Когда двое кули проносят мимо паланкин Якоба, Фишер провожает его неласковым взглядом.
Процессия, пройдя через Сухопутные ворота, пересекает Голландский мост.
Сейчас отлив; среди водорослей валяется дохлая собака…
…И вот уже Якоб покачивается на высоте около метра над запретной землей Японии.
Обширная квадратная площадка, усыпанная песком и мелкими камушками, пустынна, если не считать нескольких солдат. Ван Клеф говорил, что называется она «площадь Эдо» – напоминание чересчур независимым жителям Нагасаки, где на самом деле сосредоточена власть. Сбоку от площади – крепость сёгуна: каменная кладка, высокие стены и лестницы. Через другие ворота процессия выходит на широкую тенистую улицу. Уличные торговцы расхваливают свой товар, вопят нищие, бренчат кастрюльками жестянщики, десять тысяч деревянных сандалий стучат по мостовой. Стражники покрикивают, отгоняя с дороги горожан. Якоб старается запомнить, сохранить каждое мимолетное впечатление, чтобы потом рассказать в письмах Анне, и своей сестре Гертье, и дядюшке. Из-за решетчатого окна паланкина пахнет пареным рисом, сточной канавой, благовониями, лимонами, опилками, дрожжами и гниющими водорослями. Мелькают скрюченные старушонки, рябые монахи, незамужние девушки с чернеными зубами. «Был бы у меня с собой альбом, – думает чужеземец, – и три дня за воротами, чтобы заполнить его набросками». Дети, устроившись рядком на глинобитной стене, пальцами растягивают себе веки и кричат нараспев: «Оранда-ме, оранда-ме»[4]. Якоб не сразу понимает, что они изображают «круглые» глаза европейцев, и ему вспоминается, как уличные мальчишки в Лондоне бежали за китайцем, делали себе глаза-щелочки и орали: «Китайса, японса, моя чесни китайса».
Толпа молящихся собралась возле храма с воротами в форме греческой буквы «».
Вереница каменных идолов; скрученные бумажки привязаны к ветвям сливового деревца.
Уличные акробаты исполняют развеселую песенку для привлечения зрителей.
Паланкины движутся через мост над рекой, зажатой меж облицованными камнем набережными. Вода в реке воняет.
От пота чешется под мышками, в паху и под коленями; Якоб обмахивается папкой с документами.
В окно верхнего этажа выглядывает девушка; по краям кровли подвешены красные фонарики, девушка рассеянно щекочет себе шею гусиным пером. У нее тело десятилетней девочки и глаза старухи.
Над полуобвалившейся стеной вскипает пена глицинии в цвету.
Волосатый нищий, скорчившийся в луже блевотины, при ближайшем рассмотрении оказывается собакой.
Распахиваются ворота, и стражники приветствуют вплывающие во двор паланкины.
Под палящими лучами солнца тренируются двадцать воинов с пиками.
Паланкин Якоба опускают на подставку в тени под навесами.
Огава Удзаэмон открывает дверцу:
– Добро пожаловать в городскую управу, господин де Зут!
Длинная галерея заканчивается сумрачной передней.
– Здесь мы ждать, – объявляет переводчик Кобаяси, жестом предлагая усаживаться на принесенные слугами плоские подушки.
С правой стороны – ряд раздвижных дверей, украшенных изображениями полосатых бульдогов с роскошными ресницами.
– Тигры, видимо, – предполагает ван Клеф. – Там, за дверями, наша цель – Зал шестидесяти циновок.
Слева – дверь поскромнее с изображением хризантемы. Где-то в глубине дома раздается детский плач.
Впереди, поверх стен управы и раскаленных крыш, открывается вид на гавань, где в белесой дымке стоит на якоре «Шенандоа».
Запах лета мешается с запахами воска и новой бумаги. Голландцы сняли обувь у входа; хорошо, что ван Клеф заранее предупредил насчет дырявых чулок. «Видел бы меня сейчас отец Анны, – думает Якоб, – на приеме у высшего должностного лица в Нагасаки». Чиновники и переводчики хранят суровое молчание.
– Доски пола устроены таким образом, что скрипят, если на них наступить, – замечает ван Клеф. – Чтобы наемные убийцы не подкрались.
– И часто в здешних краях используют наемных убийц? – спрашивает Ворстенбос.
– В наше время, наверное, не часто, но старые привычки живучи.
– Напомните мне, – говорит управляющий факторией, – почему в одном городе два градоправителя?
– Они чередуются: пока градоправитель Сирояма отправляет свои обязанности в Нагасаки, градоправитель Омацу проживает в Эдо, и наоборот. Меняются каждый год. Если один допустит промах, второй с удовольствием его изобличит. Все значительные должности в империи так поделены, чтобы не оказалось слишком много власти в одних руках.
– Должно быть, Никколо Макиавелли немногому смог бы научить сёгуна.
– Очень верно сказано, минеер. Здесь флорентинец был бы неопытным новичком.
Переводчик Кобаяси выражает неодобрение – незачем понапрасну трепать начальственные имена.
– Позвольте обратить ваше внимание, – меняет тему ван Клеф, – на древний пугач, что висит вон там, в нише.
– Боже праведный! – Ворстенбос вглядывается. – Это португальская аркебуза.
– Когда здесь впервые появились португальцы, на одном острове в провинции Сацума начали производство мушкетов. Позже сообразили, что десять крестьян с мушкетами запросто убьют десять самураев, и сёгун производство прикрыл. Попробуй какой-нибудь европейский монарх издать такой указ – можно себе представить, что с ним сталось бы…
Створка с изображением тигра отодвигается в сторону, из-за нее возникает осанистый чиновник высокого ранга с перебитым носом и подходит к Кобаяси. Переводчики низко кланяются, Кобаяси представляет Ворстенбосу чиновника, назвав его – камергер Томинэ. В голосе Томинэ та же надменность, что и в осанке.
– Господа, – переводит Кобаяси, – в Зале шестидесяти циновок вас примут градоначальник и многие советники. Нужно оказать такое почтение, как сёгуну.
– Мы окажем господину градоначальнику Сирояме такое почтение, – уверяет Ворстенбос, – какого он заслуживает.
Кобаяси это, похоже, не успокоило.
В Зале шестидесяти циновок просторно и сумрачно. Ровным прямоугольником расселись человек пятьдесят-шестьдесят чиновников, все осанистые самураи, все потеют и обмахиваются веерами. Градоправителя Сирояму можно отличить по тому, что он сидит в центре, на возвышении. Высокая должность оставила на его немолодом лице печать усталой суровости. Свет проникает в помещение из озаренного солнцем дворика с южной стороны. Там белый гравий, искореженные сосны и замшелые камни. Занавеси с восточной и западной стороны чуть покачиваются от легкого ветерка. Стражник с мясистым загривком объявляет:
– Оранда капитан! – и препровождает голландцев к трем алым подушкам внутри ограниченного чиновниками прямоугольника.
Кобаяси переводит слова камергера Томинэ:
– Голландцы сейчас должны оказать уважение.
Якоб становится коленями на подушку, рядом кладет папку и отвешивает поклон. Справа от него то же самое делает ван Клеф, но, выпрямившись, Якоб замечает, что Ворстенбос остался стоять.
– Где мой стул? – спрашивает управляющий факторией, обращаясь к переводчику Кобаяси.
Вопрос вызывает тихий переполох. Ворстенбос на это и рассчитывал.
Камергер Томинэ бросает переводчику Кобаяси короткий вопрос.
– В Японии, – багровея, сообщает Ворстенбосу Кобаяси, – на полу сидеть – нет бесчестья.
– Весьма похвально, господин Кобаяси, но на стуле удобнее.
Кобаяси и Огава обязаны умаслить разгневанного камергер и уговорить строптивого управляющего факторией.
– Пожалуста, господин Ворстенбос, – говорит Огава. – У нас в Японии нет стульев.
– А нельзя что-нибудь этакое соорудить ради почетного гостя из дальних стран? Ты!
Чиновник, на которого указали, вздрагивает и дотрагивается до собственного носа.
– Да, ты. Принеси десять подушек. Десять. Слово «десять» понимаешь?
Чиновник ошарашенно переводит взгляд с Кобаяси на Огаву и обратно.
– Посмотри на меня! – Ворстенбос размахивает подушкой, снова бросает ее на пол и поднимает вверх десять растопыренных пальцев. – Десять подушек принеси, ну! Кобаяси, объясните этому недоделку, что мне нужно.
Камергер Томинэ требует ответов. Кобаяси объясняет, почему чужеземец отказывается преклонить колени, а Ворстенбос тем временем улыбается с выражением вселенской снисходительности.
В Зале шестидесяти циновок воцаряется мертвая тишина. Все ждут реакции градоправителя.
Долгую минуту Сирояма и Ворстенбос неотрывно смотрят друг другу в глаза.
Наконец Сирояма улыбается небрежной улыбкой победителя и кивает. Камергер хлопает в ладоши: двое слуг приносят подушки и складывают их стопкой. Ворстенбос лучится довольством.
– Обратите внимание, – говорит он своим спутникам, – вот награда за твердость! Хеммей и Даниэль Сниткер только лебезили и подрывали наш престиж. Моя задача, – Ворстенбос прихлопывает ладонью неустойчивую груду, – вновь завоевать уважение!
Сирояма что-то говорит Кобаяси.
– Градоправитель спрашивать, – переводит тот, – удобно теперь?
– Поблагодарите его милость от моего имени. Теперь мы сидим лицом к лицу, как равные.
Насколько может понять Якоб, Кобаяси при переводе опускает последние два слова.
Сирояма, кивнув, изрекает длинную фразу.
– Он сказать, – начинает Кобаяси, – новому управляющему факторией: «Поздравляю с назначением», – а помощнику управляющего: «Добро пожаловать в Нагасаки» и «Мы рады вновь видеть вас в городской управе».
Якоб, ничтожный писарь, остается без отдельного приветствия.
– Господин градоправитель надеяться, что путешествие не слишком… утомительное и солнце не слишком жаркое для слабая голландская кожа.
– Поблагодарите господина градоправителя за беспокойство, – отвечает Ворстенбос, – но он может не волноваться: по сравнению с июльским солнцем в Батавии здешнее – просто детская игрушка.
Выслушав перевод, Сирояма кивает с таким видом, словно ему подтвердили некие давние подозрения.
– Спросите, – приказывает Ворстенбос, – как его милости понравился кофе, который я подарил.
При этом вопросе чиновники в свите градоправителя многозначительно переглядываются. Сирояма несколько мгновений обдумывает ответ.
– Господин градоправитель сказать, – переводит Огава, – «Кофе на вкус не похожий ни на что другое».
– Скажите ему: наши плантации на острове Ява могут произвести столько кофе, что хватит даже на японский бездонный желудок. Скажите: будущие поколения станут благословлять имя Сироямы – человека, который открыл для их родины этот волшебный напиток.
Огава переводит, и ему отвечают сдержанным отрицанием.
– Господин градоправитель сказать, – объясняет Кобаяси, – в Японии нету аппетит для кофе.
– Чепуха! Когда-то кофе и в Европе не знали, а сейчас в наших столицах на каждой улице имеется кофейня, да не одна, а десять! Немалые деньги на этом зарабатывают.
Сирояма, не дав Огаве перевести, подчеркнуто меняет тему.
– Господин градоправитель выражать сочувствие, – излагает Кобаяси, – о крушении «Октавии» на обратном пути от нас, прошлой зимой.
– Скажите ему, – отвечает Ворстенбос, – любопытно, что речь зашла о тяготах, какие переносит наша многоуважаемая Компания в своем стремлении способствовать процветанию Нагасаки…
Огава чует подводные камни, которых не обойти при переводе, но деваться некуда.
Лицо градоправителя выражает понимающее «О!».
– У меня с собой циркуляр от генерал-губернатора – неотложной важности, как раз по этому вопросу.
Огава обращается за помощью к Якобу:
– Что есть «циркуляр»?
– Письмо, – вполголоса отвечает Якоб. – Официальное сообщение.
Огава переводит слова управляющего. Сирояма жестом показывает: «Давайте».
Ворстенбос со своей подушечной башни кивает секретарю.
Якоб развязывает тесемки на папке и двумя руками подает камергеру свежесфальсифицированное письмо его превосходительства П. Г. ван Оверстратена.
Камергер Томинэ кладет конверт перед своим суровым господином.
Все чиновники в зале с неприкрытым любопытством наблюдают за происходящим.
– Итак, господин Кобаяси, – начинает Ворстенбос, – нужно предупредить этих милых господ, и даже самого господина градоправителя, что наш генерал-губернатор шлет им ультиматум.
Кобаяси косится на Огаву, и тот спрашивает:
– Что такое ультим…
– Ультиматум, – говорит ван Клеф. – Требование; угроза; строгое предупреждение.
Кобаяси качает головой:
– Очень плохое время для строгое предупреждение.
– Однако градоправитель Сирояма должен узнать как можно скорее, – опасно-вкрадчиво отвечает управляющий Ворстенбос, – что фактория на Дэдзиме будет ликвидирована сразу по окончании нынешнего торгового сезона, если только Эдо не даст нам квоту на двадцать тысяч пикулей.
– «Ликвидировать», – поясняет ван Клеф, – значит «прекратить», «закрыть», «уничтожить».
У обоих переводчиков кровь отливает от лица.
Якоб внутренне корчится от сочувствия к Огаве.
– Пожалуста, господин… – У Огавы, кажется, горло перехватило. – Не такое известие, не здесь, не сейчас…
Камергер Томинэ в нетерпении требует перевода.
– Лучше не заставляйте его милость ждать, – говорит Ворстенбос, обращаясь к Кобаяси.
Тот, запинаясь, излагает ужасающую новость.
Со всех сторон сыплются вопросы, но ответов никто не смог бы услышать, даже если бы Кобаяси и Огава рискнули ответить. Среди общего гвалта Якоб вдруг замечает человека, что сидит по левую руку от градоправителя, через три места. Лицо его отчего-то тревожит секретаря. Возраст угадать невозможно, бритая голова и синее одеяние заставляют предположить в нем монаха или даже настоятеля. Плотно сжатые губы, высокие скулы, крючковатый нос, в глазах – беспощадный ум. Якоб не в силах уклониться от этого взора, как не может книга по собственной воле помешать, чтобы ее прочитали. Молчаливый наблюдатель склоняет голову к плечу, словно охотничий пес, почуявший добычу.
V. Пакгауз Дорн на Дэдзиме
Послеобеденный час, 1 августа 1799 г.
Рычаги и шестеренки Времени сбоят от жары. В горячих влажных сумерках Якоб почти слышит, как сахар в ящиках, шипя, спекается комками. В день аукциона они пойдут за гроши торговцам пряностями, а иначе – вернутся в трюмы «Шенандоа» и осядут мертвым грузом в пакгаузах Батавии. Секретарь залпом приканчивает чашку зеленого чая. От горького осадка пробирает дрожь и головная боль усиливается, зато соображается лучше.
Хандзабуро прикорнул на ложе из ящиков с гвоздикой, накрытых мешковиной.
От его ноздри к выпирающему кадыку тянется липкий след, похожий на след слизня.
Скрипу пера по бумаге вторит очень похожий звук с потолочной балки.
Ритмичное царапанье вскоре заглушает еле слышное повторяющееся попискивание, словно визг крошечной пилы.
«Самец крысы залез на свою самку», – догадывается Якоб.
И его окутывают воспоминания о женском теле.
Этими воспоминаниями он совсем не гордится и никогда о них не говорит…
«Такие мои мысли, – думает Якоб, – бесчестят Анну».
…Но образы не отступают и сгущают кровь подобно корню маранты.
«Сосредоточься, осел, – приказывает себе секретарь. – Думай о работе…»
С усилием он возвращается к погоне за полусотней рейхсталеров, которые затерялись в чащобе поддельных квитанций, найденных в сапоге Даниэля Сниткера. Якоб пробует налить себе еще чаю, но чайник пуст.
– Хандзабуро? – зовет Якоб.
Слуга и не думает пошевелиться. Похотливые крысы затихли.
– Хай! – Спустя долгие мгновения слуга подскакивает на своей лежанке. – Господин Дадзуто?
Якоб приподнимает чашку в чернильных пятнах.
– Хандзабуро, принеси, пожалуйста, еще чаю.
Хандзабуро щурится и трет затылок.
– Ха?
– Еще чаю, пожалуйста. – Якоб взмахивает чайником. – О-тя.
Хандзабуро со вздохом встает, берет чайник и плетется прочь.
Якоб принимается чинить перо и тут же начинает клевать носом…
…Посреди Костяного переулка в ослепительном сиянии проступает силуэт – горбатый карлик.
В его волосатой руке зажата дубина… Нет, окровавленный окорок на косточке.
Якоб поднимает отяжелевшую голову. Шея затекла, в ней что-то хрустнуло.
Горбун входит в двери пакгауза, неясно бурча и шаркая ногами.
Окорок на самом деле не окорок, а отрезанная часть человеческой ноги со щиколоткой и ступней.
Да и горбун не горбун, а Уильям Питт, ручная обезьяна.
Якоб резко вскакивает и стукается коленом. От боли темнеет в глазах.
Уильям Питт взлетает на груду ящиков, не выпуская из лап свою жуткую добычу.
– Господь всемогущий! – Якоб потирает коленку. – Где ты это взял?
Ответом ему – только ровное, спокойное дыхание моря…
…И тут Якоб вспоминает: вчера доктора Маринуса вызвали на «Шенандоа»; матросу-эстонцу раздавило ногу упавшим ящиком. В японском августовском климате гангрена распространяется быстрее, чем прокисает молоко. Доктор назначил ампутацию и проводить ее собирался сегодня, у себя в больничке, в присутствии четырех студентов и еще каких-то местных высокоученых медиков. Должно быть, Уильям Питт пробрался туда и стащил ногу, хоть это и кажется невероятным; иначе не объяснишь.
Входит еще кто-то и останавливается на пороге, ненадолго ослепнув в темноте пакгауза. Грудь незнакомца вздымается от быстрого бега, поверх синего кимоно – грубый фартук в темных пятнах, из-под платка, скрывающего правую сторону лица, выбились несколько прядей. Незнакомец делает шаг вперед, оказываясь в луче света из окошка под самым потолком, и становится видно, что это – девушка.
Женщинам через Сухопутные ворота вход заказан; исключение делается только для прачек и нескольких «тетушек», что прислуживают переводчикам, а кроме того – для проституток, приходящих на одну ночь, да еще для «жен» – те живут подолгу в домах старших служащих. Эти дорогостоящие куртизанки держат при себе прислужниц; Якоб предполагает, что перед ним как раз такая прислужница. Не сумела отнять у Питта отрезанную ногу и в погоне за обезьяной прибежала в пакгауз.
Она замечает рыжего зеленоглазого чужестранца и тихо, испуганно ахает.
– Барышня, – умоляюще произносит Якоб по-голландски, – я… я… пожалуйста, не тревожьтесь… я…
Девушка присматривается и решает, что он не представляет серьезной угрозы.
– Скверная обезьяна, – говорит, успокаиваясь. – Воровать ногу.
Якоб сперва кивает и только потом спохватывается:
– Вы говорите по-голландски?
Она пожимает плечами: «Немного». Вслух говорит:
– Скверная обезьяна – сюда приходить?
– Да-да, косматый бес вон там. – Якоб показывает вверх. Рисуясь перед девушкой, подходит к груде ящиков. – Уильям Питт, отдай ногу! Дай сюда, я сказал!