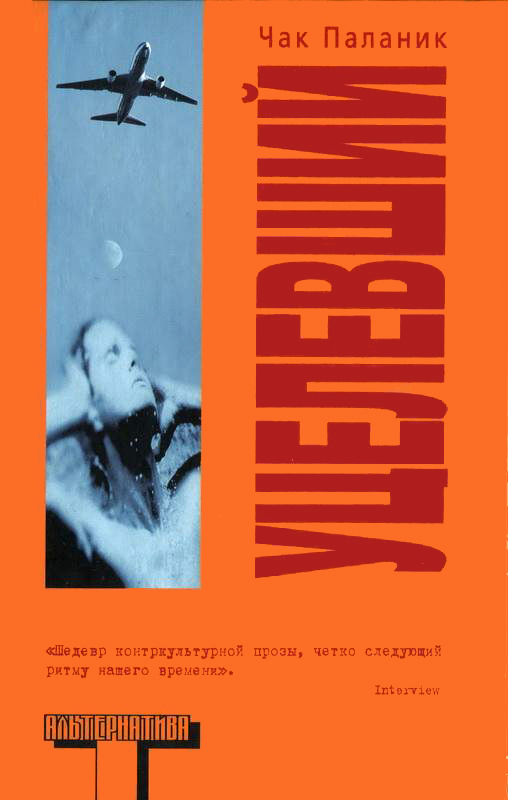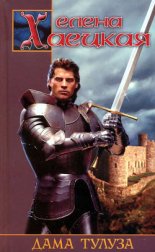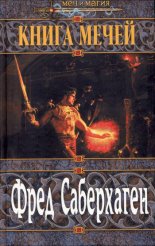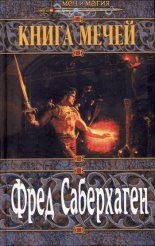Подробности мелких чувств Щербакова Галина
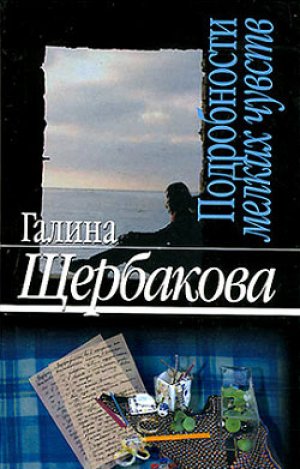
Галина Щербакова
Подробности мелких чувств
В ноябре он получил шестьдесят три рубля сорок шесть копеек. В ноябре всегда бывало негусто. Графоман как бы опоминался после гением обозначенного творческого запоя в октябре. Опоминался и замолкал, стесняясь марать бумагу и слюнявить конверты. Это совсем не походило на летнее затишье, когда пыхтит варенье, набиваются набойки для школьной поры и стихотворцев приспосабливают к делам простым. Все знают: потом они возьмут свое. В сентябре и ноябре. В ноябре же было именно опоминание: обкусывая до мякоти ногти, слабея от дистонии, поэты и прозаики ужасались приближению еще одной бесславной зимы их жизни.
Таковы вкратце законы периодизации творчества, и не вами они писаны.
И все-таки, все-таки… Меньше восьмидесяти у Коршунова не выходило ни разу. Даже в клубничный июль. Всегда сохранялось количество пишущих для дальнейшей жизни и деятельности Коршунова. Как в природе. Для кошек – птички. Для птичек – мошки. Для мошек – что-то там еще… И так далее…
Для Коршунова – графоман как средство выживания.
Но как выживешь на шестьдесят три рубля и сорок шесть копеек? Ведь он даже копейки не оставлял в кассе, как другие. Мелочь, мол, девушка, не надо! Коршунову было надо. Еще как…
Первая мысль – взять у кого-нибудь пятнадцать рублей, приплюсовать и принести домой. Хоть, мол, и бедно, но стабильно. В редакции, с которой он начинал, осталось человека четыре, да и то техсостав – машинистки да стенографистки. Остальные были новым народом. Этот народ пятнадцать рублей деньгами не считал, и именно поэтому – именно поэтому! – просить их было стыдно и противно. Наверняка дали бы, но как? В общем, не мог он обращаться к этим внукам революции. Нечего им знать, до какой степени он гол как сокол.
Он тут как-то булькнул одному «внуку». Так, между делом, расслабился дурак. Шестнадцать пьес, мол, лежат в фибровом чемодане, в котором покойница мама хранила реликвии своей жизни. Случилось невероятное – очки у «внука» потемнели, и Коршунов, хоть и знал хамелеоньи свойства стекла – в широкое окно редакции как раз влезло солнце, – но это было не считово. А считово было возникновение преграды. Там где-то в матовом сумраке, конечно, жил этот парень, но это было другое пространство. И Коршунову там не черта было делать. Рассказывая об этом Марусе – тоже идиотия, ей зачем?
– он охарактеризовал свое состояние так: «Понимаешь, я обвис…» Такое нашел определение. А Маруся на это поджала губы, уронила крышку от кастрюли. В общем, Коршунов идею пятнадцати рублей взаймы у нового поколения отверг. Напрочь.
Получилось скверно. Он принес могучий заработок домой, выложил его на кухонный стол весь до копеечки стопочкой и состроил рожу Марусе: вот, мол, жена, плохая у мужика случилась охота.
Пятнадцать лет он жил с Марусей, думал: знаю вдоль и поперек, оказалось – не знал. Знал бы – не поперся бы в кухню, а ушел бы на балкон, забился бы в угол к ящикам и коробкам и ждал бы, когда жена сама за ним придет, закричит, что балкон висит на одном гвозде, а он его расшатывает своими нервами. И тогда он выложил бы ей шестьдесят три рубля сорок шесть копеек, она вздохнула бы тоненько и сипло и сказала бы, что сил у нее больше нет, до каких же пор, и тэдэ и тэпэ, но все бы это прошло тускло и почти мирно, и они сели бы в конце концов ужинать, и он бы стал нажимать на хлеб, избегая колбасы, а она, естественно, расстроилась бы по этому поводу и закричала бы на него, что не хватало ей еще его дистрофической язвы, что пусть ест, пока что-то есть, и так далее, и так далее. А ночью она бы его обняла и, сопротивляясь себе самой, сказала, что да, да, любит его, дурака, потому что не любя разве можно с ним, с таким, жить? Именно любит! Именно дура!
Но, повторяю, так могло бы быть, если б Коршунов что-то понимал в своей жене. В тот день заходить к ней в кухню было нельзя категорически! И тем более бряцать этим своим заработком.
Маруся внимательно, брезгливым мизинчиком пересчитала брошенные веером (ишь, какой Рогожин Советского Союза, ишь, какой ухарь-купец!) десятки. Сначала справа налево, а потом слева направо. Сумма, как и следовало ожидать, от перемены направления не изменилась. Тогда она подняла на него свои глаза, и он почувствовал, как охватило его стыдное страдание. Взгляд Маруси был пустой, совсем пустой, как будто его, Коршунова, не было тут вовсе, и денег этих жалких тоже не было, и вообще не было ни-че-го. Ничего не было у этой увядающей от унылой жизни женщины, и она уже давно смотрела в пустоту как в единственную реальность. И может статься, когда-нибудь Маруся возьмет и уйдет в эту пустоту, чтоб не вернуться никогда, потому что она уже готова, совсем готова, она уже – пожалуйста, и, может, только Коршунов во вторую очередь, а в первую – Аська держит Марусю на земле, поэтому надо было как-то намекнуть застывшей и готовой для перехода Марусе, что он, Коршунов, еще здесь, так сказать, в наличии.
– В ноябре всегда так, – сказал он как можно беззаботней. – Поэты в ноябре замирают.
Вот это было напрасно. Вот это было самое что ни на есть – не то. Так, такими словами прикрыться. Пустой Марусин взгляд обрел какой-то смысл, и Коршунов сдуру обрадовался, что, кажется, может быть… Одним словом, ну поорет Маруся, ну наплачется, но ничего другого страшного не случится. Не случится пустоты.
И он освобожденно развел плечи и даже слегка крякнул и зашевелился собственным телом в собственном дому, ощущая его надежность в момент ударившей рядом – рядом! – но все-таки пролетевшей мимо молнии. И пока он секундно радовался освобождению, он упустил момент, когда ловко и быстро Маруся сгребла в кулак деньги и рванула в уборную. Ну а дальше – совсем смешно. Она спустила воду.
– Катись к чертовой матери! – крикнула Маруся. – Тунеядец проклятый! Кормилец фиговый! Шекспир трахнутый! Чтоб мои глаза тебя больше не видели с твоим заработком. На паперти собирают больше! Графоман несчастный!
Про Шекспира уже было. И про паперть тоже. Про тунеядство звучало. А вот «графоман» – слово было запрещенное. Для Маруси. Сам Коршунов в отчаянные свои минуты задавал себе этот вопрос. Но даже он не пробовал это слово на язык, он воспринимал это слово начертанным на запотевшем окне, как дурное слово в своем детстве, когда он, простуженный и гундосый, стоял у окна и чертил на нем стыдно влекущие буквы заборов и уборных, а написав их, тут же испуганно стирал, потому что, изобразив их, всегда испытывал тошноту и противность. Вот и слово «графоман» виделось ему на одно только мгновение и сразу – гадость во рту, тошнота, и нет слова, и никогда больше, и все, все, все… Теперь же это слово, сказанное Марусей, разбилось на мельчайшие осколки и кололо его во все места сразу, и это было ужасно. Кололо в ступне, в ухе, в горле, в паху, кололо в груди, в ладонях, пронзало в солнечном сплетении, хотелось скрючиться, окуклиться, застыть в глухоте и бесчувствии, поэтому никак, просто никак он не отреагировал уже на другой – диаметрально противоположный поступок Маруси.
Видимо… Видимо, деньги не смываются так просто… Во всяком случае Маруся, опомнившись, уже с другими словами-криками выуживала из унитаза деньги и бережно раскладывала на полу для просушки десятки и трояки. И теперь она причитала над ними, мокрыми, а Коршунов, схватив с вешалки ветровку и сумку, старался сунуть ноги в кроссовки, не развязывая шнурков, потому что пальцы у него онемели.
– Зараза! – крикнула ему вслед Маруся. – Чтоб я тебя больше не видела.
Если бы у Коршунова не болело все тело и он был способен воспринимать что-то еще, кроме колющей, пронзающей боли, он бы уже услышал в голосе Маруси другие тоны и оттенки. И «говнюк» звучало почти как «любимый мой». Да, да, говнюк – конечно, кто же еще? – но ведь куда денешься? Однако ничего этого Коршунов не слышал и не понимал, он бежал из своего дома, как из пыточной камеры, и, верно, чем дальше он был от дома, тем слабее было колотье, тем быстрее отпускало. В каком-то чужом дворе на лавочке боль ушла совсем. Коршунов только тогда понял, какой он мокрый, как он тифозно вспотел за это «унитазное время». В пору было принимать душ, но одна мысль о возвращении вызывала в нем озноб и ужас.
В принципе мысль о том, чтоб уйти от Маруси совсем, не была такой уж диковинной. С той поры как он из штата редакции сел на так называемые «вольные хлеба», оставив себе только литературные консультации для графоманов (тьфу, проклятое слово!), и стал приносить домой свои жалкие копейки, с Марусей все напряглось. Пока он ночами писал на кухне, а днем, опухший от недосыпа, ходил на работу, все было ничего. Нормально, можно сказать. Бывало, он будил ее утром и читал какой-нибудь особенно получившийся, на его взгляд, отрывок, и она никогда не обижалась, наоборот, радовалась и хвалила его, защищала умерщвленных им героев и требовала их воскрешения. Она, как ребенку, объясняла ему: ты не прав, не может женщина, хоть ты тресни, полюбить гениального человека, если у него пахнет изо рта. Лучше похорони его – вот! – она даже соглашалась на смерть в первом действии. А? Правда! Похорони! Даже не так! Открывается занавес, а герой уже в гробу. Или другое. Ни одна женщина – ни одна! – не наденет лифчик раньше трусов. «Почему? Почему? – смеялся он. – Что это за закон последовательности?» А вот и закон. Вот и закон, говорила заспанная и розовая Маруся, и он любил ее в эти минуты и считал, что ему невероятно повезло. Она у него Маргарита. И вычеркивал запах, и трусы на героиню надевал раньше всего.
Потом… Потом, когда он перестал ходить на работу каждый день и завел правило ложиться и вставать рано, желание прочитать «хорошенький кусочек» как раз попадало на белый ясный день, когда Маруся горбилась в своей школе. Пару раз он сунулся с чтением к Аське, и та в первый раз, стоя, переминаясь с ноги на ногу, стерпела это, но уже во второй сказала как отрезала: «Папа, ну скучно мне, скучно! Что я тебе, Арина Родионовна?» Тогда он, испытывая неодолимую потребность в слушателе, стал читать Марусе вечерами, но та взвивалась с пол-оборота. И устала она – не все ведь лафу имеют дома сидеть. И не воспринимает она сейчас на слух – у нее в ушах школа гудит. И вообще – какая это у него драма-пьеса по счету? Надцатая?! И что он от нее хочет, каких реакций? Вышли реакции, Коля, вышли и назад не вернулись.
Такой получался момент творчества – примитивный и гнусный. Подчиниться ему – значило конец, конец сознанию, что ты не тяп-ляп, не пальцем сделанный мужик, не тряпка-поломойка, не, не, не… Он изо всех сил старался жить так, чтоб никто, ни одна сволочь не ткнула в него пальцем как в неудачника, а главное, наиглавнейшее, чтоб так не думала Маруся…
Он решил готовить обеды. Ведь верно же – дома сидит. Маруся на порог, а он в фартучке и самодельном поварском колпаке накрывает ей стол, вилочка – туда, ножичек – сюда. И сок давил специально к приходу, живой такой сок делал: Марусечка моя, Маргариточка. Бывало, она даже смеялась, бывало, даже ценила: «А хорошо, черт возьми, когда тебе супчик сварен». – «Не только, не только, – отвечал он. – У нас еще и оладушки».
А денежки – тю-тю… Кончались задолго до дня X. И ни фига в эти дни не писалось. В общем, недолго продержалось счастье на поварском колпаке. Он все делал по-прежнему, но уже без «вилочка сюда, ножичек туда». И Маруся не смеялась больше. Хлебала, не подымая головы, и тарелку отодвигала с выражением «а пошла ты…» Будто бы тарелке, а ведь на самом деле – ему.
Надо быть справедливым: Маруся держалась дольше всех. Потихоньку ушли из его жизни, как со скучного спектакля, все… Поэтому Коршунов, сидя на лавочке в чужом дворе, очень конкретно подумал, что если… Если шагнуть секунда в секунду, то все может получиться мгновенно и с двойной прочностью. Есть шанс попасть на контактный рельс, а если нет, сам поезд довершит тобой задуманное. И по времени это раз, два, три – не больше. Это не с крыши, когда пока летишь – умрешь от ужаса. В метро же надо только четко, секунда в секунду шагнуть, когда поезд совсем рядом.
Сделал же Коршунов другое. Поехал к тетке, объяснил, что ему надо уединиться для работы в ее завалюхе даче, и тетка, которая прежде, когда он клянчил дачу для дочери, отвечала категорическим отказом, на сей раз обрадовалась столь удачно подвернувшемуся сторожу. Время пошло бандитское, живи в городе и переживай, не спалят ли домик в Коломне, не разнесут ли! Тетка, чуть не приплясывая, принесла ключи и затараторила про дымоход, про дверь, которая оседает при сильном распахе. Ты осторожней, Коля, осторожней. Входи, голубчик, бочком. И вообще, вся дача тебе, Коля, не нужна, она холодная, а уже – смотри – ноябрь. Живи в кухоньке, она у меня невеста-светелочка. Там и стол-столок, и диванчик-лежачок, и чашки-тарелки. А казанок, Коля, у меня в духовке.
На месте выяснилось, что двери в «горницу» предусмотрительно задвинуты буфетом, да и не стал бы он туда ломиться. Бог с ней, с горницей, если б не необходимость одеяла. Диванчик, диванчик, диванчик-лежачок, но укрыться мне чем-то надо? Под голову положить надо? Ведь не рассказал он тетке, что не просто уединяется, а уединяется от Маруси и скорее всего навсегда. Знай тетка, что он без своей постели туда едет, еще неизвестно, обломился ли бы ему ключик и замочек?
Ворвавшись без благословения в запрещенную ему часть дачи, Коршунов нахватал всего: и подушек, и стеганое, пахнущее детством и травой зеленое одеяло, и безразмерные грубой вязки теткины кофты, и кой-какой стратегический продукт типа пшена и риса, и аптечку с йодом и аспирином. Короче, задвинув назад буфет и протопив печку, Коршунов почувствовал в себе силу перезимовать, а там будет видно. В конце концов вариант «раз, два, три» всегда при нем. Еще какой-то из Плиниев сказал: у человека должно быть это право. Съездил в редакцию, разжился хорошей кипой казенной бумаги. У уборщицы, которая помнила тот день, когда он еще молодой пришел в редакцию и она тогда, конечно, не молодая, но и совсем не старая, сказала ему откровенно, что по утрам прибираться она приходит рано, в семь утра, и что женщина она чистоплотная. Спроси у кого хочешь. Так вот, сейчас, когда он попросил у нее двадцать пять рэ, она засмеялась и напомнила ему, что он сказал ей, молодой и принципиальный: «Из общего корыта не ем!» А она засмеялась и сказала: «Ишь!»
В общем, ее приглашением он не воспользовался, хотя потом узнал, что в редакции это было почти семейным делом. Он тогда очень этим возмущался, хотя и ловил себя на мысли, что смотрит на эту уже немолодую женщину слишком уж остро. А иногда, когда дежурства заходят за полночь, силой уводит себя, чтоб не остаться и не дождаться тех самых семи. Однажды даже было. Было. Остался. Но в семь утра приперся фотокор и, увидев Коршунова, сказал в сердцах: «Здрасьте вам!» – «Я с ночи»! – закричал оскорбленный Коршунов, и только его и видели, а на улице столкнулся с уборщицей, шла она быстро, сосредоточенно, Коршунова не заметила, и он тогда ввел этот эпизод в какую-то пьесу, но ничего хорошего из этого не вышло. В пьесе ведь нужны слова, а в жизни слов, считай, не было.
Теперь это была молодящаяся бабулька с хорошими, несмотря на возраст, ногами и плоским животом. Она спокойно дала ему двадцать пять рублей и сказала, что раньше дала бы больше, когда было то время и те мальчики. Ей он почему-то рассказал все: и про шестьдесят шесть рублей, и про Марусю, топившую деньги, и про то, что теперь у него на зиму есть кухня и пшено, так что он – кум королю и сват министру.
– Мне тоже шестьдесят шесть, – сказала уборщица. И он не сразу понял это тоже. Ах! Просто совпадение цифр.
Она спросила его адрес, написала его кривыми буквами на газетном поле, сказала, что завезет ему картошки и капусты. «Чего тебе еще?» – «Ничего не надо! – закричал Коршунов. – Ради Бога!» – «Ишь? – ответила она. – Ишь?..»
Странным было чувство в электричке. Взяв у женщины деньги, он как бы с опозданием, но вошел во всеобщее братство ею обладавших. Что ни говори, а он все годы в редакции держался с нею надменно. Даже ненавидел ее порой за возникающее в нем чувство желания. Противно это было, что ни говори, имея молодую красивую Марусю, деревенеть при виде тетки, которая на четверть века тебя старше и что называется ни с какой стороны тебе не нужна. Теперь вот женщина дала двадцать пять (четверть?) и снова засмеялась, вспомнив, какой он был «молодой и принципиальный». Куда ушла его надменность? Братство, люди, братство!
Милая Клавдия Петровна… И никогда никому Клава. Вот ведь парадоксы жизни. Все с ней спят, и всем она Клавдия Петровна. А замредактора у них была, так ее иначе, как Нюрка, не звал никто. Вся была в регалиях, при машине, авантажном муже, умная, веселая, но – Нюрка. Нюрка – профессорская дочь. Интересно, а какого роду-племени Клавдия Петровна? Надо спросить, когда будет возвращать двадцать пять рублей.
Под что он, дурак, их брал? С какого ветру могут у него возникнуть деньги?
«Потом, потом… – думал Коршунов. – У меня есть зимовье».
…И было ему хорошо.
Невероятное состояние освобождения. Не надо думать о выражении собственного лица. Почему-то это оказалось самым важным. Проснулся и лежи себе с отквашенной губой и набрякшими веками. Эдакий немолодой и некрасивый. И очень хорошо! Какой есть. Можно полежать, глядя в ситцевое окошко, удивиться изобретательности тетки, из бывшего платья сварганившей занавески. Он почему-то хорошо помнил это платье. Она приходила в нем в гости, когда он был еще вполне, работал завотделом, писал статьи на «морально-этические темы», страдал от цензуры и дураков начальников, чехвостил замредакторшу Нюрку за то, что «дело не защищает». В общем, жил в системе и был системой и теткой уважаем. Вот она пришла к ним в только что сшитом платье, Маруся зацокала: «Ах ситчик, ах, ситчик», – и вот, пожалуйста, не прошло и сотни лет – висит платьице на окошке, и он может не вставать, может лежать и думать и ждать, когда в хаосе мыслей появится та, которая отодвинет плечиком другие мысли и будет дразнить его, будет уволакивать черт-те куда, пока он не вспрыгнет и не запишет: «На-дя! На-дя! Какое странное имя. Будто дятел настучал». И он возликует и растопит печь, потому что, оказывается, этой гениальной фразы ему не хватало, и теперь пойдет-поедет, и таки поедет на самом деле, пьеса побежит как сумасшедшая, а он при этом будет оставаться в голом виде, и ему надует слева, а справа будет жарко от печки и очень будет хотеться в уборную, где это у вас, напишет он, и вместе с героем выскочит на улицу, под дождь, оказывается, на улице дождь, вот откуда «настучал», от него, дождя, природа родила ему потрясающие слова: «На-дя! На-дя!»
У него были сложности с именем героини. Он писал: Ирина (условно). Но какая она к черту Ирина? Ирина – это узкая ступня и торчащий резец во рту, а его героиня с приросшей мочкой и с огромным костистым пространством от шеи и до груди, эдакое плоскогорье Тибет, эдакое неправильное географическое строение со сбежавшей на юг грудью. Вот это и может называться Надей и ничем другим. Он исстрадался от невозникшего имени, от его нерожденности. А, оказывается, как просто: «На-дя! На-дя! Будто дятел настучал…»
На улице он радостно подумал, как же хорошо должно быть сейчас Марусе. Не надо его ненавидеть, а потом, стыдясь безнравственности чувства, с ним же – чувством – бороться. Ей сейчас легко и освобожденно, как в том анекдоте, из которого вывели козу. Они сейчас с Аськой кайфуют, а он кайфует здесь, как просто, оказывается, разрешаются проблемы. Но глупый, слабый человек почему-то считает своим долгом все усложнить, нагромоздить, самому забаррикадировать выход и кричать в глухую стену: «Спасите! Спасите!»
Ни разу не подумалось, не беспокоится ли Маруся, не ищет ли, не страдает. Нет! Если ему хорошо – ей хорошо тоже. Ветром ли, дождем, звуком ли, а дойдет до нее сигнал, что нашел он имя героини. И она перестанет говорить эти свои глупости: «Ну какая разница? Какая разница, как человека зовут? Разве дело в имени?»
Как ей объяснить, что она абсолютная Маруся и у нее до старости лет будет тонкой шея, а подбородок будет беззащитным и слабым, и его всегда будет хотеться взять в ладонь, чтобы смять и вылепить из него что-нибудь покрепче, и именно поэтому, из-за слабости шеи и подбородка – закон равновесия, – в Марусиных глазах всегда злинка и ядовитость, всегда готовность к отпору – ну уж, ну уж! Не так я слаба, люди, не так, не судите по шее.
– Но я ведь еще и Маша! И Маня! – смеялась Маруся. – И Машура-Шура, между прочим.
– Нет, – говорил он. – Ты Маруся. А была бы Шура – у тебя бы размер обуви был тридцать девятый, а на талию не хватало бы резинки.
Конечно, все это хохма! Надо же что-то говорить. Но Коршунов знал – есть в наречении божественная тайна. И уборщица будет Клавдией Петровной, а профессорская дочь Нюркой. «И чего это я про них вспомнил? – подумал Коршунов, телепаясь из уборной к дому, не зная еще, что в мироздании, ведающем дождем, именами и человеком, бегущим из уборной, никакой тайны нет. На крыльце стояла Клавдия Петровна. Коршунов чисто автоматически стал искать рядом с ней сумку с картошкой – было же сказано, принесу, – но сумки не было, Клавдия Петровна пришла пустая.
И тут Коршунов испугался. До ужаса. До сердечного спазма. До потери речи.
И зря. Потому что добрая душа Клавдия Петровна тут же, с порога сообщила ему, что его разыскивает режиссер Театра Номер Один Всего Советского Союза, что он, народный, обыскался его, Николая Коршунова, и уже достал всех в редакции и дома, и что между Марусей и Нюркой шел телефонный перезвон, где он? И люди недоумевают: написал пьесу – так сиди с вымытой шеей, жди, вдруг понадобишься. Коршунов же смылся, как будто ему и не надо. Клавдия Петровна все это слышала, сейчас рассказала, как смогла, и в конце добавила, что не призналась, что знает, где он. «Может, зря? – спросила она. – Прислали бы машину. Но я, Коля, подумала: а тебе это надо? Если ты спрятался?»
Коршунов едва не закричал: не надо! Не надо! Вчера было надо, позавчера, третьего дня. Где ты был, народный режиссер, когда Маруся смывала мой заработок в сортир? Где ты был? Не прочитал еще? Не бреши, суче? Пьеса у тебя уже года три валяется. Она уже и не пьеса, а так – вымысел один. Иллюзия…
– Ты поезжай, вроде ничего не знаешь, – надоумила Клавдия Петровна. – Пусть они сбиваются с ног, а ты просто мимо шел…
Коршунов был потрясен. Это же надо так именно придумать. А он бы сдуру стал сейчас ломиться в служебные двери театра: это я, мол, я! А, оказывается, надо мимо идти и чтоб народный из окошка вываливался, крича: «Вернись! Вернись!»
– Тогда я приеду завтра, – сказал Коршунов.
– А выдержишь? – спросила Клавдия Петровна.
– Еще как! – засмеялся Коршунов.
Клавдия Петровна тут же встала, и он ее не задерживал, зачем? Она ушла в дождь, и ему стало неловко, что, в сущности, даже спасибо не сказал женщине, даже чаю не предложил. Хотя какой чай? С чем?
Но уже через десять минут он понял, что ничего из затеи «красиво переждать» не выйдет. Ловко придуманное имя абсолютно не вдохновляло на работу. Совсем другие, разные мысли повылезали из щелей и потащили его черт-те куда. Он знал дикие места тайных мыслей, где у него успех, и слава, и деньги, и черный костюм с бабочкой, и хорошо подстриженная голова, где он небрежно и изящно дергается в полупоклоне раскаленной черноте зала. В пятом ряду слева у его всегда сидит Маруся. И глаза ее находятся в полном соответствии с подбородком – слабые, беспомощные, влюбленные. Он, сильный мужчина в ярком освещении, уже освободил ее раз и навсегда от школьной унизительной каторги, и у нее идет другая жизнь. Она избавилась бы наконец от черной аптекарской резинки, стягивающей волосы в жгут, и они волной упали б на плечи.
Одним словом, уже через пятнадцать минут Коршунов был на платформе и увидел Клавдию Петровну, которая пряталась от дождя под козырьком ларька. Пришлось обогнуть ларек сзади и, купив билет, скрыться в зарослях неизвестной флоры и думать мелкую мысль, как бы не попасть с Клавдией Петровной в один вагон.
«Каков человек гусь», – думал Коршунов, старательно уходя в мысли от конкретных поступков в обобщение. Строгого суда над собой, человеком, не получалось. Так, снисходительные ататашки самому себе за отношение к бескорыстной Клавдии Петровне и снова глубоководное обобщение: «Хотел бы я найти человека, который не рванулся бы с места, позови его Театр Номер Один Советского Союза».
И Коршунов хищнически оглядел электричку, ища какую-нибудь мокрую курицу, которая способна была бы не рвануться. Куриц было много, но глаза у них оказались стремительными и жесткими, как будто они и не курицы вовсе, а соколы, готовые на смертный полет. Хорошей закалки и выучки ехала в электричке птица. Коршунов даже засмеялся, даже некая пьеса заколебалась в воздухе, и даже словесный гибрид возник – курьегерь. Надо же! Но колыхнулась пьеса, возникло глупое слово, и запахло паленым пером. «Куриный источник», – смеялся над собой Коршунов. – Пьеса будет «Куриный источник».
Не следовало приезжать, не следовало… Никто, ни один человек ничего в редакции не знал. Ни про поиски Коршунова, ни про театр. «Не, старик, не… Я не в курсе». – «Что-то я вроде слышал, но мимо памяти…» Нюрки в редакции не было. Значит, не было и девок из ее приемной. Это такой закон жизни их редакции. Пришлось сесть в свой закуток за шкафчиком и вонзить пальцы в графоманскую кучу, которая собиралась в верхнем ящике. Вокруг бегал народ, суетился, все-таки наступило неожиданное время, и надо было поспевать за ним, и поспевать было весело. Коршунов ловил себя на мысли, что завидует народу, что вот скажи ему сейчас: а слабо тебе, Коля? И он бы вскочил и задрал штаны и так далее, как в поэзии. Но уже достаточное количество лет – и каких лет! – его в журналистские игры не приглашали. Разве что Нюрка иногда по старой дружбе говорила: «Роди чего-нибудь для нас, а? Дай передышку нетленке». Но это так. Вежливость и Нюркина усталость. От усталости она добреет, редкое, между прочим, свойство, редчайшее, можно сказать… Вообще Нюрка – наоборотная женщина, начиная с имени и прочее.
Время же шло. И никто Коршунову так ничего и не сказал. И тогда, преодолевая непосильную тяжесть, даже плечи осели и задрожали какой-то липкой дрожью, он позвонил домой. Трубку взяла Аська. «Але-е?» – «Это я, доча!» – «Ну и что, что ты?» Такой ленивый, врастяжечку ребенок – дочь.
В общем, она тоже толком ничего не знала. Да – тянула она – кто-то, кажется, звонил, мало ли? Тебе и раньше звонили не по делу… Что мы сказали? А что мы могли сказать?.. Нету как нету… Да никто ничего не оставил. Было бы – знала бы. «Ладно, пап, у меня дела… Пока…»
Теперь у всех такие дети. Кровь такая. Звонить Марусе? Чтоб ей, бедняжечке, в одночасье сыграть в учительской сразу три роли – для него, для родного коллектива и для высшего суда? Это ж ей надо будет найти такое слово, чтоб оно по смыслу годилось бы для всех и было интонационно многозначным. И где его найдешь, такое слово? В каком словаре?
Надо возвращаться под оконный ситчик. А Клавдия Петровна, старая, извиняюсь, поблядушка, приехала, чтобы просто приехать.
Мужик, мол, один, дождь по крышам стучит так, что стонут все крыши.
Коршунов так двинул стулом, что свалилась настольная лампа. Слава Богу, что дура была железной, не разбилась, а засмеялась. Пока водворял на место, зазвонил телефон. И мужской, ломкий, с картавинкой голос спросил:
– А что – простите – Коршунов так и не залетал? Это из театра.
В общем, когда Николай помыл руки – он всегда тщательно мыл руки после графоманской почты, – когда прополоскал рот, а волосы прижал водичкой из-под крана, когда содрал с локтей свитера катышки свалявшейся от возраста шерсти, а ботинки тщательно вытер газетами, пошло-поехало.
Девки из приемной, возникнув из небытия, закудахтали:
– Коля? Коля! Тебя же академический режиссер ищет.
Прошел два шага, спортивный репортер:
– Слушай! Тебя театр домогается, я тебе домой звонил, но со мной, старик, поступили невежливо. Ни здрасте, ни спасиба…
И еще человек пять вспомнили, догнали, поздравили, спросили, ходил ли в театр или еще только идет? В общем, зря он плохо подумал о Клавдии Петровне.
И уже на выходе, в кожаном длинном-предлинном пальто Нюрка.
– Я им сказала, – с порога крикнула она, – что они все там мудаки. Что ты у нас уже сто лет Кречинский…
– Сухово-Кобылин, Нюрка.
– Какая разница? – сказала она. – Хотя я, по-моему, все-таки ляпнула про Кречинского. Ничего себе, да? Поржут товарищи артисты. Ну и черт с ними? С другой стороны, можно ли быть уверенным, что где-то не мордуют талант по фамилии Кречинский? Слушай! Скажи, что есть такой… В Сибири. И что я его знаю… Не хватало еще, чтоб они надо мной смеялись.
– Ладно, – засмеялся Коршунов. – Я скажу, что ты патронажная сестра молодых дарований.
– А то нет! – ответила Нюрка. – Тем и кормлюсь.
И она прошуршала мимо, а Коршунов вспомнил, как однажды Маруся сказала: «А мне и четвертиночки такого пальто не износить. Сроду…»
Коршунов чуть не заплакал. Самое не то время, ему в себе силу надо взрастить, надменность, а он стоит сморкается, а слеза бежит как полоумная, пришлось даже дежурному на вахте сказать: «Как осень – так грипп». – «Ну и нечего разносить», – сердито ответил вахтер и замахал на него рукой. И то верно. Изыди, товарищ сопливый. На улице, спрятавшись в подворотню, Коршунову пришлось вытереть лицо шарфом, потому как выяснилось – носовой платок лучше было не доставать.
Вот с этой мыслью – у меня нет с собой платка – переступил Коршунов Театр Номер Один.
…И попал на другого вахтера. Видимо, по какому-то простым людям неведомому вахтерскому телефоно-телеграфу, эта вахтер приняла мах рукой того вахтера, поэтому белая ручка за дубовым баром-стойкой остановила Коршунова, и он замер, потому что так был воспитан – останавливаться там, где ходить не велено. А эта вахтер – с синими надглазьями, розовыми щеками и платиновой умело взбитой башенкой над полоской белоснежного, ничем не взбаламученного лба – эта вахтер так и держала его поднятой ладошкой. Цирковой, можно сказать, номер, выполненный в характере и цвете.
– Я – Коршунов, – пробормотал Коршунов. – Меня звали.
Почему ему никогда не хватает нужной лексики? Что значит «звали», сам себя редактировал Коршунов. Половой я, что ли? Слесарь-водопроводчик?
– Фамилия? – спросила вахтер, выполненная в импрессионизме, если брать в расчет только цвет и отвлечься от ручки-ладошки, в которой просматривались сила и тренинг соцреализма. И думалось странное: если такая обнимет тебя за шею, то бедная и больная будет эта шея. Коршунову сил нет как захотелось уйти. А ведь не душил его никто, не гнал, и хамства не было, ничего плохого еще не случилось.
Знакомый врач-невропатолог как-то сказал ему: «Еще немножко, и ты уже не мой пациент. И скажу грубо: перейдешь черту – сам будешь виноват. Надо соблюдать форму».
– Вас у меня нет, – радостно сообщила дама. И весь ее вид – ее форма – показывали ему, что не зря, нет, не зря подняла она накачанную в тренировках ручонку. Она – рука-дама-вахтер – имеет нюх и взгляд на таких вот теряющих форму Коршуновых. Значит, извольте выйти вон, товарищ.
Откуда-то из глубины, из яркой пасти разверзшегося лифта, выскочил маленький круглый лысый человек, эдакий радостный нолик.
– Ах, Николай Александрович! Николай Александрович! Не сомневаюсь – вы… – И протянул руку: – Нолик. Петр Исеич.
Зашатался Коршунов. Потому что так не бывает. Чтобы нолик был Нолик. Очень уж это поверхностно. Толстым быть Толстыми, белым – Белыми, круглым – Круглыми. Убогая фантазия, которую никакой уважающий себя мэтр не допустит. Это его, коршуновское, счастье – приобрести в нолике Нолика. А Исеич – это что? Исаевич? Евсеевич? Да какая ему разница. Ему-то что? Его позвали в театр. В Самый Что Ни На Есть.
Он увидел собственными глазами момент расцветания вахтера в улыбке нечеловеческой доброжелательности. «Ах! Какое счастье всем нам, – говорила теперь улыбка, – что вы толкнули эту тяжелую дверь и вошли… Ах! Если бы я знала, я бы выскочила на порог… Я ждала бы вас на сквозняке и ветре… Ах…»
«Это театр, – думал Коршунов. – Надо зарубить себе на носу, что здесь будет сплошное притворство. И моя задача – тоже притворяться, что я этого не замечаю…»
В кабинете, полстены которого занимал не похожий на себя Чехов, – а он и не мог быть похожим в размере ковра три на четыре, – сидел Главный с закрытыми, тяжело набрякшими веками. Какой-то человек, видимо, имеющий фамилию Кучерявый, ломко стоял рядом, крутя в руках не то указку, не то жезл, не то палочку от барабана. «Для поднятия век Главному», – подумал Коршунов и да, угадал. Кучерявый взмахнул предметом. Нолик издал восклицание-припев: «К нам приехал, к нам приехал Николай Александрыч дорогой!» И толкнул изо всей силы Коршунова в кресло.
Поэтому момента поднятия век Коршунов не увидел – он как раз падал назад. А когда упал, то колени его оказались несколько выше головы, а мягкость подлокотника не дала ему возможности опереться и подтянуться, получалось, что так ему и торчать ногами вверх в позе дурака, а кого же еще? Так вот, когда он все это осознал и ощутил – колени, идиотизм и мягкость окружающего его кресла-среды, – веки Главного были уже подняты.
– Подождем? – спросил Главный Кучерявого. И сам сказал: – Подождем. Без нее нельзя.
Потом он уже сосредоточил взгляд на Коршунове, который думал в этот момент, что поднятие век, в сущности, может ничего не значить. Во всяком случае, у Главного есть еще много створок, которые надо бы поднять и открыть, чтобы понять в конце концов – а что у него в глазу? Какая там гнездится мысль-идея? Ну пусть даже не мысль и не идея, пусть элементарная эмоция. Например, любопытство. Ишь, чего захотел! Любопытство – это не элементарная, это могучая эмоция.
А Коршунов сейчас, в кресле, согласен был на самую малость. На огрызок. Ну, чтоб его увидели в этом кабинете, что ли?
«А! – подумал он. – Для того тут и Чехов-ковер. Чтоб было ясно. Тут уважается только такого ряда интерьер. Вон и Булгаков у них в простенке, длинная склеенная фотография, штаны на которой у Михаила Афанасьевича не стыкуются с рубашкой. Могут вполне уйти сами по себе – штаны, и останется Булгаков бесштанным. Или, наоборот, слетит рубашка с головой, и останутся штаны». Одним словом, Коршунову захотелось встать и уйти, а так как это было трудно, то хотелось заплакать. В шарф. Но шарфа не было, Нолик его оставил где-то там, по дороге. Конечно, был бы платок… «А черт с ними! – подумал Коршунов, доставая платок. – Черт с ними! Мой платок, мои сопли и мои слезы». И он высморкался с вызовом, гордо, как свободный человек, испытывая странное облегчение не в носу, а в душе.
И только он осознал, что спасение есть и в конце концов никто его здесь не замуровал, он может встать и уйти, как разверзлись двери и вошла Она.
Народная артистка – любимица народа, и это не тавтология, первое может не означать второе, а второе может не быть первым. Тут же было полное совпадение, тут все было чисто, как в стерильной колбе.
Коршунов вскочил, и это оказалось совсем не трудно. Просто он любил эту женщину лет триста, когда еще был холопом, а она боярской дочерью… Была у него такая бездарная пьеса на двух актеров, фальшивая от первой до последней строчки, а он, идиот, лет пять с ней носился, а когда понял, что она такое, чуть с ума не сошел, что совался с ней туда-сюда, а вот сейчас пьеса ожила в нем, прекрасная пьеса, что он себе выдумал, самоед проклятый, прекраснейшая, если Она в Ней.
Но пока то да се, выяснилось, что Ольга Сергеевна влюбилась в его другую пьесу, что она, можно сказать, сошла с ума от нее, и не только она, а и Исеич Нолик, и что у них есть «задумка», как это сделать. А сделать это можно – чтоб всем напоморде! Иначе в искусстве нет смысла работать. Иначе она вовсе не берется за дело.
Она была не просто рыжей – она была огненной. Пламя волос так освещало лицо, что просвечивались веточки сосудов на крыльях ее коротковатого, слегка курносого носа. Попавшие в пламя волос брови, как и полагалось им, были слегка обгоревшими, их явно не хватало на радугу глазницы, и Коршунов умилительно отметил наличие следов карандаша, продолжающего след сожженной брови. Высокой, азиатской выделки скулы подпирали купол головы, они же – скулы – формировали некоторую квадратность щек, что не говорило об аристократизме, но в случае с Ольгой Сергеевной о такой малости – аристократизм, ха! – можно было вообще не печься. Тут было много других составляющих, замесом погуще. Была огромная сила подбородка, который мог бы показаться кому-то грубым, не имей он выше себя блистательного рта с губами эротически-иронического изгиба.
Что у нас там осталось неохваченным?
Глаза. Так вот… Это были глаза, прошедшие огонь и не сгоревшие в нем. И они отдохновенно мерцали, зная о собственной, проверенной пламенем непобедимости. И плевать они хотели уже на текущие воды… Что огонь и что вода. Это были глаза, которые, победив одно, другое в расчет уже не брали. Не в расчете были Главный, Кучерявый, Нолик, а Коршунов – просто смех. Зачем его побеждать? Его надо брать голыми руками и делать с ним все что хочется.
А Ольга Сергеевна хотела малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы, которая, будучи гениальной, «я словами не бросаюсь, меня тут знают, мне, чтоб угодить, надо в игольное ушко и обратно, вы сумеете? И не говорите – да, никто не сумеет, а вам и не надо, не такой вы автор… Ваш портрет будет висеть здесь…» И она ткнула пальчиком в простенок, где грифельно чернел подхалимский шарж на Главного (а Коршунов от нервности забыл слово и подумал «фарш»). На этом «фарше» веки Главного были вытянуты до подбородка, но вытянуты как бы набухшей слезой, а не каким-нибудь вульгарным водочным отеком… А если у человека слеза тяготит веко, то ведь сразу организм вырабатывает восхищение у всех смотрящих, ибо мы образной слезой люди трахнутые. Слеза ребенка – и уже когтится до крови грудь, а тут слеза, можно сказать, зависла в назидание ли, в укор… Но Ольга Сергеевна хвостиком махнула, «фарш» слетел как миленький, и в простенке возник Коршунов. Конечно, величиной он будет в пол-Чехова, это необидно, но зато и больше штанов Булгакова, а если считать сверху, от головы Михаила Афанасьевича, то как раз дойдет до ширинки, до верхней его пуговички, из всех пуговичек наиболее приближенной к голове писателя как источнику мудрости.
Такие вот глупости обуревали Коршунова, и он даже плохо слышал, о чем они говорили одновременно – Главный, Кучерявый и Нолик, потому что Ольга Сергеевна положила ему руку на плечо и стала отрывать один за другим катышки бывшей шерсти бывшего вполне добротного свитера, и эта домашность дела увела Коршунова из мира грубой материи, где простенки и ширинки, в мир тончайших чувств, летающих ниток, и он наклонил головенку, чтоб ненароком хоть чуть-чуть коснуться этих пальцев, что скубут его шерсть. И Ольга Сергеевна легко уловила склонение его головы, подставила фалангочку согнутого пальчика, и он ткнулся в нее щекой.
Боже мой! За что мне столько счастья? Отдай половину бедным!
Нолик в лифте сказал, что, по его разумению, пьесу трогать не надо, она вся из себя «пульсар». Он, Нолик, старается не мараться с современной темой, потому что – как?
Как ее постигнешь, если ты в ней? Но его, Коршунова, случай особый. Нолик значительно и высоко поднял плечи, приняв форму детского двугорбого капора и в этом виде и вышел из лифта, изображая некое не поддающееся анализу недоумение.
Коршунов понял, что завтра ему надо приехать домой к Ольге Сергеевне, Нолик тоже подгребет, и они вместе, «сообча», придумают, как угодить Ольге Сергеевне, не разрушая пульсар. «Она может захотеть многого, – выдохнул Нолик и закричал: – Но вы – автор! Автор! Вы можете нас всех послать! Послать! Можете! Всех! Не ей вас учить! Не ей! Но где вы найдете такую актрису? А?! Дилемма? Теорема? Парадокс? Казус?»
Нолик разошелся, он уже не был похож на капор, он разъехался вширь, и от него шли во все стороны бесформенные пятна, и Коршунов подумал, что в театре так и должно быть, вот он ауру не видит, сроду не видел и, если совсем честно, то и не верил, что материальным глазом дано видеть субстанцию идеальную, а тут Нолик весь пошел чернильными облаками, хотелось подойти к нему и развеять их хотя бы при помощи газеты, как дурной запах.
– Ваша пьеса, – шептал из своих облаков Нолик, – пойдет по стране как пожар. Я вам гарантирую сто пятьдесят театров в первый же сезон. Умножение сделаете дома, – хохотнул он, пожимая на прощание руку, которая была у него и мозолистой, и колючей, и шершавой, и твердой, и холодной. И странная, одним словом, была рука. Она Нолику не подходила. Она была из другого человеческого комплекта.
Ноги сами собой понесли Коршунова домой. Все-таки, решил, хорошая новость случилась и для Маруси. К новости годилось бы что-то в руки – цветы там или шампанское, но Коршунов был пуст. С другой же стороны, был он и полон. Его еще не оставили театральные видения-чувства – фаланга пальчика под щекой, отягощенное слезой веко Главного, пуговичка на ширинке Михаила Афанасьевича, капор, распадающийся на пятна чернил… Поэтому наполненный Коршунов гангстерски наломал веток в парке, страстно смешивая желтый, красный и зеленый цвета и представляя, как всунет Маруся во всю эту палитру-охапку мордаху и скажет «ой!».
– Пошел вон! – тихо с порога сказала ему Маруся. И добавила уже криком:
– Ну, уйти, уйти ты способен? Или будешь теперь носить колоски, корешки, стерню? Ты способен на поступок? Чтоб – р-р-раз, и все?
И Маруся захлопнула дверь.
А желтая веточка попала в притвор…
А зеленая веточка зацепилась за ручку…
А красная… Красная осталась в руке.
И надо было что-то делать… Куда-то идти.
Ничего не подходило. Ночевать в редакции он уже разучился. Проситься к тетке? Но она справедливо скажет: «Зачем же я пустила тебя на дачу?» Для вокзальной лавки он, увы, уже стар. На твердом у него определенно заболит грыжа имени еврея Шморля. Он шел по улице с красной веточкой, дурак дураком…
Сказать – не поверят. Но в огромном городе, столице мира и прогресса и даже нового мышления, человеку некуда было деться, чтоб без претензий и больших замахов на самом узеньком пространстве переспать ночь и в случае везения, может быть, даже поужинать.
Коршунов, наблюдая за собой со стороны, ну как если бы он мимо самого себя проезжал в троллейбусе, подумал: вот идет человек с веточкой, может себе позволить просто идти. Не спешит, гад, ботиночки переставляет едва-едва, а я, несчастный совок, прусь в набитом троллейбусе, и на меня дышит вирусный грипп, а неужели бы я не хотел так, как тот, с веточкой? Ножонками едва-едва?
Потеря друзей у Коршунова произошла не сразу, а неким трехступенчатым обвалом. Когда зазнобило после оттепели и люди стали нервно ориентироваться, то ли консервировать остатки тепла, то ли быстро шить новые шмотки и уже в них угреться по-настоящему. Коршунов остался с той – меньшей – частью, что решила: не для того, мол, мы размораживались, чтоб опять и снова. Шмотки им были отторгнуты. Это была первая потеря друзей. Второй обвал дружбы произошел, когда Коршунов даже во имя оставшегося братства не ввязался в какую-то свару с новым старым строем. Он тогда лихо писал пьески в стиле Розова – Арбузова, страшно высоко ценил их и, что называется, ждал своего часа. Журналистика отпустила его спокойно, на что он ни капельки не обиделся. Ведь и он спокойно бросил писать все эти «подвалы», «кирпичи», «блоки». Как и не писал. Кругом такие шли страсти-мордасти: Коля, ты должен, Коля, твое перо… А он им тихо: «Да не мое, ребята, не мое…» Третий обвал случился совсем недавно, когда он ушел на «вольные хлеба». Ну, знаешь! Все тогда кинулись жалеть Марусю. Все тыкали его в те старые розово-арбузовские пьесы, ну, где они? Где? Так дерьмо же, братцы, снова тихо отвечал он. Хорош бы я был, существуй они в природе. Сгорел бы со стыда!
Коршунов писал уже иначе. В его пьесах теперь действовали Боги и Деревья, людей не было вообще. В пьесах говорили Комоды, а Тумбочки выходили замуж за Электрические Столбы. Он трясся над сумасшедшими текстами, удивляясь самому этому определению – реализм. Какой к черту реализм? Что сие есть? Разве сам Чехов не поставил посреди сцены Шкаф, в который мордами бились его герои, не понимая смысла его существования, но хорошо понимая собственное ничтожество перед Шкафом? Да в каждой ст?оящей пьесе есть неживая природа, которая живее всех живых. Последнее время, когда он остался один с Марусей и она еще не сказала ему «пошел вон!», Коршунов из благодарной любви к ней вводил в свои предметные пьесы человеческий дух, он даже обряжал его в нечто, обволакивал то кисеей, то бархатом, давал ему голос, и этот мучительный писк человеческого духа доводил его почти до слез.