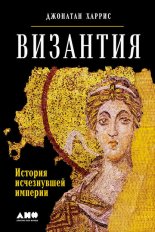Дельфин Игнатенко Николай

Пролог.
– Ты всё так же без ума от осени?
– Есть вещи, которые остаются с тобой на протяжении всей жизни.
– Значит, хорошо, что осень только начинается.
Август нахмурился. Под бежевым пиджаком виднелась белая пообтрепавшаяся рубашка с двумя расстегнутыми пуговицами и болтающимся распущенным коротким галстуком. Братья сидели в ночном парке и следили за движением кабинок на колесе обозрения, каждый за выбранной им. Наконец, Лука прервал молчание.
– Ты должен знать, что я не хочу держать на тебя обиды. Ты поступал в соответствии со своим сердцем, я не вправе осуждать тебя.
Август жутко откашлялся и выбросил тлеющую сигарету щелчком пальцев.
– Конечно, ты поступаешь великодушно. Я пропил свою жизнь, прокурил, прожёг, и теперь я приползаю на коленях к тебе, брошенному одинокой колонной подпирать наш общий храм, и выстраивать собственную жизнь.
Лука недовольно поморщился и перебил брата:
– Не поднимай прошлое. Оно улеглось там, под слоем воспоминаний, историй, пыли, надежд, всего того, что свойственно детям.
Лука почти не улыбался, не понимал блаженства Августа, которое тот более нигде не чувствовал, кроме сцены и окрестностей своей квартиры – он был мрачен и сер. Лука сидел здесь, на скамейке, в любимом парке Августа, около его дома, на земле его мира и воротил носом от всего подряд – ему было чуждо то, чем живёт младший брат. И вот так, бесполезно-сокрушенно они переглядывались двумя парами красных глаз, уже не ненавидевших друг друга, и безумным среди них двоих чувствовал себя именно Лука, потому что среди них двоих только он ощущал себя, как в аду. Сейчас, среди волнистого ветра, среди закрученных листочков со старых деревьев, окаймляющих неподалеку стоящий дом, Август вгляделся в бесконечный желтый океан в парке и темный исполин города, отбрасывающего свою тень на него, и что-то внутри заговорило:
– Так ты не откажешь мне в помощи? Протянешь руку в ответ?
Лука пожал плечами и просто ответил:
– Да. Держи.
Хлопнув Августа по плечу, он быстро поднялся и побрёл в сторону от ночи.
– Ты знаешь, где меня найти. Я там же, где и был. И да…
Лука словно бы выдавал сакральную тайну:
– Без ума от ноября в частности.
И если до этого момента было неизвестно, говорил он искренне или в очередной раз надел непроницаемую маску, как нередко бывало в общении с Августом, сейчас же многое для младшего брата стало на свои места. Август еще долго смотрел вслед его уходящей фигуре, а затем щёлкнул зажигалкой. До ноября было далеко.
Сентябрь.
Глава 1. Два пейзажа.
Пожалуй, никто бы никогда не сказал, что Лука был писателем. Стекла его квартиры зачастую открывали два замечательных, но дико контрастных пейзажа. Один – из окон, откуда с высоты двадцатого с лишним этажа было видно много разных домов, машин, людей и их жизней, грехов и слез, а второй – в окна, где часто можно было найти творческий беспорядок и распластавшегося в муках творческого кризиса Луку, и иногда случайный мойщик окон заставал среди этих обрывков надежд действительно необыкновенные строки, которые обратили бы любого в сентиментального влюблённого, но, увы, не обращали…
Лука сидел в мягком кресле издателя и смотрел вдаль через окна.
– Я не могу взять это, Лука. Прости. Слишком трагично.
Лука отреагировал мгновенно, резко привскочив с кресла и обрушившись на классический дубовый стол большого начальника:
– И это мне говорит человек, занимающий пост редактора. Мало того, что ты стал популистом, так еще и выражаешься безграмотно.
Лука приподнялся над аксессуаром успеха на четырех ножках и продолжил:
– «Слишком трагично». Её не бывает много – она либо есть, либо нет.
– Пустой ты писатель, если не понимаешь, что в твоём случае её можно хоть ложкой есть! Книги, выходившие под моим началом, охватывали всю страну. Моих авторов ставили во всех театрах. Но я учусь, Лука! Я даже следую твоим инструкциям, но, черт побери, я не могу издавать только трагедии, давай же напишем что-то еще! Будешь разноплановым мастером. Посмотри на портфолио за эти пять лет, в конце концов!
Марк назидательно стучал кулаком по рукописи и слегка сминал ее, а заметив, бережно расправил. Обернувшись в сторону окна, Лука шумно выдохнул и выдал оформленный несколько секунд назад пассаж:
– Ты хотел, чтобы я посмотрел не на историю публикаций, а на продажи, Марк? Тебе нужны продажи, а я их не обеспечу вот таким. Знаю, – он говорил негромко, но с надрывом, сопровождая звуки слов легким свистом, – но я, дружище, слеплен из такого теста, что не могу иначе. Ты знаешь, что бывает, когда настоящая музыка обрывается, Марк? Ты знаешь, ответь мне?
Марк выглядел слегка утомлённым.
– Поведай мне, невеже.
Лука перешел от одного окна к другому и, не смотря на издателя, продолжил:
– Она звучит в душе каждого из слушателей такой, какой он представлял ее дальше. Она звенит и переливается, она наполняется теми оттенками, которые в нее может привнести даже самый далекий от искусства человек, но наполняется оттого, что у него есть свой необъятный личный мир, который допишет ее лучше композитора.
Теперь Лука смотрел в глаза Марку:
– Я живу этим же, Марк. И ты, ты же не только мой друг, ты же еще и человек искусства. Ты должен знать. Я не универсальный солдат, чтобы писать по команде то, что покупают. Мне интересны только те сюжеты и те персонажи, которые периодически генерируются в этой голове. Они – моя плоть и кровь. И, если они и должны переживать трагедию, то потому, что так будет лучше для их образов и их места в этом мире. Комедийно они не сработают.
Марк помолчал, а затем провел вспотевшими руками по брюкам, растопырив пальцы:
– Давай вернемся к этому разговору через, скажем, недельку. А пока я совершенно точно забираю права на издание твоих последних сценариев в виде книг. Ведь они же будут?
Лука хмыкнул.
Через час писатель уже сидел в одном из небольших, но уютных баров на одной из тех небольших, но уютных улиц, которые он ценил из-за атмосферы, кухни и отсутствия людей. Лука крепко держал бокал левой рукой, рассеянно стуча пальцами правой по столешнице и слушая ритм. С каждой минутой его хватка все усиливалась, пока не эмоции не достигли точки кипения, и рука постепенно занемела. Лука, отвлекшись от мыслей, встряхнул ей, и осушил бокал. Закатанные по локоть рукава темно-синей рубашки открывали несколько небольших тату на левой руке, правая же при этом оставалась нетронутой, лишь только оттененной несколькими заметными браслетами и тканевыми повязками. Шляпа лежала рядом с бокалом, на стойке, и в ее сторону Лука посматривал пару-тройку раз за минуту, блуждая черным и темным взглядом, в котором просматривалась целая гамма эмоций, различимая лишь при линзах, добавляющих взору проницательность и сочувствие.
Лука провел рукой по шее и решительно встрепенулся, вдруг сжав кулаки. Взяв шляпу, он направился к выходу, как вдруг на входе его перехватила вбежавшая в бар девушка, и, бесцеремонно обняв и поцеловав в щеку, потащила обратно в глубину заведения к ближайшему свободному столику. С пристрастием понаблюдав за парой со стороны, можно было четко и уверенно охарактеризовать молодых людей как друзей – дистанция определенно чувствовалась с обеих сторон, расстояние в мелочах, но это был тот тип дистанции, которая не мешает, а приукрашивает многолетние отношения: она не дает им скатиться в бездну чувств, не нужных обоим, и, что более важно, не испытываемых обоими на самом деле.
– Я уже хотел было идти за тобой. Не думал, что Октавия может прийти вовремя.
С приходом подруги Лука заметно просветлел. Октавия завязала распустившиеся непослушные русые волосы и, улыбаясь, принялась пристально испытывать Луку взглядом ярчайших голубых глаз.
– Ты снова меня будешь вот именно так расспрашивать обо всем?
– По-другому ты мне можешь соврать.
Октавия заказала себе кофе с только ей известным сиропом, и откинувшись на стойку бара спиной, обернулась ко входу, запрокинув голову. Мужчины со всех концов заведения стали уже почти бесцеремонно разглядывать девушку, что Октавию совсем не смущало. Лука не был в настроении, а потому он задал свой типичный для такого своего состояния вопрос, прокручивая в голове лишь варианты её ответа, каждый из которых он уже слышал:
– Скажи-ка мне, почему на меня это не действует?
Лука вовсю улыбался, зная, что ждет этих ловеласов, принявших на грудь уже с утра, стоит им лишь подойти. Октавия неопределенно вздохнула, и отпила из бокала:
– Потому что ты слишком много знаешь, слишком много думаешь и слишком мало пьешь.
Лука отпил в ответ и покачал головой.
– Это не причина.
– Я знаю. Я так говорю, потому что причина мне неизвестна.
– То-то же.
Диалог входил в русло, в котором люди, знающие друг друга от года до трёх, начинали сомневаться в теплоте друг друга. Собеседникам это не грозило.
– Марк взял рукопись?
– Взял бы – я бы пригласил тебя не в «Secret».
Октавия вскинула брови и снова откинулась спиной на стойку бара.
– Ты бы пригласил меня именно сюда, потому что ты любишь именно такие места. Ты любишь «Secret».
Девушка многозначительно смотрела в глаза другу.
– Новый сценарий уже готов. Я понесу его в «Равенну». Если ты не забыла, то я еще несколько лет назад считался самым многообещающим писателем во всей стране.
– Ты понесёшь в «Равенну»? Или все же…
Собеседник проигнорировал вопрос вслух, отреагировав на него лишь скорбно поднятыми бровями.
Октавия улыбнулась губами, и достала из сумочки листок.
– Это письмо. Уведомление, вернее. Что некий Лука Николс не отвечает на письменные извещения на постоянной основе от Театра Христофора, а, тем временем, две его пьесы вошли в репертуар на эти месяцы. Да, и где твой телефон?
– К черту телефон. Он сейчас отключен, но это сейчас так важно? Христофор взял две пьесы? Какие? Скажи мне, что это?
Лука явно оживился и стал подался вперед, к подруге.
– Ты выглядишь как начинающий писатель, каждая работа которого способна прокормить его в ближайшие несколько недель.
Лука продолжал испытующе смотреть на девушку. Та взмахнула ресницам и продолжила:
– «Лягушатник» и «Бенц». Первый уже вообще ставят на днях. И ты никогда не отключал телефон. Письма переадресовали мне. И такое случается не впервые. Мой адрес пошел по рукам в театральной сфере из-за тебя.
Лука потёр переносицу, снова пропустив мимо ушей часть речи подруги, ныряя в свои собственные мысли еще глубже.
– Быстро они сориентировались. И отрепетировать успели. Да, я отключил интернет, а не телефон. Звонки доступны.
Октавия улыбнулась:
– По-твоему, сейчас кто-то звонит, а не пишет?
Она подпёрла голову кулаками, пока очаровательная улыбка понемногу стекала с лица:
– Или ты потерял счёт времени?
Писатель разглядывал стол в разочаровании:
– Первый сценарий – классическая комедия, вторая – корпоративная сатира. В первой скорее больше вымысла и иронии, чем реальных событий, а во второй – больше корпоративных терминов, чем сатиры.
– Не мне это рассказывай. Я знаю это не хуже тебя. Эти две пьесы были номинированы на лучшие не выбранные для репертуаров сценарии в прошлом году.
– Октавия, эти две пьесы, какими бы они ни были, не отражают меня как творческую личность. Я не говорю о гениальности, мне нет дела до признания. Я говорю об актерах, которые ее будут воплощать в жизнь. Для того, чтобы сыграть в «Памяти», нужно уметь не только кривляться, но и молчать на сцене, а для «Лягушатника» необходимо посмеяться над собой. Я не спорю, что для нас одинаково важно и то, и другое, но крен в сторону последнего меня настораживает.
Он водил рукой по подбородку.
– «Память» не возьмут, ей не заинтересуются. «Память» берет за душу, память рвет в тебе все жилы, и пускает их на ветер воздушными змеями, а такое будет смотреться либо пошло и нудно, либо изумительно. И, знаешь, почему не возьмут? Потому что я уже написал «Пустоты в недоверии», а издатель боится, что до той планки драмы я не дотяну. Я же знаю!
– А ты не думал, что это вопрос личного восприятия?
Лука замер, глядя прямо на Октавию, а в поведении чувствовалась уверенность, столь знакомая подруге. Девушка вздохнула и еще немного отпила из бокала.
– «Память» – история, которую ты переложил на листы, не понимая, что это уничтожает тебя.
– В этом мой долг как писателя, как драматурга.
– В этом твоя ошибка как творческой личности. Ты не бездарный актер, сходи и сыграй свои переживания. Твой долг как писателя – рассказать читателю историю, близкую ему, а ты препарировал себя и замахиваешься на все возможные моральные награды.
– А может сразу и поставить?
– Твоя проблема в том, что никто, кроме тебя, этого не поймет, не проймется, не прочувствует и не умрет за персонажа, не почувствует…
– Давление в груди. Когда ты не можешь спать, крутишься, уставившись в бесконечность, и тебя не волнует, что вас с этой бездной разделяет потолок. Никто не расскажет о чувствах лучше меня, потому что…
– Потому что ты пишешь первоклассные пьесы?
Октавия говорила мягко, в голосе звучала грусть вперемешку с удовлетворением.
– Никто не знает этой истории так, как знаешь ты. Для всех это лишь одна из сложных пьес или романов, которые вызывают слёзы. И…
Девушка помедлила:
– И то не всегда, да. Такое сейчас время.
– Это ли не делает тираж?
– Ныне, увы, нет.
Лука помедлил, а затем, не отрывая взгляд от глаз подруги, отчетливо заговорил, сопровождая свои слова шальным скачущим огоньком блика среди черни глаз:
– Тогда и мира сейчас нет.
– Мир не останавливается и не уничтожается по твоему слову, Лука.
Октавия вновь испытующе ответила ему взглядом на взгляд:
– Так ты идешь на премьеру «Лягушатника»?
Глава 2. Львиный взгляд.
– Мне кажется, или в такие минуты у тебя по-настоящему львиный взгляд.
– Тебе кажется. Странные метафоры.
– Ты всю жизнь будешь поправлять.
– А ты всю жизнь пытаться нацепить мне гриву.
Октавия хихикнула, и поправила пышную прическу. Ее лиловое платье было очень изящно подобрано по фигуре, а вся она пестрела драгоценностями. Антракт между действиями был слишком скоротечен для серьезных разговоров. Лука стоял, опершись на колонну, и звенел кольцами по бокалу. В смокинге он чувствовал себя на удивление уверенно, сказывалась многолетняя привычка и адаптация к торжественным мероприятиям. Баловень судьбы, который написал свой первый рассказ в семнадцать, едва не скатился на самое дно всех литературных рейтингов и котировок из-за странностей, непонятных для публики. «Пустоты в недоверии» оказались не по-детски откровенными, обнажили правду об отношениях в семье, которую прочесть и применить к себе было не под силу каждому. Тем не менее, пробовал каждый пятый житель, о чем свидетельствовали продажи, а Лука из одной пресс-конференции в другую перемещался, слушая провокационный и пошлый вопрос, мог ли он сам оказаться в том или ином замшевом пальто семьи Инфер. Семнадцатилетний мальчик предстал вундеркиндом перед всей страной, и вот уже агенты и представители тянули свои запачканные в виски и чернилах руки к его новым и старым черновикам.
Тогда-то Лука всех и удивил. Он перенес «Пустоты в недоверии» на сцену, слегка неопытно и местами топорно, пускай и с оговоркой на возраст, перебил роман в сценарий, который, тем не менее, каким-то чудом оказался выигрышным и у критиков, и у аудитории. С тех пор, смокинг – неизменный атрибут гардероба едва ли не чрезмерно атлетичного для писателя молодого человека.
– «Лягушатник» уже сейчас кажется мне гениальным.
– Ты льстишь мне.
– Нисколько.
Октавия умела обманывать, крутить не только мгновениями, но и целыми жизнями, но с другом она была неизменно откровенна. И потому что слишком долгие узы их связывали, и потому что тот безошибочно и слегка играючи угадывал ее правду и ложь, пускай и никогда не говорил ей об этом. А ей не нужно было об этом говорить. Октавия и так об этом знала. Они устроились в мягкие красные кресла, и Октавия стала постепенно поглощаться действием на сцене, а Лука, в ранние годы находивший забавным рассказывать подруге о том, что ее ожидает впереди, теперь всецело отдавался игре актеров. Подперев рукой голову, писатель рассуждал в своих мыслях, верит ли он сам этим бесконечно талантливым людям, и как бы он хотел видеть их игру в идеале.
Удивительная пара друзей сосуществовала в таком режиме уже много лет. Их взаимоотношения строились на прочном фундаменте взаимной выручки и глубокого опыта, пережитого вместе. Не всегда понимая, не всегда уважая даже выборы друг друга, они всё же оставались друзьями, важными людьми в тонкой системе координат внутреннего устройства. Лука и Октавия были слишком разными людьми, чтобы понимать и принимать истоки поступков, но они всё-таки были полезными друг для друга хотя бы ради критики и необъяснимо тёплого отношения друг к другу. Разногласия в отношении к жизни и миру в целом не мешали им быть близкими и дарить важные эмоции через фразы и нахождение в обществе друг друга.
Проходя через перипетии отношений, Октавия всё же осуществила свою мечту стать дизайнером. Обучаясь на соответствующем факультете, девушка, как и все студенты, не была уверена, получится ли у неё сделать карьеру на этом поприще, однако у неё вышло, пускай и не сразу. Когда её кандидатуру (читай, эскизы в портфолио) отвергли сразу несколько компаний, она уже почти отчаялась, посылая резюме в последние, однако в одной из них паззл сложился окончательно. Талант и трудолюбие помогли ей подняться на самый верх корпорации, хоть на это и ушли годы, однако управленческим функциям она предпочла работу в креативном отделе, вернее, руководством над таким. С тех пор, как она любила говорить, «мечты исполняются каждый день, в виде зарплаты или в виде удовольствия от процесса». Так, не обделённая музыкальным даром девушка сделала карьеру в сфере своей мечты, одновременно получив доступ в высший свет, что для нее значило чуть больше, нежели все.
Молодой актёр на сцене слегка перепутал реплику, но знает об этом только он, и, пускай, смысл не потерян, но это ведь неточность. Сатира требует сил, сатира требует понимания и толики жестокости по отношению ко всем вокруг и желания исправить, переставить все с головы на ноги, хотя окружающие и думают, что стоят на этих самых ногах. Неточность простительна здесь и сейчас, парень горит за героя. Артист раз за разом на протяжении пьесы срывал внутренние аплодисменты в голове у Луки неоспоримым стремлением прожить своего персонажа.
Октавия с придыханием смотрела за действием, чем удивляла Луку. Подруга никогда не была сторонницей сатиры, ей было свойственно идеализировать общество и людей в отдельности, вернее, обращать внимание лишь на их положительные стороны, потому на проступки она реагировала необычайно остро, каждый раз удивляясь им. Писатель считал это не успевшей выветриться юношеской наивностью, неизменно поражаясь гневу Октавии на несовершенство человека.
– Это действительно правда? Что ты написал это за неделю?
– За восемь дней. В последний я выбирал название.
Октавия, не отрывая взгляд от сцены, удовлетворенно хмыкнула, а потом громко расхохоталась вместе со всем залом. Лука улыбнулся и вернулся к серьезному виду. «Официант» играет чересчур развязно. Актер со слишком пёстрой палитрой харизмы, а это не всегда комплимент. Нелегко был автором на постановке, а еще хуже – не иметь никакого отношения к творящемуся действию. «Лягушатник» был наименее любимым произведением Луки. Написал он его за 8 дней не от выливающегося на страницы неразбавленного таланта, а от желания выполнить поставленную самому себе задачу хотя бы попробовать себя в сатире. Так, заставив себя сесть за стол, он очутился там же и спустя неделю и один день с готовым сценарием, который в форме романа или повести занял бы куда больше времени и сил. Лука практически не редактировал классическую историю о человеческой жадности, потому как хотел оставить ее в сырой, первозданной форме. Так возник ресторан «Гарсо» и многочисленные персонажи, вращающиеся вокруг него, как дети на карусели, находясь на расстоянии вытянутой лапы, держащей их лодочку, от центра аттракциона.
– Ты знаешь немного больше нас всех, Лука.
Лука потер переносицу и кивнул не то Октавии, не то самому себе, переносясь на сцену.
– Или просто насмотрелся архетипов в фильмах.
Персонажи действительно было до боли шаблонные. Ушлый и хитрый управляющий ресторана, копящий деньги на то, чтобы выкупить его часть, воруя деньги у инфантильных собственников, вышел совершенно карикатурным, даром что театр Христофора без лишних вопросов взял пьесу в том неотесанном формате, который Лука и предоставил. Постоянный клиент, обедающий в «Гарсо» только потому, что у управляющего был на него компромат, а взамен на его неразглашение был попрошен непременный чек на несколько тысяч каждый день в три часа дня. Мокрое и красное лицо несчастного шантажируемого уже вызывало жалость, хотя проступок аудитория так и не узнает.
– Измена?
Октавия почему-то снова все сводила к этому. Вот и сейчас, пристально вглядываясь в старательно тужащегося актера, она бросила отрывистую фразу, продолжая разбирать сцену на винтики. Лука сдержал желание поморщиться. Не то чтобы он был раздражен, однако почему бы и не посмотреть на персонажа не только со своей колокольни. Не всякий шантаж грозит вскрытием запретных встреч.
– Отмывание денег.
– Скучно же.
– Как и в жизни. И вообще, я не должен тебе этого говорить.
Девушка свое желание сморщиться не удерживала. Писатель сделал вид, что не заметил гримасы, теперь уже сам не желая отрывать взгляд от сцены, хотя смотреть там было не на что.
– Лучше бы ты придумала свою предысторию, чем слушала мою. Так оно и задумано.
– Неправда, это целиком твой сценарий, кто лучше тебя знает, что их привело к этому моменту?
На это отвечать Лука намеренно не стал и принялся вращать вокруг запястья больно врезавшиеся в кожу мраморные шарики браслета. Фешенебельная обстановка «Гарсо» совершенно точно обеднела в умелых руках реквизиторов театра Христофора: напыщенность и помпезность, сменявшие друг друга в голове у автора во время написания «Лягушатника», здесь олицетворялись золотыми занавесками и отбеленными, как зубы у только-только восходящей кинозвезды, скатертями на столах.
Местная интерпретация босса сомнительных организаций, Дравински, заглядывающего на трапезу сразу после того, как ресторан покидал шантажируемый клиент, только для того, чтобы взять с управляющего часть денег, которые только что оставил предыдущий посетитель, Луку не убеждала. Смешно это не выглядело, ограниченность веяло не от персонажа, а от самого актера, его небрежно качавшего по сцене, что аутентичности не добавляло – писатель раздражался с каждой минутой. Парадоксальность в ситуации даже не проглядывалась, деньги просто перемещались из одного кармана в другой, причем процесс этот отмечался невыразимым слабоумием на лицах некоторых лицедеев. Лука позволил себе подумать о чем-либо еще, пока Октавия не прервет его путешествие подальше от Христофора, «Гарсо», да даже ее самой.
Лука очень переживал, что критики подумают, будто бы «Лягушатник» написан для денег. На самом деле, это был чистый эксперимент, но не надо жанрами, как того усердно и глупо требовал Марк, а над театральной сферой. Любопытство перевесило стремление сохранить лицо и безупречную репутацию – так пьеса полетела по всем возможным пристанищам актеров. Наработанное портфолио – и от тебя возьмут даже описание трапезы тучного мужчины, задолжавшего денег управляющему ресторана для богатеев.
– Только не говори, что ты видел таких людей.
– Видел отдаленно похожих, а дальше стоило только выкрутить ручку, отвечающую за характеристики, на максимум.
Снова отстрелявшись дежурным ответом, Лука вдруг растревожился о том, что Октавии действительно нравится написанное. Вкус ее вроде бы никогда не подводил, но тут она могла быть предвзята…
– Ни за что не поверю, нет. Даже примерно похожих на таких чудаков существ не бывает.
Антракт.
Глава 3. На кусочки.
«…есть такие минуты, когда что-то не дает покоя, но ты можешь объяснить, что именно. Ты погружаешься в самого себя, но этого недостаточно, чтобы дать ответ. Ты можешь до самых основ разрыть свои мечты и желания, в корне вырвать свой грех вместе с мыслями, но так и не придешь к искомому. Потому что все, что ты ищешь – в твоей душе, а разрывая на кусочки голову, делу не поможешь».
Глубокой ночью казалось, что тут не бывает утра вообще. Тем не менее, с восходом Солнца и его постепенным установлением диктатуры над всем живым и неживым, ровно настолько же можно было бы усомниться в существовании ночи в этом необыкновенном городе. Осень пересчитывала свои листочки под окнами у Луки, когда тот, поставив одну ногу на стул, зажал карандаш в зубах и судорожно бегал воспаленными глазами по тетради, зажав под мышкой тетрадь нотную с чем-то еще более особенным, и пытался вывести прыгавшую песню из головы. Яркое светило играло с мощно опустившейся на паркет тенью писателя-композитора, в то время как тот находился в только что созданном им измерении и никак не мог нанести последние орнаменты на величественные сооружения только что сотканных им миров.
Захлопнув рукопись, Лука вышел на балкон, и стал методично разрывать на кусочки голову, не помогая делу. Он порой сам не верил своим словам, хотя этого никто не видел. Он создавал впечатление того самого счастливчика, который помимо дикой удачи, обладал колоссальным трудолюбием и целеустремленностью. Обаяния ему тоже было не занимать, но не позволял себе быть вешалкой для девушек, это было бы совсем уж низко как к ним, так и к нему самому. Потому ночевал он у себя, ночевал один, но со своими мыслями, которых было достаточно, чтобы слепить среднестатистического человека во плоти. Лука стоял на балконе, и его черный силуэт на рассвете придавал образу некоторую тревогу.
Лука, склонив голову, спрятал глаза от огней нового солнца, и отдался призракам, дрожащим в его разуме уже многие месяцы, а когда открыл их, то заполнившая их влага откуда-то из самых глубин человеческого нутра вышла на свет Божий. Резко вскинув голову, он мигом направил глаза прямо навстречу солнцу, и четко промолвил:
– Как бы не заблудиться среди трех сосен одиночества.
Тяжелая поступь туфель привела его обратно в квартиру и к рабочему столу, где Лука снова очутился в его собственном лесу из мыслей и листов…
***
– Почему у вас в «Secret» всегда так много сахара? В любом другом кафе всегда дают два, ну три пакетика, а у вас все пять.
Официант был предельно вежлив, однако каким образом он не попал на экран после таких реплик – оставалось загадкой:
– Мы посчитали, что вашей жизни будет мало трех, и, уж тем более, двух.
– Вы не думайте, не жалуюсь, но использую я не больше двух.
– Не это ли корень ваших проблем?
Официант удалился, а Лука был развеселен его нескромным паясничеством. Приятный мягкий джаз на фоне создавал ощущение уютного маленького городка с маленьким уютным кафе, но с городком это было бы большой ошибкой. Размешав сироп в кофе, Лука увидел, как в заведение входит высокий молодой человек с светлыми волосами, которые только-только перешли в категорию «длинные», аккуратно уложенными за уши. Новому постояльцу сопутствовала легкая ослепительная улыбка парадоксально желтоватых зубов, а черные точь-в-точь, как у Луки, глаза были обращены не в сторону листов бумаги и благотворительности, а к яркому неоновому свету ночной жизни. Лука приподнялся и приобнял высокого человека, едва не скорчив гримасу от крепости объятий того.
– Встал в такую рань? Бегал?
В руках у Августа была еще тлеющая сигарета, а сам он больше походил на уличного бродягу, чем на утреннего бегуна по пустым улицам с мыслями наедине и музыкой в наушниках. Август, если и бегал, то бегал от проблем, игнорируя светофоры.
– В этом я похож с тобой. Я бегаю только тогда, когда прижмут.
– Как успехи, братик?
– Уж поверь, в «Лягушатнике» я играть не буду.
– Тебя туда и не зовут.
Братья замолчали. Темный Лука и светлый Август являлись полными антиподами в манере одеваться, отдыхать и работать, в манере речи и изъяснения, в сферах творчества, но их роднил бездонный внутренний мир, бесконечно каре-черные глаза, и умение делать то, что другим не под силу.
– Снова будешь петь в какой-то подворотне?
– Думаю, для тебя всё, кроме обители пафосных морд критиков – подворотня.
– Я не сомневаюсь, что ты подготовился. Для тебя это важный день.
Август кивнул и потушил сигарету.
– Этот важный день происходит каждый месяц, и каждый месяц ты мне это не говоришь. Лука угадал во фразе брата оттенок его собственной реплики, и заговорил тише:
– Ты знаешь мое отношение к твоему таланту, и к тому, что ты делаешь. И да, ты так же знаешь, почему я раньше не имел возможности тебе это говорить.
– Знаю, да.
– Доколе ты будешь перепевать чьи-то строчки в шансон-барах, а не начнешь исполнять свои песни. Твой прокуренный баритон может звучать выше, чем среди пары-тройки неверных мужей, притащивших своих или чужих жен на дюжину песен молодости.
Август не скривился, не поморщился, а принял колкость брата спокойно, и немедленно ответил ему без присущего сарказма:
– «Дельфин» предложил мне выступить. Правда, в том состоянии, в каком есть он и в каком есть я.
Эти слова он подчеркнул с некой гордостью, но в то же время и с напускным принятием факта как должное. Лука склонил голову набок, и, едва ли веря брату, вскинул брови. Талант Августа как актера и как вокалиста был заметен с детства. Младший брат пользовался этим, не отдавая должного благодарения и заботы – он давно курит, и лишь недавно стал беречь связки перед выступлением, но как только светловолосый парень в рубашке навыпуск подлетал, не иначе, легкой размашистой походкой уверенного в себе и слегка беспечного человека к микрофону – все люди прекращали звенеть бокалами. И тогда его томная хрипота заполняла зал, окутывая людей волшебством.
Несколько раз он участвовал в пробах на ту или иную роль, и несколько раз ему везло, и он с успехом отыгрывал персонажа, но после он неизменно бездарно губил свой успех, забывая напрочь развивать его, потому что тонул в той или иной новой заботе, и не приезжая на Пробы Всей Жизни. Август сам топил свой плот в и без того бушующем шторме. Лука хотел содействовать брату, но тот продолжал растрачивать магию на публику, которая и рассчитывать на такое не могла. Ту самую, привыкшую слушать фальшивые и льстивые голоса самих владельцев заведений, поющих за неимением артистов, ведь публику нужно было развлекать.
– «Дельфин»?
Август покачал головой.
– Именно он. Не сейчас, безусловно. И если у меня все получится, если моя программа станет действительно интересной мне самому, если я найду те самые ноты, которые станут ключиком к раскрытию моего мира слушателю и зрителю, то у меня, братик, впервые в жизни будет ощущение, что я не просто один из многих тысяч барных прокуренных певцов, пропавших с радаров после одного слабенького перепетого шлягера и не менее слабенького бокала мартини. Что я действительно что-то стою. «Дельфин» – не больше, не меньше.
Луке требовалось время для осмысления сказанного.
– Я буду у тебя в четверг вечером. Посмотрим репертуар.
Младший брат покачал головой с улыбкой на лице и тихо пробурчал:
– Неужели придешь?
Лука провел рукой по волосам и отвел взгляд резко погрустневший взгляд от окна прямо на брата.
– Ты мог бы сделать это место своим театром. Нашим театром. Мне почему-то кажется, что и мы, и этот амбар находимся в схожем положении. Что мы созданы друг для друга.
Музыкант хохотнул и в свою очередь провел по непослушным волосам, уложив их на уши.
– Я похож на героя 80-х с покосившейся неоновой вывеской?
Лука отвернулся от окна и процедил, раздражённый весельем брата:
– Вообще-то, да.
Обернувшись к подошедшему официанту с комедийным талантом, Август заказал себе легкий завтрак, и получив его через несколько минут ожидания и молчаливых размышлений о своих заботах, стал жевать, отчего его речь стала менее разборчивой.
– Так, стало быть, «Бенц» и «Лягушатник» ставит Христофор?
Лука удовлетворенно кивнул и бросил сердитый взгляд на остроумного, но критически медленного на его заказы официанта, от чего тот и не подумал съежиться. Август уловил этот момент, и потянувшись за салфеткой, открыл рот для реплики, но осекся, и уставившись на брата, вернул вечную улыбку, а затем, избавляясь от неловкости, отшутился:
– Осталось только романы твои новейшие впихнуть в массы.
«Мысли и дальнейшие поступки». Фрагмент интервью Луки Николса для AuthArt. Часть 1.
– Что для Вас есть критика?
– Каждый из нас критичен по отношению к своему творению. Возьмите самого закоренелого нарцисса, который верит в собственную исключительность – и тот будет искать изъяны в его произведении, чтобы довести его до совершенства, и убедиться в своей способности делать идеальные кусочки будущего достояния всех культур. Возьмите закомплексованного и затерянного в ста мирах своей личности гения – и тот будет крошить свои чудеса, лепить их заново, собирать из пепла и сжигать заново, приводя к той планке, куда никто никогда не поднимется, потому что для него это возможность воздвигнуть если не памятник себе, то хоть на шажок приблизиться к осознанию своей значимости. Для меня самая важная критика – это не отзывы. Не статьи. Не рецензии. А слова, слова, которые находят отклик в душах и во внутренних Раях и Адах моего зрителя и читателя. Для меня критика – их мысли и дальнейшие поступки. Для меня критика- это бессонные ночи актёра в процессе подготовки к роли, его надрывный смех и плач, его возможность прожить персонажа, на секунду разделить с ним этот маленький сиюминутный разноцветный осколок калейдоскопа его многогранной жизни до сего момента и после него. Это значит, что я создал по-настоящему удивительного персонажа. Мы застаем персонажей с определенным багажом за спиной и с будущим впереди, мы вклиниваемся здесь и сейчас, я и Актер. Так вот если у нас получается для начала создать персонажа, а затем воплотить его, вызывая эмоции в сердцах – значит, критика будет положительна.
– Вы часто говорите о новизне. Насколько важно для вас вдохновение?
– Во-первых, оно важно для всех. Каждый из нас делает что-то непохожее на созданное доселе, но не каждый понимает, что делает это в порыве того или иного. Вдохновение – основа для творчества, основа для существования личности внутри, в нашем собственном мире, и, соответственно, для ее выражения. Я живу в таком маленьком мире, где невозможно весь год штамповать невероятные обороты сюжета, не расплачиваясь за это ни йотой своей жизни. Каждый сценарий и роман выстрадан мной. Вы когда-нибудь видели писателя за работой? Видели писателя, когда он одержим идеей вырваться из замкнутого круга клише? Когда он ищет взглядом лучик надежды, пробивая глазами трещины в стенах психологической клиники? Вы видели, до чего могут довести две крайности творческой личности? Ты остаешься в полном бессилии и рассыпаешься на маленькие паззлы, разбрасываемых по всему твоей вселенной из своих мыслей, когда ты или опустошен в отсутствии идей, художническом тупике, или же растерян от прикосновения к таким прекрасным мыслям, что перенести их на бумагу у тебя попросту не хватает слов, и не скажешь, что будет страшнее для писателя. Это полярные ощущения, но каждое из них является справедливой ценой за то, что ты потом выдашь на бумагу. Вдохновение лишь помогает тебе победить вот такие черные пятна на линии историй каждого из творческих людей –будь то художник, актер, писатель, музыкант. И я безгранично верю в него, потому что это то самое, что заставляет меня оставаться верным моему делу. И для каждого оно имеет своё имя, не слушайте тех, кто скажет, что вдохновение не имеет имени. И со временем это не становится частью тебя, это все так же некая приходящая мощь, которую ты жадно вдыхаешь, чтобы сотворить нечто, выдающееся за рамки уже ставшей душной коробки твоей фантазии, раздвигающее ее стены и рисующее, не жалея красок, новые сады, дома и целые жизни. (Пьет чай).
Глава 4. Вы правда думаете, вам это под силу?
Очень трепетно листая листочки, Лука перечитывал написанное. Так случалось, что посреди ночи он приходил не к ноутбуку, а к большой стопке чистой печатной бумаги, брал ручку, и исчезал от всего мира. Всегда забываясь на несколько часов, он потом не всегда мог вспомнить, что здесь и сейчас написал, и это ощущение порой окружало его обволакивающим приступом паники. Невероятный симбиоз бессонницы и дикого сердечного рвения, спаянный под очередным танцем луны и звезд был для него своего рода отдушиной. Легко исчезать от самого себя в роли. Легко исчезнуть от самого себя в игре. А исчезнуть от себя в собственной книге без последствий почти невозможно, потому что в книгу писатель вкладывает то, что было спрятано в нем самом, в каком-то смысле это – зеркало. Чередуя маски персонажей, играя характерами тех или иных людей, отстроив за несколько дней целые жизни, ты понимаешь, насколько мелочны и велики разом жизнь и поступки. Это вопрос должен задавать себе именно зритель, но писатель, выводя его в подтексте невидимыми чернилами, теми самыми, что проявляются под огнем свечи, все равно оказывается с ним лицом к лицу.
Квартира была освещена лишь настольной лампой. Лука, с трудом оторвав взгляд от новой рукописи, оставил ее под тусклым иссиня – желтым цветом лампы, и отправился к большой книжной полке. Долго перебирая в руках романы и пьесы, Лука достал нестарую еще совсем папку. «Память» так никуда и не взяли. Брали практически все, и это становилось залогом благосостояния молодого писателя, но не его внутренней гармонии. Лука болел за «Память». Он провел рукой по бережно выведенной надписи на папке и попытался избавить себя от традиционных рассуждений. «Память», может быть, была гениальной, а может быть, оставалась лишь одной из многих. Но пускай будет лучше одно из двух, чем в ней будут элементы того и того. Это признак посредственности, вот таких акварелей, сочетающих в себе яркие и тусклые цвета одновременно – море, и ни одна из них не стала прорывом, но и провалом назвать это сложно. Лишь одна из многих, а это не про Луку, и, пускай, свои ошибки он признавать не любил, но умел, а тут придраться было не к чему – «Память» должна была стать чем-то большим, чем просто произведение, ее предназначение было больше, тоньше, глубже – заставить каждого, даже самого закоренелого циника смахивать ненароком влагу с глаз.
История феноменальной любви растворилась в мире, где любовь возникает во многом в угоду двум, начинаясь с чуда. Гениальности не понимают ровно настолько же, насколько и бездарности, но вот чтобы отличить одно от другого нужно знать не столько произведение, сколько автора. Лука обладал не только завидной фигурой, сложившейся за годы всякого разного спорта: от плавания до бокса, но и невероятной харизмой, которая была на удивление необыкновенной и не стала типично выставленным достоянием на прилавок для всеобщего обозрения. Высокий молодой человек никогда не убирал глаз, не любил дикого пошлого флирта, не бросал высокопарных дешевых фраз в каком-нибудь в кабаре на 19 улице при свете энергосберегающей лампы, но в нем было нечто большое, тихое и бездонное, напоминающее о себе, когда он был в задумчивости, либо же когда ненароком усмехался, все так же смотря прямо в глаза собеседнику. Луке не была свойственна напористость, непринужденность и внутренняя легкомысленная мощь Августа, который был ярким образцом бабника, но в нем сидело то же самое непоколебимое обаяние, но оно было уточенным, оттененное вкусом. Лука был сдержан, но не инфантилен, не играл ролей, не напускал на себя миллионы оттенков в виде морщин, поднятых бровей и мелких полуулыбок. И куда больше с виду походил на меланхоличного путешественника, чем на автора сатирических сценариев. Целеустремленность и глубина нередко принимались за надменность, инициатива и желание помочь – за попытки прыгнуть выше головы и чудачество, в университете его держали за выскочку.
Лука мерил шагами паркет, и, отложив папку с рукописью «Памяти» к своему печатному экземпляру, сделанному на заказ, а не для тиража, вновь обратился к рукописи на письменном столе. Новая работа пока не особенно складывалась, но писателя это не тревожило. Это будет что-то, что в очередной раз станет прорывом и для театра, и для литературы. Звучало нескромно, но Луке нравилось об этом думать.