Амур-батюшка Задорнов Николай
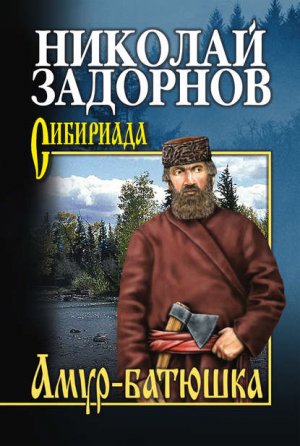
– Тебе соболь лови не могу, – язвительно и громко заявил китаец.
– То есть как это ты сказал?
– Люди говори: тебе сам лови не умей, тебе шибко хитрый – чужой ловушка трогал.
– Ты что это? – раскрыл Барабанов рот. – Одурел? – криво усмехнулся он через силу, хотя сердце его замерло от страха, что поступок его может стать известен по всей округе. «Господи, прости! Что я наделал!» – с ужасом подумал он, и мысли его заметались в поисках исхода.
– Ловушку трогаешь – хозяин догоняет и тебя убьет, – наставительно говорил торгаш.
– Не пойму я тебя, – чесал затылок Федор, стараясь улыбнуться, но вместо улыбки получилась виноватая гримаса.
Лавочник заметил, что вору стало не по себе.
«Нет, не признаюсь! Я не я, и лошадь не моя, – ободрял себя Федор. – Мало ли кто в тайге мог взять? Какое мое дело, ничего не знаю».
– Сам знаешь, чего моя говори, маленький, что ли? Русский язык не понимаешь, что ли? – раскричался китаец и вдруг, понизив голос, довольно добродушно заявил: – Ну, ладно, не бойся, моя никому не говори. Тебе так больше делай не надо. Моя знакомых не обижает, – подмигнул он Федору. – Моя все кругом знает – ничего никому не говорит. Тут Бельго никто не знает, моя никому не сказала, тебя не хочу обижай. Давай лису, уступай дешевле, – неожиданно заключил он.
«Силен тут торгаш!» – подумал Федор, выбравшись из его лавки, как из печки после парки. Удрученный неудачной меной и упреками лавочника, он в раздумье направился к Удоге.
Старик встретил его с распростертыми объятиями. Накануне Удога вышел из тайги после длительной зимней охоты, чтобы запастись пищей и снова идти на промысел. У него было прекрасное настроение, старик наслаждался семейным счастьем; сидя на теплых канах в чистом халате на чистом камышовом коврике, сплетенном искусными руками молодой жены, он держал у себя на коленях маленького Охэ и с нежностью обнюхивал его стриженую головку. На столике появилась вареная сохатина, тала из свежей рыбы, чумизная каша с кетовой икрой и картонная сулея с китайской водкой.
Айога, довольная, румяная, с блестящими глазами, хлопотала у очага.
Федор подвыпил, и когда его беспокойство и сомнения несколько пережгло крепким ханшином, он стал жаловаться Удоге на свои охотничьи неудачи.
– Соболь никак мне, братка, не дается. Лису беру, белку дробинкой в глаз попадаю, – привирал он, – кабана этого возьму, только бы встретить, рысь понимаю, всякого зверя, а вот соболя – никак. За всю зиму единую шкурку добыл, только зря распалился.
– Его просто как возьмешь не умеючи-то? – с достоинством, чистым языком говорил Удога. – Соболя ловить – учиться надо, не легче, чем русской грамоте. Меня отец долго учил стрелку ставить. Я был маленький, пошли однажды на охоту, снежок уж был. Зверь опустит стрелку, но в сторону…
– Вот, вот, – подхватил Барабанов, – то-то и есть…
– Надо прямо-прямо на грудь стрелку наводить, – наставляя на сердце палец, показывал гольд.
– А-а, ишь ты! – приговаривал Федор. – Вот оно что!
– Ладили мы, ладили концы на мерку. «Нет, – отец говорит, – плохо». Палкой хотел меня лупить. «Никуда не годишься, говорит, никогда охотником не станешь». Вечером сидим мы в балагане, отец курит, грозится меня убить. Беда, – потряс гольд седой головой точно так, как это делал Иван, – горячий у нас отец был. Ну вот… Прошло три дня, на мою стрелку соболь попал. «Ну, слава богу, – отец говорит, – это я тебя учил, ты умный какой парень. Сразу видно, что мой сын!»
– Григорий Иваныч, ты бы взял меня с собой на промысел, учил бы ловить соболей, – стал просить Федор. – По правде ведь признаться, мы затем и приехали. В ученье к тебе с сыном, как к дьячку за грамотой.
К Удоге стали собираться его сородичи. На этот раз все охотники были дома. После долгих скитаний по тайге они возвратились, чтобы хорошенько отдохнуть, «погулять», побыть с семьями и, нагрузившись юколой, снова двинуться на отдохнувших собаках в тайгу.
Кроме Григория и его брата Савоськи, бывшего в этот день где-то в отлучке, Федор не знал еще никого из бельговских охотников и всех их видел впервые. За зиму он отвык от народа и теперь с любопытством наблюдал гольдов. Их набралось непривычно много, и старых и молодых, закаленных морозами и ветрами, темнолицых, худых, в одеждах, пахнущих звериным салом, чесноком, псиной и табаком, с китайскими трубками в крепких зубах. Они принесли с собой в тихую фанзу дух тайги и охоты; чувствовалось, что в этих сухопарых, подвижных зверобоях была вся напряженная сила племени, его вечная, неумирающая ловкость, сноровка. Перед Федором был живой клад охотничьих примет, уловок, навыков. Для них не существовало тайн тайги. Мужику надо было разузнать про многое такое, что озадачивало его на промысле и на что он не мог найти до сих пор ответа. Он силился вспомнить, о чем надо расспросить их, но, как на беду, мысли его разбегались от жадности, как завидущие глаза при виде богатства, и он не мог ничего расспросить толком.
Пришел Ногдима, приземистый, пожилой, но еще моложавый на вид старик с плоским темным лицом. Его черные как смоль прямые волосы и черные горящие глаза придававали ему вид дикий и жестокий. Глядя на него, живо представлялось, как он, сверкая глазами, гоняет по снегам зверя и, настигнув, бьет его копьем в горло.
Ногдиме перевалило за шестьдесят, но он был еще крепок, и на черном лице его морщин не было видно, лишь еле заметные светлые бороздки легли поперек лба, да слабые морщинки лучились у глаз.
Появился седоголовый, больной глазами Хогота, о котором Федор уже не раз слышал как об отце похитителя невесты и хозяине медведя, предназначенного в угощение мылкинским. Сын его Гапчи, рослый и здоровенный парень в маньчжурской шапке с бархатным околышем и в красном ватном халате, в который он вырядился по случаю приезда русского гостя, торчал тут же. Еще недавно Гапчи был грозой мужей и похитителем супружеской верности гольдских красавиц. Но после того как он увез из Мылок юную жену богатого старика, он сам стал ревнив и уж более не нарушал счастья и покоя чужих семей.
Явился приятель Удоги – Кальдука, по прозванию Маленький. Скинув лисью шубейку, старичок остался в залоснившемся дабовом халате с серебряными пуговицами и в улах из рыбьей кожи. Его маленькая головка с жалкой пегой косичкой тряслась на слабой шее, круглое желтое личико Кальдуки с мелкими расплывчатыми чертами выражало легкомыслие и беззаботность, движения были мягки и округлы. Улыбаясь и кивая головой, он подал Федору маленькую руку в кольцах и присел против него за столик.
Кальдука был вечным нахлебником Удоги. Про него говорили, что он прожил жизнь чужим умом. В юности он был парень как парень, только не удался ростом. Старики женили его неудачно, купив ему по дешевке вдову. Она оказалась женщиной грубой, терзала Кальдуку ссорами и капризами, всю жизнь воевала с ним из-за нарядов. Первый ее ребенок был мальчик, но впоследствии она рожала только девочек. Сын Кальдуки погиб уже взрослым на рыбалке, и старик остался в большой семье единственным охотником. Жил он бедно и небережливо. Выдавая подросших девочек замуж, он ненадолго богател, но вещи и ценности, полученные в калым, живо переходили от него к торгашам.
При удаче Кальдука любил попьянствовать, вкусно поесть. Не думая о будущем, он ловил удобный случай, чтобы набрать у торгашей как можно больше товаров, и вечно был в неоплатном долгу. Выручать же его приходилось Удоге или другим сородичам, которые по доброте не могли отказывать ему в помощи, хотя и попрекали потом Маленького в расточительности, в лени, в неумении жить. Впрочем, на Кальдуку эти попреки давно не действовали. За долгую жизнь он привык и к помощи родичей и к их попрекам и надеялся на них больше, чем на себя.
Федор вспомнил, как Иван Карпыч однажды, рассказывая ему про причины бедности гольдов, помянул про Маленького. По его словам выходило, что туземцы могли бы жить и лучше и богаче, не будь среди них таких мотов и бездельников, как Кальдука, привыкших жить попрошайничеством, разоряя зажиточных сородичей.
Охотник Кальдука был приметливый, но не крепкий. В добыче он отставал от других, да у него и не было никогда надежды прокормить промыслом себя и всю свою семью. Обыкновенно его забирали с собой в тайгу хорошие охотники, чтобы он вел их хозяйство в балагане и готовил пищу. За это давали ему часть добычи. Зато летом Кальдука блаженствовал. Женщины работали за него на рыбалке от шуги до шуги.
Приплелись древние старики, знакомцы Федора: горбатый Бата и слепой Бали.
Вскоре вернулся Савоська, ездивший на собаках на другой берег ловить рыбу в прорубях. Еще задолго до того, как он переступил порог, слышна была его русская брань и удары палкой по собакам. Айога побежала распрягать воющих псов, и вскоре в облаках пара появился Савоська, небольшого роста, сухой и сутулый, в заиндевелой, словно заросшей белым мхом, одежде.
Он быстро скинул с себя заиндевелые кожаные обутки и живо отсыревшую в тепле куртку и, вскочив на кан, начал кашлять долго и хрипло. Кашель, вылетая со свистом из простуженных легких, сотрясал все его щуплое, жесткое тело. Наконец Савоська откашлялся, коротко кивнул головой Федору и, подсев к коротконогому столику, стал пить маленькими глотками водку из чашечки и жаловаться на боли в груди. Застывшее тело старика бил озноб, его маленькие жилистые руки дрожали.
Удога заговорил с братом по-своему, часто упоминая слово «лоча»[38]. Остальные гольды пыхтели трубками и лишь изредка прерывали беседу братьев короткими замечаниями. Федор печально слушал гольдов и уж собирался было повторить свою просьбу, когда Удога вдруг обернулся к нему и сказал:
– Вот братка завтра сведет тебя в тайгу, все покажет, он все знает.
Переходя с гольдского на ломаный русский язык, туземцы заспорили между собой, куда и как лучше повести Федора на охоту.
Каждый называл какое-нибудь место: ключ, сопку или падь. Так проспорили они долго, а Федор только удивился, как добродушны и покладисты эти свирепые на вид люди. Спорили они горячо, и каждый, по-видимому, от души хотел удружить ему. И удивительно было Федору, что в их добром отношении к себе он не замечал никакой корысти.
Между тем Санка, наевшись чумизы, откинулся к стене и, устало полузакрыв глаза, с любопытством следил за Савоськой. Разморясь в жаре и непривычно насытившись, сынишка Барабанова давно бы уснул, если бы не этот живой и шутливый старик, иногда смешно коверкавший русские слова. Однако Санка был недоволен, что именно Савоська – больной, иззябший и уставший старик – поведет их в тайгу. Он совсем не казался ему хорошим охотником.
Когда же Савоська подвыпил и стал ругаться по-русски и хохотать надтреснутым смешком, переходившим в кашель, Санке показалось, что смеется он нарочно, только чтобы позабавить народ, и ему стало жалко старика.
«Какой чудной этот Савоська!» – подумал Санка, засыпая. Шум голосов стал отплывать. Санка пошел куда-то по лесной тропинке за Савоськой, потом плавно и мягко провалился куда-то в пропасть и вскоре забрался так далеко, что возврата оттуда не было.
Наутро Савоська разбудил Барабанова затемно. Собирая свой охотничий припас, он проворно бегал из фанзы в амбар, переодевался в белую охотничью одежду из лосиных шкур, лазил под крышу, вскакивал на кан и все чаще тяжело кашлял.
Охотники собрались быстро и молча, надели котомки, ружья, вынесли на снег лыжи. Савоська кликнул свою лохматую подслеповатую собаку, и все трое тронулись по бельговскому распадку к седловине.
Собака сильно прихрамывала и время от времени прыгала на трех лапах, держа левую переднюю на весу.
– Что это с ней? – спросил у гольда Санка.
– Медведь ей лапу ломал. Потом шибко мороз был, она мало-мало больной лапа отморозила. Такой другой собаки нигде нету, она все понимает, как человек, только говорить не может.
За день Барабановы пробежали за Савоськой верст двадцать. Гольд привел их к зарослям стелющегося кедра у вершины каменистого хребта. Через ущелье видно было, как далеко-далеко за складками сопок белой равниной расстилался Амур.
– Тут соболь живет в норе. У него своя дорога есть, он только по этой дороге всегда ходит. Белку, мышь сам убьет, сам таскает и сам кушает. Вот его дорога, смотри, – показывал старик на соболиные следы. – Шибко далеко этот соболь не ходит, по своей сопке ходит. На большой сопке три пары живет, на маленькой – одна пара бывает.
Старик закрепил на расщепленном деревце лук с прикладом так, что он туго натягивал тетиву. К прикладу он прикрепил вязку из конских волос. Клубок таких вязок вместе со свитками волос и с оленьими жилами гольд хранил в особом мешочке. К тропке соболя спускались сверху несколько волосков. Концы их на уровне соболиной грудки перехвачены были малым волоском, который чуть заметно ложился поперек тропки.
– Соболь бежит, – говорит Савоська, – Этот волосок тронет, стрелка его убьет. – Гольд тронул волосок палкой, тетива сдвинулась, стрелка с силой воткнулась в сугроб, а лук закачался на ветке.
Самострелы Федор с грехом пополам сам умел делать, но хитрость была в точном прицеле стрелы на грудь зверька и в поперечном волоске, который следовало наводить так, чтобы он был незаметен соболю. Федору казалось, что он уже постиг тайну устройства самострела, но грубые руки его никак не могли точно навести поперечный волосок.
– Ничего не понимаешь! – сердился Савоська. – Зря с тобой хожу. Ты все равно какой был, такой и есть!
– Дай-ка, тятя, – вызвался насторожить самострел Санка.
Ловким ударом топора он расщепил елку, зажал приклад, навел стрелку на тропку, наладил волосок и обратил шустрые глаза к Савоське, как бы испрашивая у него одобрения.
– Соболь если попадется, тогда узнаем, молодец ты, нет ли, – произнес гольд и, оставив лук, побежал дальше короткими шажками, переваливаясь с лыжи на лыжу.
Лучки он делал на ходу. Видя след какого-нибудь зверя, он обегал растущие поблизости ели, разыскивал на них природные изгибы, обращенные к северу, быстро вырубал из них луковины и натягивал их, перевивая концы оленьими жилами. Следуя за ним повсюду, Санка стал отличать деревья, годные для поделки лучков.
Вечером под ветвями огромного старого кедра охотники разгребли снег и развели костер.
В тайге было тихо. Огонь освещал красноватую кору кедра, несколько лип на увале и лыжи, стоймя воткнутые в сугроб.
Савоська сказал, что не признает никаких балаганов, так что Федору и Санке предстояло дремать всю ночь, привалясь к кедрине и поворачиваясь к костру то одним боком, то другим.
Гольд сидел на корточках близко к пламени и жадно грыз сухую юколу, разрывая ее пальцами и зубами. Отогревшись, он снова удушливо закашлял, дрожа всем телом. У ног его лежала хромая Токо и облизывала свою черную уродливую лапу. Время от времени Савоська давал ей кожу от юколы. Собака жадно хватала ее и мгновенно проглатывала. Изредка она оборачивалась к Санке, и тот, заигрывая с нею, совал ей в морду тугую сохатиную рукавичку. Токо урчала и скалила на парнишку свои крупные волчьи клыки, а тот улыбался умильно и поглядывал на отца, не то опасаясь, что Федор рассердится, не то приглашая его порадоваться.
– Бродяга-медведь ее лапу совсем испортил, – сетовал Савоська. – Когда самый мороз был, его кто-то напугал. Медведь берлогу бросил, пошел кругом. А я его встретил и погнал. Зверь шибко злой был, как хунхуз! Медведь тоже бывает хунхуз!
Отбиваясь от собак, зверь хватил лапу Токо зубами. Собаке грозила смерть, если бы Савоська в тот же миг не вонзил в сердце медведя пику,
– Тебе тоже хорошую собаку надо, – назидательно говорил гольд.
– Вот то-то и оно! Да где ее взять?
– Учи, сам учи, собака все может понимать. Она – как человек. Наши старики говорят, что собака раньше давно-давно человеком была, только теперь у нее шкура другая. Медведь тоже был человеком. Ночью ты спишь, а он ходит. Тигр, говорят, тоже был человеком. Такие разные сказки есть, – таинственно продолжал он. – Кто на охоту ходит, должен знать. Друг другу рассказывать. – Старик засмеялся и повесил голову. – Буду тихо говори, тут в тайге хозяин скоро чертей гоняет… – Санку мороз продрал по коже. – Тут не шибко хорошее место. Старики говорят – тут дурное место, тут амба исиндагуха бывает. Знаешь, что такое амба исиндагуха? Это обход чертей. Черти караул несут, как солдаты. Надо всю ночь сказки говорить, тогда ничего.
Гольд достал из-за пазухи лубяную коробку с табачными листьями, набил дрожащими руками трубку и закурил.
«С этими соболями не без нечистого, чуяла моя душа! – думал Барабанов. – Ванька Бердышов, будь он неладен, однако, гольдяцким божкам в тайге молится. То-то и не хочет с собой никого брать, стыдно ему».
– Савоська, – задушевно, как бы по-приятельски, заговорил он, стараясь придать своему голосу побольше ласковости, – вот ваши говорят, надо в тайге черту угощение ставить. А мне не надо бы этому Позе кланяться, лучше бы мне своему богу помолиться. Чужой-то мне ни к чему. Это ведь грех по-нашему. Ты сам крещеный, должен понимать.
– Тебе соболь надо – нет? – вдруг закричал Савоська, быстро вскакивая на ноги. Обутые в белые олочи[39], они были как тонкие кривые березки. – Зачем говоришь? В тайгу ты зашел, соболя тебе не надо?
«Шаманом, что ль, обернулся, пугает, сверлит глазищами-то… Индо, черт с ним… помолиться, как велит», – испугался Барабанов.
– Тебе Позя молись – завтра твой лучок будет соболь, – твердил гольд.
«Кабы правда, поймать бы соболя, черт его бей, – помолился бы, пустяки это конечно. Но, шут его знает, вдруг не помолишься и добычи не будет?» – раздумывал Федор.
– Ты верно ли знаешь, что соболь поймается? – подловато глянул он на гольда, как бы торгуясь с ним.
– Давай скорее, хлеб у тебя есть – хлеб кидай, все равно сухари можно. Говори: «Мне соболя давай!» Проси его как надо, сам думай, чтобы хороший охота была.
«Разве рискнуть? – подумал Федор. Но ему неловко было перед сыном отступать от закона. – Да и беда будет, если поп узнает на исповеди – епитимью наложит».
– Молись, тятька, – вдруг шепнул Санка, которому до страсти хотелось отличиться и найти зверька в своей ловушке.
– Ах ты бесенок! – отпрянул от него отец. – Тебе бы только соболя, с малых лет рад от всего отступиться.
Беседа прекратилась. Санка еще немного повертелся у огня и наконец задремал сидя. Голова его то и дело клонилась к пламени, он вздрагивал и просыпался, каждый раз испуганно тараща глаза на огонь. Вскоре Санка уснул крепко и, не в силах держаться, повалился на пихтовые ветви, уткнулся лицом в рукав и захрапел.
Раздумье брало Федора. И хотя он уверен был, что Санка правильно нацелил стрелку и зверек не минует засады, но все же казалось ему, что дело тут нечисто, недаром в такой тайне хранит время ухода на промысел Иван, недаром ему, Федору, до сих пор, несмотря на все старания, не попался ни один соболь. Опять же и россказням Савоськи веры не было. «Чего-то он тут хитрит, однако, не такой он чудак, как прикидывается… То говорил “тихо надо”, какой-то обход чертей, сказывал, будет, а потом сам разорался». Подумав так, Федор было осмелел и хотел пошутить над Савоськой, чтобы дать ему понять, что понимает, как он хочет обморочить его. Но вдруг Савоська задрожал, отложил трубку и, обернувши к Федору перекошенное от ужаса лицо, показал на поднявшиеся уши собаки. Токо насторожилась.
– Кто-то ходит! Позя сердится, зачем кричим…
– Свят, свят! – перекрестился Барабанов. – Аминь, аминь, рассыпься! – ограждался он крестным знаменем.
Гольд и мужик прислушались. Гольд вскоре успокоился, поднял трубку и снова закурил, все время искоса поглядывая на Федора.
Стояла такая тишина, что слышно было, как приливает к ушам кровь. В ее прибое можно было вообразить и отдаленное грохотанье телеги, и вой зверей, крики птиц, стук топора, и даже церковный колокол, казалось, звонил то отходную, то к обедне. Федор старался убедить себя, что все это лишь морок, но все же тревога не покидала его.
– Ох, беда, намаешься с этими соболями! – вдруг тяжко вздохнул он и стал развязывать мешок с хлебом и с сухарями. Он достал оттуда ломоть черствого хлеба и протянул его гольду.
– Ну-ка, брат Савоська, ты это дело лучше моего понимаешь, давай, помолись сам за меня. Чего дивишься? Кидай своему Позе, – подмигнул он с таким видом, словно хотел сказать: «Шут его бей, где наша не пропадала, была не была», и добавил: – Пущай нам с тобой поболе соболей гонит.
Глава девятнадцатая
Как ни велика тайга-матушка, но и в ней человек с человеком встречаются. На четвертый день охоты, под вечер, Иван Карпыч набрел на чужой балаган.
«Это, однако, Родион Шишкин промышляет. Ага! Он мне давно нужен». Для начала Бердышов решил подшутить над старым знакомцем.
– Здорово, Родион! – неслышно подкравшись и заглянув в балаган, гаркнул Бердышов.
Залаяла собака.
– Уф, спугал! – Шишкин обронил котелок с похлебкой. От пролитого горячего балаган внутри застлало паром. – Слышишь, Ванька, брось шаманить – сердце оборвется.
– А где тут шаманство? Ты, однако, задумался, вот и не слыхал.
Бердышов залез в шалаш и стал снимать с себя ружье и мешок.
– Ну, я-то задумался, а кобель-то мой тоже, что ль, задумался? – ворчал Шишкин, собирая с пихтовых ветвей куски горячего мяса и складывая их обратно в котелок.
– Чудак, я тебя скридал, подкрался, как к сохатому. Я сегодня лося этак достиг, даже видал, как он глазами моргает. Вот вплотную подходил, как к тебе. Зверь и то не слыхал, а ведь твою-то собаку я знаю, завсегда ее обману. Однако, ты ее голодом держишь, она тебе в рот смотрела, я и подкрался.
– Варево из-за тебя пролил…
– Ничего, – успокаивал его Иван. – Не серчай, сохатина есть, – кивнул он на окорок, подвешенный к суку березы, подле которой налажен был балаган. – Еще наваришь. Надо же маленько и пошутить, а то вовсе в тайге одичаешь, зачумишься с кручины.
Родион долил котелок и поставил на огонь. Это был широкоплечий мужик среднего роста, лет сорока. Грудь у него колесом, лицо обросло темной шелковистой окладистой бородой. Он был жителем ближайшего от Додьги сельца, основанного несколько лет тому назад тамбовскими выселками на устье горной реки Горюна. Родион быстрей всех тамбовцев освоился на новоселье и, сдружившись с гольдами, вскоре стал в своей деревне лучшим охотником.
– Ты как, Родион, по тайге один ходить не боишься? – спросил Бердышов, пуская табачный дым к очагу.
– А кого мне бояться? – отвечал Шишкин, почесывая толстый угреватый нос. – Если мишка встретится, так он меня сам боится.
– Нет, паря, блудне[40] не попадай.
– Я никогда товарищей не беру. Наши, знаешь, какие охотники!.. Пристанут: «Пойдем да пойдем вместе!» А я им: «Не пойду совсем». А сам чуть свет уйду в тайгу. А ты сохатого где оставил?
– Нигде не оставил. Удул он от меня.
– Кхы-кхы-кхы-кхы, – сотрясаясь от сдавленного смеха, расплылся Родион во всю бородатую рожу. Его большие уши задвигались. – Кхлы-кхлы-кхлы-кхлы, – не разжимая крупных желтых зубов, издавал он сдавленные, хриплые звуки.
– Подхожу я к нему, лежит он на боку, глазами моргает. Шерсть-то на хребте прямая, стоит, а я думал, бок. Как выстрелил, а он ка-ак вскочит…
– Кхл-кхл-кхл, – смеялся Родион.
– Я между двух лип сжался. Не знаю, как остался жив. Маленько он меня рогами не саданул. Истинная правда!
На большом огне ужин сварился быстро. Охотники уселись возле котелка, хлебая варево деревянными ложками.
– Ну, как твои пермские новоселы, живы-здоровы? – спросил Родион.
– Как всегда. Покуда баба да старик оцинговали.
– Ну, это еще полбеды. Наши-то, вятские, которых за протоку нынче населили, почитай что все цингуют. И что эта цинга на них наваливается, не пойму. Наши старухи им бруснику и клюкву таскают. Им теперь хорошо: есть к кому за помощью обратиться. А каково нам было? Как пришли да оцинговали, а ни помощи, ни совета спросить не у кого. К гольду, бывало, придешь, так он и денег не берет, не понимает их, а дай ему тряпочек. А хлеб пожует, пожует, да – тьфу! – выплюнет его.
– Наши-то лес очищают, пашни станут на релке пахать и на острове. На них глядя, я тоже запашу.
– Без коня-то? – ухмыльнулся Родион.
Иван ничего ему не ответил и только пошевелил лохматыми бровями, словно собирался напугать Родиона, но потом раздумал.
– А зверей-то промышляют они? – спросил Шишкин.
– Помаленьку! Не знаю, скоро ли привыкнут. Они сказывают, что раньше этим занимались у себя на старых местах.
– Конечно, сперва-то трудно. Вон наши вятские! Нашли берлогу в горе. У всех кремневки, да была еще пешня. Они ее накалят – да в берлогу. Пока несут, она остынет. Медведь убежал – ни одна кремневка не выпалила.
– А ты уж обжился на Амуре, не вспоминаешь свою Расею больше?
– А чего мне ее вспоминать? Как мы с отцом помещику да соседям землю обрабатывали да из кабалы никогда не выходили? Да веники помещику ломали, он нам по десять копеек платил. Нищему-то чего вспоминать? Я тут как родился. Тут место лучше, чем там.
После ужина Шишкин стал выпытывать у Ивана, каким способом он неслышно подкрадывается к сохатому на близкое расстояние. Все тамбовские охотники считали Ивана человеком, знающим тайны тайги.
– Это надо уметь, – уклончиво отвечал ему Иван. – Ты попробуй сам, своим умом дойди.
– Откроешь, как скрадываться, я тебя, Иван Карпыч, уважу. Ну, сказывай, как скридаешь?
– А тебе какое дело? – полушутя ответил Бердышов.
Впрочем, если бы Иван Карпыч и захотел, он, пожалуй, вряд ли смог бы толком рассказать, как он подкрадывается к сохатому. Тут во всем: и в умении определить, где и как лежит зверь, и в умении подобраться к нему тихо и быстро из-под ветра, и в каждом движении была у него выработана звериная же сноровка, которую он мог выразить лишь приблизительно.
– Ну, ты чего рассерчал? Словно третьяк, на меня глядишь! Истинно третьяк и третьяк, лоб позволяет и взгляд тоже.
– Сам-то ты третьяк, шаман, – недовольно ворчал Родион.
– Башка у тебя крепкая, как камень, – шутливо сказал вдруг Иван. – Я когда-то видал, как богатые монголы с тоски башками стукаются. Сидят в юртах – жирные, поперек себя толще, чумные от безделья, нажрутся баранины и давай. Башки здоровые, как треснутся друг об дружку, как орехи колют. – Иван, подсев к Родиону поближе, вдруг изо всей силы стукнул его своим лбом по голове.
Шишкин загоготал, поймал Ивана за руки и, размахнувшись головой снизу вверх, угодил ему затылком в висок.
– Ну, синяк посадил! – еле вырвавшись, ухватился Иван за голову. – Твоей башкой дрова колоть или свайки у гольдов под амбары забивать. Из такой башки и дума не выйдет! Больно, паря! А ты что думал, когда один сидел? – отталкивал он наседавшего Родиона.
– А что? – Родион остановился на коленях. – Одному-то, поди, тоскливо иной раз, – признался он, и ободренный шутками Ивана, снова стал подбираться к нему.
– Ну, не лезь, вали, вали! Убьешь еще. – Иван шлепнул тамбовца ладонью по лбу. – Разъярился, как тигра… Ну, слушай, я тебе про сохатого скажу, – заговорил он, видя, что обида у Родиона прошла. – Это надо знать, как скридать сохатого. Много я и сам не знаю. Скридаю, как могу. – Он набил в трубку табачных листьев из Родионовой коробки и глубоко затянулся. – А как скрадывать, ты спроси у тестя моего Григория, он тебе скажет. Он это понимает лучше меня.
После горячего мясного ужина табачный дым завеселил охотников. Иван вытянул к очагу ноги и, облокотившись, прилег на сохатиную шкуру, служившую Родиону подстилкой. На низком потолке из корья пятнами мерцали отблески пламени. Дым от очага тянуло в отверстие крыши. Балаган был дырявый, но от большого огня и от сытного обеда охотникам стало так тепло, что Родион, подсев к Ивану, скинул куртку и остался в одной легкой рубашке. Собаки, уничтожив остатки пищи, тесней прилегли к охотникам. Родион еще подкинул в огонь смолистых лиственничных поленьев. На минуту показалось, что очаг угасает, но вскоре поленья разгорелись, начали стрелять искрами в потолок и в стороны, пламя вспыхнуло еще ярче.
– К сохатому подходить надо с тыла. Он, когда идет, поворачивается и ложится головой сюда же, откуда шел, и замечает под ветками твои ноги. Это охотник должен знать. Должен сбоку скрадывать его. Он, откуда шел, туда и смотрит. А подходить надо с тыла и сбоку. А когда подкрался, пали – и все… Беда, – неодобрительно покачал он головой, вспоминая свою утреннюю встречу с лосем. – Ка-ак он дунет в чащу, даже тайга загудела.
– Тебе на ночь дрова рубить! – вдруг весело воскликнул Родион, подмигнув Ивану. Он понял, что Бердышов никаких тайн ему не откроет, а лишь зря будет говорить. – Иди и ищи сухую листвянку. – И он потянул Ивана за ногу, обутую в унт.
– Эй, ты, обожди, куда тащишь…
– Кхл-кхл, – скалил зубы Родион.
Он стряхнул Ивана со шкуры на валежник и сам улегся на брюхо боком к огню. Иван, в свою очередь, потянул его за ноги. Мужики разыгрались, как ребята, стали мять друг друга и возиться на шкуре, перепугали собак и чуть не свернули балаган. Иван свалил Родиона чуть не на очаг и подпалил ему бороду, а Родион ловко сдернул у него с левой ноги унт и выбросил из балагана далеко в снег. Ивану с босой ногой пришлось лазить по рыхлым сугробам. Собаки опередили его: Смелый притащил обутку.
– Как медведи в берлоге, расходились. Ну, будет, будет! – возвратившись в балаган, предупредил Бердышов, видя, что у Родиона опять заиграли глаза. – Ты здоровила какой, как амба[41], верткий, хвоста только не хватает, а то бы я тебя за хвост.
Шишкин все же вцепился Ивану в ляжку, но тот вырвался, схватил топор и убежал из балагана рубить дрова.
Дважды принес он по большой охапке и, уложив их у входа, стал готовиться ко сну.
Родион притих и задумчиво смотрел на пламя, почесывая толстый угреватый нос.
– А что, Родион, – спросил его Бердышов серьезно, – ты с соседями дружишь?
– С какими соседями? С русскими али с гольдами?
– С горюнскими. Ты сказал мне, что они тебе друзья. Видишь, наши гольды сказывали мне, что в Мылках был недавно маньчжурец Дыген. Не слыхал ты? А оттуда он будто проехал к вам на Горюн.
– Как же! Это я знаю, – нахмурил Родион брови.
– Гольды божатся, что он их опять грабит.
– Да ну-у?.. Скажи пожалуйста! Ах, язви его в душу! – воскликнул Родион.
– Как бы их отсюда отвадить? Разоряют они гольдов, портят их. Покуда это Дыген где-нибудь поблизости, гольды сами не свои. А начальство наше пропускает. Зимой сидят они у себя в Софийском, жарят в карты, водку пьют, а лед пройдет, приедут на пароходах и начинают кричать. Нет того, чтобы нойону хвост прищемить. Теперь маньчжурец с товарищами, как я слыхал, пошел нартами на Горюн. Там им раздолье. А с Горюна по озерам пойдет к тунгусам. Поймать бы этого Дыгена! – вздохнул Иван, залезая в меховой мешок. – Я давно на него зуб точу.
Закрыв глаза, уставшие за день от напряжения, он стал рассказывать про свою ночную встречу на Амуре.
– Был я хмелен, мы в Бельго у китайцев водку пили. Я в потемках-то не разглядел, кто едет. Если бы знал верняком, что это был кривой маньчжурец, я бы сгреб его и отвез в Софийск, душу бы из него вытряс.
– Вот ты мне что скажи: почему опять Дыген сюда ездит? Ведь он уж стар, ему бы дома на печке сидеть.
– Дыгену туго приходится. Он в карты играть любит. Продуется в пух и прах, все проест, пропьет и едет на русскую сторону за мехами.
– Старый кот, по горшкам ловко лазает!
Охотники еще немного потолковали, и вскоре в балагане наступила тишина. Изредка лишь слышно было, как рушилась в очаге подгоревшая головешка да измученные собаки вздрагивали и стонали во сне.
Очаг угасал понемногу. Становилось темно.
Шишкин заворочался в своем мешке.
– Ты не спишь, Родион? – поднялся вдруг Иван.
– А что?
– Че-то тебя спросить хочу, выглянь.
– Ну, чего тебе? – приоткрылся взлохмаченный тамбовец.
– У тебя, однако, дружки-то среди гольдов есть?
– А тебе на что?
– Ты знаешь, каких Дыген с озер соболей вывезет: черных-черных, один к одному. Таких нет у нас. Он через озера да через хребты пройдет, везде побывает и на Амгунь сходит. Соболя там якутские. Пойдет он обратно, вот бы когда нам с тобой подкараулить его. Тебе бы ловко можно поймать его, ведь ты от Горюна недалеко живешь.
Тамбовец молчал и чесался яростно, по-видимому о чем-то раздумывая.
– А я тебе подход ко всем зверям открою, подумай-ка! Всех охотников на Амуре превысишь, богачом станешь. Сохатого скрадывать научу.
Иван давно искал случая разбогатеть. От охотничьего промысла или от меновой торговлишки нечего было и думать нажить богатство. Застрелить кого-нибудь из русских или здешних китайских торгашей – не оберешься потом разговоров. Верней всего было, как он полагал, ухлопать Дыгена, который жил в Маньчжурии и сюда ездил тайно. Дыген был маньчжурским дворянином и в старое время совершал поездки в пустынные, неразграниченные земли. Когда-то, как рассказывали гольды, он приехал впервые и привез всем подарки: кому чашку, кому халат, кому безделушки. За подарки он потребовал соболей. С тех пор он часто являлся в сопровождении вооруженных слуг и заставлял туземцев платить ему как бы род дани.
Иван полагал, что убить Дыгена – верное средство разбогатеть. А Китай не может потребовать расследования, если слух об убийстве дойдет туда. Это значило бы признаться, что маньчжурские чиновники разрешают за взятки такие грабительские походы на русскую сторону. Здесь же за убийство Дыгена, который страшно терзает гольдов, все будут благодарны.
Но Бердышов знал: одному ему не перестрелять целый отряд маньчжурских разбойников. Родион – смелый человек, хороший стрелок. «Если не поддастся уговорам, найду что сказать», – подумал Иван.
Бердышов, не ожидая, что ему ответит Родион, оставил его в раздумье, а сам закутался с головой. Вскоре из мешка послышался его густой храп.
Наутро Иван дружески распростился с Родионом и, ни словом не обмолвясь о вчерашнем разговоре, двинулся в обратный путь. День выдался ветреный и морозный. До вечера крутила метелица. Ночь Иван провел, забравшись в дупло старой ели, а наутро снова двинулся в путь. Ветер все крепчал, временами несся снежок. К полудню, когда Иван достиг Косогорного хребта, идти на лыжах стало легче, начались гари. Здесь свежие снега были крепко убиты ветрами.
На Косогорном у Ивана были расставлены сторожки на соболей, и он полез наверх проверять их.
Один из самострелов, к его удивлению, оказался разоренным. Пойманный соболь был украден. На снегу лежала окровавленная стрела, под бугор, в горелый ельник, ушла лыжня.
Бердышов понял по следам, что вор был недавно, и погнался за ним. Он бежал, распахнув меховую куртку и не замечая холода и резкого ветра. Лицо его горело, и лоб под сохатиным мехом истекал потом.
Открытой грудью рассекая морозный вихрь, Иван мчался по уклонам так, что мимо лишь мелькали стволы горелых лиственниц.
Еще больше обозлился он, когда следы свернули по пади к Мылкинскому озеру. Не долго думая, Иван помчался прямо в Мылки.
Глава двадцатая
Стойбище Мылки было расположено на берегу одноименного озера, которое представляет собой обширный залив Амура, простирающийся в глубь тайги. На северном берегу его в переломанных зарослях чернотала, подле глубоких проточек в заветные озерца, кишащие рыбой, приютились жилища гольдов.
Жгучий мороз рвал и метал над широким снежным простором. За тайгой синели округлые купола дальних сопок, и синие же дымки из труб стойбища метал ветер у подножья леса.
Там, где под берегом из сугробов торчали острые носы и дощатые борта плоскодонных лодок, Иван взобрался по крутому яру наверх. Перед ним желтели мазанные глиной приземистые лачуги. Со всех сторон затявкали, лениво сбегаясь, своры тощих собак. Иван крикнул на них, псы отстали. По свежей лыжне он направился к длинной лачуге с окнами, завешанными снаружи вздрагивающими от ветра шкурами кабарги. Шагах в двадцати от фанзы из высоченного сугроба обильно дымилась деревянная труба, сделанная из полого дуплистого дерева. Подле самой лачуги стояли малые амбарчики на свайках. Под ними виднелись нарты, шесты, палки. На пустых вешалах ветер раскачивал тяжелые связки обледеневших берестяных поплавков.
«Давно я тут не был!» – подумал Иван. Сняв лыжи, он с силой толкнул обледеневшую дверь и вошел в фанзу.
Внутри было полно народу. На просторных канах сидели, поджав ноги, старики гольды и обильно дымили трубками. Картина была знакомая. Все присутствующие слушали со вниманием сухого старика с седой плоской бородкой и жесткими, колючими глазами. Не прекращая своей речи, старик враждебно посмотрел на вошедшего Ивана.
Бердышов узнал его. Это был хозяин фанзы Писотька Вельды.
У очага хлопотала его дочь, горбунья с прекрасными черными глазами и уродливо тонкими ногами, которые, казалось, вот-вот не выдержат тяжести тела и подломятся. При виде Ивана на ее полных красных губах заиграла недобрая улыбка.
Рядом с Писотькой Иван заметил лысину Денгуры, бывшего родового старосты. Тут же сидели многие другие гольды, хорошо знакомые Ивану, но все они делали вид, что не замечают его и со вниманием продолжают слушать пискливый голосок хозяина.
– Батьго, – тихо поздоровался Иван, как бы не желая нарушать беседу.
Он скромно присел на край кана и стал дожидаться окончания разговора.
Речь шла о том, что надо высватать невесту сыну хозяина.
«Жених-то, верно, и стянул у меня добычу», – подумал Иван, глядя на бойкого, рослого, широкоплечего хозяйского парня, не похожего на гольда.
Писотька был одним из коренных жителей Мылок. На другой год после оспы, уничтожившей старое богатое стойбище Мылки, он возвратился на родное озеро и первым построил себе большую фанзу. К нему переселился Денгура, а потом и все другие мылкинские, оставшиеся в живых после мора.
Писотька был богат. По стенам на деревянных гвоздях висели белые овчинные шубы, ватные халаты, на нарах высились разноцветные свертки шелков; на двух очагах стояло множество чугунной посуды. Повсюду были расставлены искусно сделанные берестяные короба, ломившиеся от всякого добра.
Иван слыхал от Гао Да-пу, что Писотька дает убежище маньчжурам, тайно приезжающим на Амур, и ведет с ними торговые дела. Гао Да-пу не дружил с Писотькой, чувствуя в нем соперника. Не любил бельговский торговец и маньчжуров. Китайские купцы и раньше всегда подговаривали гольдов не давать им меха.
Но торговцы лишь втайне противодействовали Дыгену. У себя на родине они были целиком во власти маньчжуров, а поэтому при случайных встречах с ними на Амуре вели себя внешне покорно, любезно и гостеприимно, опасаясь, что те на родине всегда могут беспощадно расправиться с ними.
В одном лишь, как слыхал Бердышов, несчастен был гольдский купец Писотька: стоило какой-нибудь из его трех жен родить мальчика, как тот вскоре умирал. Большак же его, которого он собирался женить, не был ему сыном. Смолоду его старшую жену забирали к себе маньчжуры, и после того в срок она родила парнишку. Старик хотел иметь своих сыновей, но, как ни старались шаманы и знахари, дети не выживали. На этот раз младшая жена Писотьки качала в углу лубяную зыбку, закрытую тряпкой, и старательно и громко называла младенца девочкой, что означало, как понимал Иван, что под тряпкой у нее лежит мальчонка.
«Боится, чтобы черт не утащил парня, – подумал Иван, – на девку его переделала. Это уж гольдяцкая хитрость известная…»
Между тем гольды смолкли. Им самим хотелось узнать, зачем явился Бердышов. От любопытства у них разговор про сватовство не ладился. Старики умолкли и стали поглядывать на него.
Иван поднялся. При виде жесткого и злого лица Писотьки в нем вспыхнул гнев. Какая-то сила так и толкала его схватить хозяина за глотку и рассчитаться с ним тут же, при всех. Иван негодующе, но довольно сдержанно спросил по-гольдски хозяина, зачем он украл из его ловушки добычу.
Ропот пробежал по канам.
– Следы вора привели к твоему дому. Ловушка была разорена сегодня, и я пришел по свежему следу.
Густые клубы дыма окутывали изможденные лица гольдов.
Вскочил Денгура, продувной торгаш и говорун. Это был тощий высокий старик с лысой головой и худым скуластым лицом. Он еще сохранил живость ума и красноречие. Все более и более возбуждаясь, он стал доказывать Ивану, что «лоча», поселившиеся на Додьге, сами воры и что во всех неладах виноваты они сами.
– Осенью Улугу стал там рыбачить, а один мужик напал на него, отобрал невод и хотел его побить.






