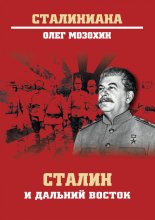Завтра была война (сборник) Васильев Борис
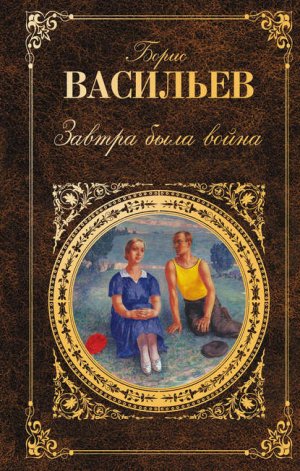
За кулисами ничего не творилось, и Лена отлично об этом знала, но… но то, что говорила мама, было приятно. Грустно и все же приятно, потому что объясняло, почему Лене так не везет, а вот некоторым… ну, например, Ирине Андреевне – так везет. И если поначалу Лена относилась к Голубовой с восторженной влюбленностью, то постепенно, исподволь, при активном воздействии маминого авторитета и ядовитых ростков восторженность сменилась болезненной завистью, а влюбленность – еще более болезненной ненавистью.
– Только не выступай. Учитесь властвовать собой, поняла?
И Лена училась властвовать собой раньше, чем постигать науки, отец махнул тяжелой ручищей, а мама решала проблему богов и рабов притворства (которое она упорно именовала искусством) на собственной дочери. И вскоре секретарь суда наловчилась, корректно улыбаясь, при малейшей возможности подкладывать поросеночков Ирине Андреевне, о чем Голубова, естественно, и не догадывалась.
Суд
Шел четвертый день судебного разбирательства. Уже были рассмотрены все обстоятельства преступления, подтвержденные заключениями экспертов и показаниями свидетелей. Уже досконально были исследованы прямые и косвенные причины, по секундам рассчитано время жертвы и убийцы, прочерчен каждый шаг их вплоть до пересечения, до рокового того места и мига, когда прогремел выстрел в упор. И все уже казалось таким ясным и бесспорным, что не только публика, но и люди опытные, профессиональные, поднаторевшие в процессах недоуменно пожимали плечами, вспоминая о защите:
– Жаль старика. Единственно – искать смягчающие обстоятельства, просить суд учесть былые заслуги. В целом, увы, жалобно и как-то… некорректно, что ли.
А защита встретила утро бодро, как никогда. Поцеловала свою Беллочку, фальшиво промурлыкала «Но нам нужна одна победа…» и столь же энергично зашагала в суд. А за квартал до суда ждала Лида Егоркина.
– Поете?
– Лидочка? – обрадовался старый адвокат. – Вот уж не рассчитывал на встречу.
– Я получила точные намеки, – как всегда таинственно понизив голос, сказала заседательница. – Конкретно сообщить обещали позже, но я вас прошу быть осторожным. Быть очень осторожным!
– А в чем, собственно, дело?
Добиться от необычайно серьезной Егоркиной чего-либо определенного не удалось, но таинственные намеки возымели определенное действие, и адвокат входил в здание суда совсем не в том азартном настроении, с каким выходил из собственной квартиры. Однако встретили его как обычно, и все шло заведенным порядком, и он успокоился, привычно заставив себя сосредоточиться на процессе. Но какая-то иголочка в нем все же застряла, потому что он – вдруг и сам не понимая почему! – испугался, узнав, что свидетель, которого уже однажды допрашивали, испросил специального разрешения дать дополнительные показания.
Этим свидетелем был Иван Свиридович Ковальчук. Единственный, кто знал о Скулове как о человеке все или почти все, относился к нему с любовью и уважением и должен был, обязан был уже уехать, вернуться в Москву, куда так торопился. Там ждало его какое-то весьма срочное дело, и поначалу он и приезжать-то на процесс не хотел, намереваясь ограничиться письменными показаниями. И внезапно вместо поспешного отъезда – дополнительные показания.
Нелегко Иван Свиридович добился этого исключительного разрешения, и если бы адвокат знал о его особой настойчивости в то утро, он насторожился бы еще больше. Ковальчук прибежал за час до начала заседания, разыскал судью Голубову, долго упрашивал, доказывал, настаивал. Ирина Андреевна, молча все выслушав, сухо отказала:
– Вы уже исполнили свой гражданский долг. Не вижу необходимости исполнять его повторно.
– Ирина Андреевна, я умоляю, я обязан, как честный гражданин.
С чего это он так испугался?
– Повторяю, что не вижу необходимости в вашем повторном вызове в качестве свидетеля.
Отказ был категорическим, но Ковальчук с ним не смирился, тут же бросившись к председателю районного суда. Что уж там он говорил, как доказывал – неизвестно, а только председатель успел до начала судебного заседания вызвать Ирину:
– Ковальчук написал официальное заявление. Прошу вас, Ирина Андреевна, рассмотреть вопрос о возможности его повторного вызова в качестве свидетеля.
– Ковальчук проходит только в связи с характеристикой подсудимого. Его показания никак не могут раскрыть новых обстоятельств преступления.
– И тем не менее. Он так настойчиво просил.
– Вот это-то меня и настораживает.
– В порядке исключения, – вздохнул председатель. – Он ведь непременно жаловаться побежит, если откажем.
Скулов, естественно, ничего не знал об этих затруднениях. Он устал от публики, от бесконечных вопросов, от голосов, слов, звуков, дыхания людей и в особенности от их взглядов. А тут еще немыслимо разнылась нога, и он окончательно отупел, занятый этой болью и ответами, которых от него все время требовали. Настолько отупел, что и на жену с детьми поглядывать перестал, и слышать начал плохо, и вопросы понимал не все, но отвечал не переспрашивая. Как выходило, так он и отвечал, потому что очень уж нога тревожила, и Скулов стал чувствовать, как время тянется, как ползет оно, проклятое, точно боль от пальцев, которые в Венгрии остались, в шерстяном носке, до самого сердца и жжет там угольком. А потом, что ему-то думать, как именно отвечать? Он ведь все признал, он ни о каком там смягчении и слышать не хочет – так не все ли равно, что говорить? Лишь бы время шло побыстрее – вот одна задача, которую решить осталось. Только как силы собрать для этого, как, когда ногу будто искрой простреливают, когда пальцы ноют, которых нет, когда в глазах все точки да точки, в ушах – звон и голова кругом кружится. Значит, одно остается: выключиться. Уйти в себя, внутрь, в свой каземат, закрыться в нем, забаррикадироваться и – вспоминать. Об Ане, о счастье, о молодости, о… о том безногом морячке на тележке, имя которого Скулов позабыл, к великому и мучительному стыду своему…
А все-таки жалко, что нет загробной жизни. Была бы – он бы упросил, умолил бога или там маму его, чтобы позволили ему с Аней увидеться. Еще разочек, один-единственный, на секундочку, чтоб только прощения у нее попросить. Объяснить ей, как все случилось, почему случилось и зачем он в живого человека выстрелил. Аня бы все поняла, потому что любила его, а какой суд тут может разобраться? Всех вон одно интересует: сколько да почем он цветы продавал. А кто спросил: хватало вам, Скулов, пенсии на двоих, на дом, на ремонт, на свет, на газ, на участок? Они ведь не деньгу к деньге подбирали, а цветок к цветку, а кому это теперь важно? Кто тут хоть раз спросил: сколько, мол, полкуба теса стоит, как его достать, где машины раздобыть да что с поездки шофер заломит?
– …Проволоку я лично Антону Филимоновичу посоветовал. Я, лично, он тут и вовсе ни при чем.
Вынырнул Скулов из всех своих болей, обид, воспоминаний. Услышал спокойный глуховатый голос, вгляделся: Митрофанов. Григорий Степанович Митрофанов, директор спортивного комплекса, в котором Скулов до пенсии работал на должности инженера стадиона. Строгий мужик, фронтовичок, принципиальный товарищ: «Если ты, Скулов, ко мне кантоваться пришел, так давай лучше сразу – горшок об горшок». Потом сработались, нормально жили, в гости друг к другу захаживали. А когда Скулов на пенсию вышел, Григорий Степанович над ним что-то вроде шефства взял. Списанные доски – Скулову, списанное железо – Скулову, списанную колючую проволоку – тоже ему…
– У Скулова цветы воровали чуть ли не каждую ночь: участок-то у самой дороги. Вот я и привез ему списанную колючую проволоку и сам же натянул ее вдоль всего забора.
– Скажите, свидетель, а почему Скулов не заводил собак?
– Заводил, – вздохнул Митрофанов. – Лично я трех знаю, и все три не своей смертью погибли. Сперва Найду отравили – хорошая овчарка была, умная, медали имела. Она на руках у жены Скулова умерла.
– На руках у Анны Ефремовой, вы хотели сказать?
– Я всегда говорю то, что хочу сказать, товарищ защитник. Найда умерла на руках у жены Скулова Анны Свиридовны. И это так потрясло Аню, что…
– Простите, Григорий Степанович, сначала я бы хотел услышать о собаках. Вы сказали, что знаете трех?
– Совершенно верно, три. Найда, Курган и Дымка. Найду отравили, я уже докладывал. Кургана задавила машина, а Дымку… – Митрофанов трудно проглотил комок. – Дымку забили камнями, когда Скулов был на кладбище. Аню навещал.
– Когда это случилось, не припомните?
– Такое, товарищ защитник, не забудешь. Двадцать шестого сентября это случилось, за два дня до… до выстрела.
– Благодарю, Григорий Степанович. Защита больше не имеет вопросов.
Ай да адвокат, ай да старик! Каких раздобыл свидетелей, как ловко поставил вопросы, как поворачивает настроение зала… Даже прокурор восторгался сейчас изящным профессионализмом защиты. И только Скулову было все равно, хотя теплая волна благодарности к бывшему его начальнику Григорию Степановичу Митрофанову омыла и его обнаженную душу.
– Вопрос к свидетелю. – Как ни радовался прокурор за адвоката, долг оставался долгом. – Вы много и красочно говорили о своей помощи обвиняемому, перечисляли доски, железо, колючую проволоку. А не было ли среди этой номенклатуры водопроводных труб? Или хотя бы обрезков этих труб?
– Не было. У Скулова на участке был колодец, позднее им, как и всем на улице, провели водопровод, так что в трубах он не нуждался, и я ему их никогда не предлагал и не привозил.
– Значит, вы никаких труб или их обрезков у Скулова не видели?
– Повторяю… – металлическим голосом начал Митрофанов.
– Благодарю вас, вопросов более не имею.
Какие еще трубы, откуда трубы, почему – трубы?
Что-то вертелось в памяти Скулова, но он и не пытался припомнить. Он вообще старался забыть, а ему все время напоминали, напоминали…
– В порядке исключения суд счел возможным повторно вызвать свидетеля Ковальчука Ивана Свиридовича.
Ваня. Нашел, значит, время, хотя – говорили тут – очень уж домой, в Москву, торопился. Ах, Ваня, Ванечка, последний родной человек на этой земле! Горло Скулова сдавило, непрошеная слеза выкатилась вдруг, он быстро и смущенно смахнул ее, а она снова выкатилась…
– Прежде чем отвечать на вопросы, я с глубоким и искренним сожалением должен попросить прощения у суда.
Четкий, какой-то продуманный, что ли, голос свидетеля защиты Ивана Ковальчука зазвучал в переполненном зале, заставил всех замереть, прорвался и сквозь воспоминания Скулова. Судья недоуменно переглянулась с заседателями и спросила, не сумев сдержать удивления:
– Вы просите прощения, свидетель? За что же вы просите суд простить вас?
– За то, что я ввел вас в заблуждение. – Свидетель держал голову очень прямо, как на смотру, глядя только в глаза судье и всеми силами стараясь ничего более не видеть. – Поддавшись внушенным мне с детства дружеским чувствам, я в корне неправильно осветил суду личность гражданина Скулова Антона Филимоновича, за что достоин сурового порицания.
Адвокат вскочил. Не встал, не приподнялся – вскочил с не свойственной ни его возрасту, ни положению, ни здоровью резвостью. Качнулся, открыл рот два раза, но так ничего и не сказал и рухнул на заскрипевший стул, машинально тиская правой рукой рыхлую грудь. К нему с беспокойством склонился второй адвокат – молодой, уже наступающий на пятки, но еще искренне любящий старика, – а свидетель тем временем продолжал:
– Моя дорогая сестра, единственное родное существо, поскольку все остальные были зверски уничтожены фашистскими оккупантами за связь с партизанами, героиня Великой Отечественной войны Анна Свиридовна Ефремова получила свое последнее тяжелейшее ранение по вине бывшего капитана Скулова, о чем неоднократно рассказывала как мне, так и моей приемной матери…
Антон Филимонович ничего не понимал: почему Аня была ранена по его вине? какая связь с партизанами? откуда Ваня – мальчонка в те года – знает то, чего не знали они с Аней, несмотря на все ее отчаянные письма и официальные запросы о судьбе родных?
– …Холодный расчетливый эгоизм – вот, пожалуй, основная черта Скулова, если не считать его патологической скупости. Именно скупость определила то, что он, Скулов, запретил моей сестре – искалеченной по его же вине! – взять из детского дома ребенка на воспитание. Именно скупость… Да что там, если уж всю правду, так этому не скупость название, а кулацкая жадность!.. Так вот, жадность его отчетливо видна в том хотя бы факте, как он поступил с имуществом моей приемной матери Александры Петровны Ковальчук. Обманом выпросив у меня дарственную на домишко и участок, он не дал мне, ее единственному близкому человеку, платочка на память! Скулов – кулак, самый настоящий кулак сегодняшнего дня с кулацкой психологией, кулацкой моралью, кулацкой жестокостью и…
– Неправда!
Кто это так закричал? Скулов был до того потерян, до того ничего уже не соображал, что перестал верить собственным ушам, а теперь не верил и собственным глазам, увидев вставшую во весь рост посреди замершего зала собственную законную жену Нинель Павловну.
– Неправда! Скулов никогда не был жадным, не мог быть жадным! Он сам из детдома, он…
– Гражданка Скулова, немедленно замолчите. Иначе я прикажу вывести вас из зала! – Судья с трудом справилась с волнением. Помолчала, сказала потухшим голосом: – Продолжайте, свидетель.
Нинель Павловна Скулова продолжала стоять посреди зала, точно выслушивая приговор. Слезы текли по ее нездорово располневшему лицу, рассеченному загрубевшими морщинами. Дети – Майя и Виктор – с обеих сторон настойчиво тянули ее вниз, на место, дочь то и дело вставала и что-то шептала ей, но Нинель Павловна упорно продолжала стоять. Пока судья негромко и мягко не попросила ее:
– Нинель Павловна, пожалуйста, сядьте на место. Вы отвлекаете суд.
– …И еще одно деяние прекрасно характеризует Скулова, хотя об этом почему-то стыдливо умалчивали на процессе. Речь идет о продаже Скуловым автомашины марки «Москвич», которую он получил как инвалид войны, а продал по спекулятивной цене. На первом процессе – я имею в виду дело по обвинению Скулова в темных махинациях, когда он был директором рынка…
– Свидетель, придерживайтесь существа вопроса, – сказала Ирина Андреевна официальным голосом.
– Я полагал, что моральный облик обвиняемого в тягчайшем преступлении и есть существо…
– Повторяю, свидетель, придерживайтесь строго существа дела, – с той же интонацией повторила Голубова.
Да, был инвалидный «Москвич», Ваня, был, все точно. И получил его Скулов без очереди, и продал за большие деньги – тоже верно: как раз за это и наложили на него партийное взыскание. Только что же ты о другом умалчиваешь, Ванечка? Вскоре после похорон Александры Петровны Аня в саду упала в клумбу головой – ты еще уехать не успел, ты был тогда, вдвоем с тобою Аню-то в дом втаскивали, а ты за доктором бегал. Вот тогда доктор и сказал, что это, мол, первый звоночек, что лечить ее надо и что лекарство для этого заграничное требуется, швейцарское, что ли. А ты ведь знаешь, сколько они стоят, заграничные эти лекарства, ты за границей больше, чем дома, живешь. Вот и пошел тогда инвалидный «Москвич» в обмен на таблетки и строгий выговор по партийной линии: что же ты об этом-то, Ваня, а?..
– Я касаюсь истории со спекуляцией автомашиной потому…
– Суд не интересует история с проданной автомашиной, поскольку вопрос этот был соответствующим образом рассмотрен и оценен. Суд настоятельно просит держаться только существа дела.
– Существо дела заключается в том, что сидящий на скамье подсудимых гражданин зверски застрелил комсомольца и будущего воина Советской армии…
– Свидетель, подобные формулировки входят исключительно в компетенцию суда, – отчеканила Ирина Андреевна, и по залу прошелестел уважительный шепот. – Отвечайте только на вопросы. Коротко и по существу. Защита?
Что-то тихо промямлил посеревший адвокат, дышавший трудно и часто. Второй защитник поспешно привстал со стула:
– Защита не имеет вопросов.
– Позвольте мне.
Прокурор поднялся, а вопрос задавать не спешил. Долго смотрел в лицо свидетелю, прежде чем спросить:
– Как прикажете понимать принципиальную разницу в ваших показаниях два дня назад и сегодня? Что послужило этому причиной?
– Конкретно? – Иван помолчал. – Моя гражданская совесть, если угодно.
– Совесть? – словно бы с участием переспросил прокурор, и по залу отчетливо прошелестел смешок. – Похвально, но очень уж расплывчато. Вы ни с кем не встречались за истекшие сутки, не беседовали, не советовались?
– Я ни с кем не встречался.
– Вы звонили в Москву?
– Я ежедневно разговариваю с женой.
– Может быть, это она посоветовала вам принципиально изменить показания?
– Нет. Я сам решил это сделать.
– Следовательно, вы не возражаете против моей формулировки, что вы принципиально изменили свои показания?
– Да, я принципиально…
– Когда же вы лгали суду, свидетель, два дня назад или сегодня?
Пауза была длинной, напряженной, тяжелой. Ковальчук подавил вздох и негромко сказал, впервые опустив глаза:
– Я отказываюсь отвечать на так сформулированный вопрос.
– А вы уже ответили, – усмехнулся прокурор и издалека чуть поклонился старому адвокату. – Я выполнил вашу миссию, коллега, во имя торжества справедливости.
Прокурор сел. Судья перешептывалась с заседателями, свидетель Ковальчук продолжал стоять, беспрестанно вытирая вдруг обильно хлынувший пот, и в зале возник легкий шум.
– В течение судебного разбирательства вы дали два взаимно исключающих друг друга показания, – сказал заседатель Юрий Иванович Конопатов, и зал опять напряженно замер. – Какое из них соответствует истине?
– Второе, естественно. – Ковальчук заметно нервничал, все время промокая лоб. – То есть то, что я говорил сегодня.
– Значит, то, что вы говорили в первый раз, истиной не является?
– Я уже объяснил причины, побудившие меня… не совсем объективно осветить некоторые факты из жизни обвиняемого, и попросил за это прощения.
– Здесь не детский сад, свидетель, – медленно, взвешивая каждое слово, сказал Конопатов. – Прежде чем дать вам слово, вас ознакомили со статьей закона, предусматривающей уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Вы дали расписку, что вас ознакомили с этой статьей?
– Дал. Но поймите же…
– Извиняюсь, я не закончил. Я буду настаивать на применении этой статьи к вам, свидетель Ковальчук.
– Правильно! – громко крикнула Нинель Павловна и снова вскочила, зааплодировав на весь зал. – Спасибо за справедливость! Спасибо!
– Гражданка Скулова, прошу вас немедленно покинуть зал! – крикнула Ирина Андреевна.
Майя вела мать по проходу, а Нинель Павловна все время оборачивалась и, всхлипывая, повторяла:
– Спасибо за справедливость! Спасибо! Спасибо за справедливость!
В зале возник шум, задвигали стульями, заскрипели, кто-то некстати засмеялся. Голубова стучала карандашом по графину, за ее спиной о чем-то спорили заседатели, свидетель по-прежнему стоял на своем месте, поскольку еще не был отпущен судом. И поначалу никто не заметил, как обмяк и начал сползать на пол старый адвокат. Заметил Скулов, все понял, вскочил, отбиваясь от обхвативших его конвоиров, и закричал:
– Врача! Скорее врача! Скорее!..
Перерыв судебного заседания
При всех железных правилах, которыми строго руководствовалась в жизни Лида Егоркина, подчас сама того не замечая, существовало нечто такое, что – правда, нечасто – заставляло ее поступать вопреки логике, если принять за логику свод пуританских аксиом. Лида была совершенно беззащитна перед человеческим порывом, перед той вспышкой искренности, когда человек поступает наперекор предполагаемому, предначертанному, предопределенному. Такие внезапные поступки – идущие, как правило, во вред их совершающему и уж никак не в его пользу – всегда умиляли и трогали ее до долгой сладостной боли, от которой першило в горле. Иными словами, Лида Егоркина неосознанно восторгалась тем, на что сама была способна в молодости и что удушила в себе пыльным сводом житейских правил. Мы вообще часто восторгаемся именно тем, ростки чего сами же затоптали в душе своей. И поэтому когда Скулов закричал, а «скорая» увезла адвоката и судья вынужденно объявила перерыв на час раньше обычного, Егоркина ринулась разыскивать Нинель Павловну.
Правда, вначале она все же исполнила одну обязанность, давно и добровольно взятую ею на себя и ставшую уже привычкой. Дело заключалось в том, что подсудимых не кормили в перерывах судебных заседаний, выдавая им положенный обед в камере по возвращении из суда. Лида считала это неправильным и всегда давала деньги кому-либо из конвойных, упрашивая купить что-нибудь – хоть булку! – подсудимому. На этот раз конвой оказался сговорчивым, обещал доставить Скулову полный обед, и обрадованная Егоркина помчалась искать поразившую ее законную супругу подсудимого.
Она нашла всю семью в кафе-стекляшке: мать, дочь и сын молча пили кофе с пирожками. Нинель Павловна часто и трудно вздыхала, Майя встревоженно посматривала на нее, а Виктор сердито хмурился. Лида подошла, сказала: «Привет!» – объявила, кто она такая, обстоятельно пожала всем троим руки и потребовала:
– Расскажите-ка мне о Скулове. Письменный допрос ваш, Нинель Павловна, я как-то прослушала, выкриков с места не поняла, а понять хочу, потому что сегодня мы уйдем в совещательную комнату и выйдем оттуда уже с приговором.
– А что, собственно, вас интересует? – неприязненно спросил сын. – Все лезут, все расспрашивают.
Егоркину смутить было невозможно. Она молча выслушала молодого мужчину (такие почему-то сами собой как бы отмечались в ее голове, хотя она за это на себя сердилась), щелкнула огромной старомодной сумкой, извлекла железный рубль и протянула ему:
– Виктор Антонович, я не ошиблась? Кофе с пирожком принесите мне. Боюсь, застрянем мы в совещательной.
Виктор послушно взял рубль и пошел к стойке. Нинель Павловна строго молчала, а Майя грустно улыбнулась:
– Думаете, секрет для нас, что папа не мог просто так выстрелить? Он курицу зарезать не мог, мама рассказывала. Значит, довели.
– Но вы-то, вы-то? – сердито перебила Егоркина. – Я ничего понять не могу, Майя Антоновна, ничего решительно. С отцом вы не жили, практически не видели его – Виктор Антонович, знаю, так и вообще не видел! – связи не поддерживали, так ведь? И мне непонятно ваше решение присутствовать на этом процессе.
– Любопытно вам, – усмехнулась Майя: она часто усмехалась. – Ну, например, как вы думаете, почему этот Ковальчук так распинался? Сообразил за сорок восемь часов, что есть возможность дарственную на дом аннулировать. Обманули его, подлеца, видите ли!
– Майя, – с привычной материнской строгостью сказала Нинель Павловна. – Нельзя думать о человеке плохое, пока нет доказательств.
– Есть, мама, – твердо сказала Майя. – Есть.
– Мы не знаем, почему он решил предать отца, – вздохнула мать. – Мне почему-то кажется, что не из-за имущества.
– Мне тоже, – ляпнула Егоркина.
Ей не следовало бы высказывать своих соображений, почему она сразу же и запнулась, но тут, по счастью, Виктор принес кофе и пирожки, и Лида с преувеличенным аппетитом накинулась на них.
– Юридически получается очень запутанное дело, – сказала она с набитым ртом. – С одной стороны, Ковальчук официально оформил дарственную в пользу сестры, но с другой – его сестра не была официально зарегистрирована в браке с гражданином Скуловым, то есть вашим отцом. После ее смерти Скулов, то есть ваш отец, стал владельцем де-факто, поскольку все знали, что он много лет прожил в этом доме с Анной Ефремовой и при этом не было встречных претензий. А с третьей стороны, его все равно осудят, но переходит ли при этом его фактическое, но не юридическое право…
– Не за правом мы приехали, – недружелюбно перебил Скулов-младший.
– Как? – растерялась Лида. – Вы – законные его дети.
– Нам сказали, что тут, на суде, за него слово замолвить можно, – сказала Нинель Павловна. – Объяснить всем, если, конечно, позволят, что он за человек, наш отец Антон Филимонович, что таких добрых да совестливых людей теперь уж, наверно, и не встретишь вовсе, теперь все свой интерес соблюдают, все к себе гребут, а остальные – хоть с голоду помирай.
– Как?.. – второй раз оторопело переспросила Егоркина, перестав жевать. – Я ничего не понимаю.
– Чего вы не понимаете? – вздохнул Виктор. – Что батя мой – честный человек, не понимаете? Что он не мог, права не имел Анну Свиридовну оставить, потому что она ему жизнь спасла? И нас забыть не мог, потому что всегда любил?
– Он рубли свои последние нам всю жизнь посылал, – дрогнувшим голосом подхватила Майя. – Пока учились, на всех посылал, на троих, а когда мы образование получили, выросли, свои семьи завели, он и тогда о маме не забывал и непременно три раза в год – к дню ее рождения, к Новому году и к Восьмому марта – деньги ей телеграфом переводил. На подарок. А про него этот тип сказал, будто он – кулак? Наш отец – кулак? Да я… Я ему глаза выцарапаю!
– Ничего я не понимаю! – с отчаянием выкрикнула вдруг Егоркина, от души треснув по столу огромной сумкой.
Вот подивился бы Скулов, если бы слышал этот разговор! И тому бы подивился, что дети его, оказывается, и помнят, и любят, и чтут, и уважают. И тому, что приехали они не на убийцу глазеть, а ему, отцу своему и мужу, помочь посильно, поддержать его как только возможно. Но больше всего он бы удивился, узнав, что три раза в год регулярно посылал деньги собственной жене: на день ее рождения, Новый год и к Восьмому марта. И наверняка бы не удержался, наверняка бы слезу уронил и прошептал бы потрясение:
– Ах, Аня, Аня. Телеграфом, значит, посылала, чтоб почерка никто не узнал? Ах ты, Аня моя…
Но Скулов был далеко от кафе-стекляшки: в охраняемой зарешеченной комнате в здании суда. Он сидел за столом, и перед ним стоял давно остывший обед, который принесли из того же кафе на деньги Егоркиной и к которому он так и не притронулся. Он молча раскачивался на стуле, тупо глядя перед собой, пытаясь понять что-то очень важное, что-то нужное, просто позарез необходимое, но мысли его разбегались, сосредоточиться не удавалось, и он напрасно раскачивался на равномерно поскрипывающем стуле.
Что же это получилось? Что же это такое произошло, может, ослышался он или не разглядел, может. Нет, то не Ваня выступал, то совсем не Ваня, подменили Ваню, украли или уехал он, а это кто-то другой, под него загримированный, как артист. Не может, не может, не может… Как так – Аня по его вине пострадала? Из-за него – да, из-за него, Скулова, он не спо рит, но ведь война, Ваня, пойми, война, братишка, у нее свои законы, свой счет, своя правда. Он же ранен был тогда, и Аня не могла не прикрыть его своим телом… Нет, могла, конечно, могла и не прикрыть, только… Только это тогда бы не Аня была, вот в чем тут штука, Ванечка, вот в чем вся штука. А насчет того, что семью вашу фашисты расстреляли за связь с партизанами, это, Ваня, Скулову неизвестно. Скулову и Ане одно было известно: семья погибла в оккупации. Может, от голода, может, от болезни какой, может, при бомбежке или артобстреле, но никто ее вроде бы не расстреливал, и документов насчет этого Аня никогда не получала, а получала: «Ваши родители погибли во время оккупации». Вот и все. Три запроса в разные места они с Аней посылали, и три ответа – один в один – из всех трех мест. Откуда же партизаны вдруг объявились, Ваня? Не надо так-то ошибаться, мертвые в славе не нуждаются.
Ну, а что Скулов с наследством тебя обманул, что себе все захапал, что жадность в нем кулацкая, – это, Ваня, твоей совести дело. Это ты ее спроси, пока еще время есть, потому что упустишь – и она тебя спросит. Ой как еще спросит! День и ночь допрашивать будет пожестче самого дотошного следователя, спать не даст, забыться не даст, в себя уйти не даст. Так что подумай сам, Ваня, большой уже, пора и самому думать. Подумай, пока не поздно, с совестью посоветуйся: Скулов на тебя не в обиде. Мало ли какие причины: может, жена твоя тебе так посоветовала или товарищи по работе. Может, ты сам испугался, что убийца Скулов тебе биографию попачкать может, и решил откреститься от него, а как – недодумал, и ну грязью поливать. Так-то оно, конечно, и проще, и привычнее, и Скулов все понимает, только ведь тебя, Ваня, жалко. Родной ты мой человек, ведь пропадешь так-то, совесть ведь загрызет…
Скрипнула дверь, и конвоир пропустил в комнату сутуловатого длинноволосого молодого человека, в котором Скулов скорее угадал, чем узнал второго адвоката. Адвокат был в плаще и шляпе, которую держал в руке; прошел к столу, сел напротив. Сказал, помолчав:
– Туман. Изморось, что ли. Нелетная погода. Вы почему не едите? Надо есть, есть.
Скулов ничего не ответил, да посетитель и не ждал ответа. Он был чем-то очень взволнован и озабочен, все время думал о чем-то ином, а его, Скулова, как бы и не видел. Опять помолчал, глядя в пол и не удержавшись от вздоха.
– Старика в больницу отвезли, я сопровождал. Знаете, какой человек? Вымирающий. Уникум. А сейчас в реанимации, и состояние, говорят, не очень. Но не инфаркт, нет. Пока – нет, так сказали. Всю жизнь чужим умом восторгался, чужим талантом, чужой добротой: знаете, есть такие натуры, что чужими достоинствами только и живы. Вот и старик наш… А вот на чем защиту собирался строить, так и не сказал. Удивлю, говорит, и разгромлю. Труба, говорил, еще прогремит, я, говорил, ее иерихонской сделаю. Какая труба, не знаете? Вот и я не знаю. И вместо речи, боюсь, бормотать придется. Да вы ешьте, Антон Филимонович, перерыв скоро кончится.
Чтоб не смущать Скулова, молодой защитник встал, отошел к окну и начал разглядывать серую унылую погоду за решеткой. Туман и мелкий дождичек, мокрые крыши, мокрые улицы, машины, людей под зонтами. А Скулов послушно начал есть, то ли потому, что жалел старого адвоката, то ли потому, что молодой назвал его по имени и отчеству.
– Нелетная погодка, и ваш родственничек… Ну этот, свидетель Ковальчук. Нервничает.
– Нервничает? – с робкой надеждой переспросил Скулов.
Невольно это вырвалось: хотелось, очень хотелось ему услышать, что Ваня жалеет о том, как выступил, как осветил, обрисовал, что совестно ему, что…
– Что же это за труба, про которую старик говорил? – Молодой адвокат помолчал, повздыхал, спросил вдруг невпопад: – Как считаете, Антон Филимонович, почему Ковальчук изменил вдруг свои показания?
– Не знаю.
– Застал я его, как говорится, на чемодане в связи с нелетной погодой, – усмехнулся адвокат. – Напомнил, что суд проступок его вряд ли без внимания оставит, за свои слова отвечать надо, разбаловались. А в ответ знаете что услышал? В ответ услышал целую речь о вреде частной собственности, о кулацкой жестокости, о спекуляции на цветах.
Скулов отодвинул тарелку с остатками второго. Закачался на стуле, заскрипел.
– Вот какой принципиальный товарищ. Родного отца готов во имя истины под трибунал подвести. А на поверку – газетный набор слов. Именно газетный штамп, знаете, так и слышится. Правда, одно живое слово все же не утаил, сболтнул, не подумав. В Швецию, видите ли, он сейчас оформляется, в длительную командировку. Любопытно, Антон Филимонович?
– Вы не думайте так насчет Вани, – с трудом проговорил Скулов. – Он вообще-то…
– Вообще-то все мы – люди, – с неожиданной жесткостью перебил молодой адвокат. – Одни честные, другие нечестные, одни свое здоровье берегут пуще глаза, другие – чужое, так, Антон Филимонович? Знаю я, на что ваш инвалидный «Москвич» ушел, мне о докторах да ценах на лекарство Митрофанов Григорий Степанович справку дал. Ешьте, давайте ешьте, теперь до вечера никакой еды не дадут.
Скулов молчал и больше к еде не притрагивался. Адвокат пошел к дверям, взялся за ручку, обернулся вдруг:
– Администраторша в гостинице сказала, что Ковальчука сегодня утром Москва по телефону вызывала. И разговор был, говорит, тридцать семь минут, очень длинный разговор. Вот почему он в нашем городе задержался, Антон Филимонович, и вот почему он показания изменил. Если что о трубах вспомните, не сочтите за труд сообщить.
Молодой адвокат вышел, а Скулов качался себе и качался, так и не притронувшись больше к еде. Качался, как всегда, а думать о Ване уже не мог. Не мог, как ни старался, точно отключился вдруг Ваня от памяти его.
Следовало бы уже начаться завершающей стадии судебного разбирательства, его последней части: речей прокурора, защитника и подсудимого. Публика толпилась перед входом в тесном коридорчике, но двери в зал были закрыты, а секретарь – некрасивая, скучная девица с постным лицом, взглядом и даже фигурой – ни в какие объяснения не вступала, хотя знала причину.
Дело заключалось в том, что перед началом заседания ее, Лену Грибову, разыскал свидетель Иван Свиридович Ковальчук. Он торопился на аэродром, был во всем заграничном, а Лене так хотелось насолить Ирине Андреевне, что она в нарушение всех правил проводила просителя к судье Голубовой.
– Поймите, я руководствовался родственными, внушенными мне буквально с детства отношениями, – журчал Иван Свиридович, когда нетерпеливая публика уже начала громко выражать недовольство. – Я поступил неправильно, опрометчиво, я это осознаю и глубоко переживаю, но зачем же так сурово, Ирина Андреевна? Бога ради, отругайте меня, только не делайте тех опрометчивых выводов, на которые намекал этот… Заседатель Конопатов.
– Народный заседатель Конопатов руководствуется буквой закона, – холодно (ее возмутила демонстративная оплошность секретаря Лены), но пока терпеливо отвечала Голубова. – Определение о сознательном нарушении вами статьи, предусматривающей уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний, может быть вынесено в соответствии с процессуальным кодексом. Кроме того…
– Ирина Андреевна, вы же…
– Кроме того, суд может вынести и частное определение о вашем поведении на процессе, которое будет направлено по месту вашей работы.
– Помилуйте, Ирина Андреевна, вы же губите всю мою будущность. Давайте начистоту, мы же интеллигентные люди. Скулову ведь ничем уже не поможешь, так не все ли равно, как именно и почему именно выступали свидетели? Понимаете, в настоящее время я оформляюсь за рубеж…
Ковальчук замолчал, остро пожалев, что сболтнул лишнего. Черт вынес его с этой заграницей…
– Конечно, это никакая не причина, я понимаю, это так, к слову…
– Сожалею, – резко перебила Ирина Андреевна. – Весьма сожалею, но вашу зарубежную поездку, видимо, придется отложить. Лена! Открой зал и дай звонок к началу.
– Ирина Андреевна, умоляю, войдите в мое положение…
– Извините, я и так задержала процесс. – Голубова была очень недовольна собой, что позволила себе позлорадствовать насчет зарубежной поездки, но уж так некстати ошибалась сегодня Лена. – Всего доброго. Повторяю, всего доброго. Надеюсь, вы не хотите, чтобы я вызвала милицейский наряд?
– Не хочу. – Ковальчук поклонился. – Будьте здоровы.
Судья пошла готовиться к началу заседания, публика наполняла зал, а кипевший от негодования Ковальчук покинул помещение. К тому времени туман рассеялся окончательно, дождь перестал, и местный аэропорт принял первый самолет из Москвы, доставивший срочные грузы, в том числе и тиражи сегодняшних столичных газет.
– Прошу встать, – привычно произнесла Лена. – Суд идет!
Совещательная комната
Впервые за четыре дня судебного разбирательства Скулов вдруг расслышал и сообразил, что в зале присутствуют отец и мать погибшего Эдуарда Вешнева. Вздрогнул, точно очнувшись, сразу нашел их среди публики и уже смотрел и смотрел не отрываясь, и ненависть в нем постепенно гасла, заменялась чем-то вроде сожаления, что ли. Нет, не пьяного Эдика с пьяным его матом пожалел он, а этих двух потухших, совсем еще не старых стариков, которым, наверно, еще не было и пятидесяти и уже не было жизни. Поэтому он не слушал прокурора, не мог слушать, а думал о той ночи, о выстреле, о сыне этих несчастных и о собственном сыне, которого никогда не видел, и еще – о том ребенке, о котором всю жизнь мечтала Аня и которого у нее не было и не могло быть. «И чего тогда из детдома не взяли, чего испугались?..»
Он не слышал главного: чего прокурор требовал. Поздно очнулся от дум, смысла речи не уловил, но – по инерции, что ли, – начал слушать защитника. А защиту представлял молодой, тот, что заходил к нему в перерыв, о какой-то трубе спрашивал: для него это дело было первым, и он, растерянный и убитый несчастьем со своим патроном, не успел подготовиться, а потому и пробормотал свою речь неубедительно. Просил суд учесть прошлые заслуги, фронтовую инвалидность, состояние здоровья обвиняемого, ничего уже не подвергая сомнению и во всем соглашаясь с обвинением. Слушали его без интереса, перешептывались, скрипели стульями и замерли только, когда суд представил последнее слово подсудимому.
– Вставай. Вставай, слышишь? – зашипел в ухо конвоир и помог подняться.
Поднявшись, Скулов двумя руками вцепился в барьер и молча уставился в зал. Он хотел посмотреть и на детей – на Майку с Виктором – и на Нинель, которая так неожиданно вступилась тут за него, очень хотел, но не смог. Не мог он оторвать глаз от двух нестарых стариков, от родителей, которых он состарил, лишил сына, смысла жизни, сил и желания жить. Смотрел и молчал, и пальцы у него побелели, до того он барьер стискивал. Судья дважды напомнила, чтоб говорил, что ждут же все его последнего слова. И тогда Скулов понял, что не может он в глаза родителям убитого им парня сказать то, что задумал еще в камере: мол, три раза я в воздух стрелял, четвертый – в него. И если бы промахнулся или там осечка случилась, снова бы ружье перезарядил, а все равно бы – в него, в пьяного Эдика этого. И тогда бы уж – дуплетом, тогда бы уж – залпом, наповал, потому что он, Эдуард этот, Аню его покойную, единственную его Аню такими словами обозвал, что… Нет, не мог, оказывается, Скулов этим признанием суд над собою завершить и, не отрывая глаз от родителей погибшего Эдуарда Вешнева, сказал совсем не то, о чем думал и что собирался сказать:
– Единственно, перед кем вину чувствую, так это перед вами. Не перед ним, в которого выстрелил, не перед судом, не перед обществом вины не чувствую, хоть и виноват, знаю, а вот перед теми, кто родил, вскормил и вырастил, перед ними я виноват неоплатно. – Скулов низко, сколько барьер позволял, склонился, постоял в поклоне, а распрямившись, сказал жестко: – Прошу суд вынести мне самое тяжелое наказание. Самое тяжелое. Все. Больше говорить не буду.
Сел. В зале было тихо-тихо, даже стулья не скрипели, а Нинель Павловна всхлипывала осторожно, изо всех сил сдерживая себя. Судья пошепталась с заседателями и встала:
– Суд удаляется на совещание.
Все встали. Заседатели уже вышли, уже Скулова увели, и публика, переговариваясь, покидала зал, а Ирина Андреевна все еще складывала разбросанные по столу бумажки.
– Вас к телефону.
Голубова подняла голову. Перед нею, улыбаясь, стояла секретарь Лена.
– Скажите, что я – в совещательной комнате.
– Муж. – Лена улыбнулась еще старательнее. – Очень просит, не могла солгать. Уж извините, пожалуйста.
Внутренне проклиная эту иезуитскую улыбку, Голубова прошла в кабинет. Там были люди, кто-то с нею здоровался, кто-то о чем-то расспрашивал: она коротко ответила и взяла трубку.
– Я слушаю. – Как всякая женщина, Ирина все время помнила, что в комнате она не одна, все время слышала и то, что говорит вчерашний муж, и то, что говорит она сама, контролируя не только слова, но и интонацию. – Зачем же такая спешка? А, извини, забыла. Да, полагается три месяца на размышление. Напиши заявление об особых обстоятельствах. Это абсолютно исключено именно потому, что я работаю в этой системе. Закон есть закон, придется его соблюдать. Всего хорошего.
Она положила трубку, но настроение было испорчено: нашел время напоминать о разводе, и Леночка эта назло рядом торчала со своей ухмылочкой. Конечно, студенточку не уговоришь потерпеть с родами, и товарищ доцент до смерти боится, что она родит до того, как он получит развод с Ириной и распишется с Наташей.
Ах, сильный пол, до чего же ты труслив и жалок…
– Опять – вас, – сказала Лена, протягивая трубку и улыбаясь уже почти с торжеством. – Женский голос. С ледяным оттенком.
– Но я же в совещательной…
– Но вы же не в совещательной?
– Голубова слушает. – Она раздраженно, почти – рывком взяла трубку, не успев сообразить, собраться с мыслями. – Нет. Нет, мы не получали центральных газет, и я ничего не читала. А какое это имеет значение? Что?.. Под названием «Выстрел из прошлого»? Ну, и что же из этого следует?.. Нет, я…
Ирина вдруг замолчала, уже не пытаясь вставить хотя бы слово в тот монолог, который слышала только она, сознавая, что происходит нечто непоправимое, хотя ничего еще не произошло. Но слишком уж многое свалилось на нее за эти четыре дня, слишком неожиданно прозвенел этот звонок, слишком неподготовленной, несобранной оказалась она; плечи ее поникли, спина сутулилась все ниже, сгибаясь над трубкой, будто эта телефонная трубка с каждым словом делалась все весомее, все тяжелее…
А тем временем в совещательной комнате Лида Егоркина первым делом включила чайник, достала заранее припасенные сахар и сдобные булочки. Они всегда обсуждали дела неторопливо и почти по-домашнему, за стаканом чая. А до того как вскипит чайник, обычно занимались своими делами, молчали – и думали, и поэтому, как правило, приговор после чая писался легко, споры гасли на корню, а особых мнений в их практике вообще еще не случалось. И сегодня Юрий Иванович прямиком направился к окну, возле которого любил посоображать до чаепития, наблюдая за обычной уличной суетой, когда вошла Ирина.
– Любящий супруг беспокоился? – с улыбкой поинтересовалась Егоркина.
– Что? – Ирина дернулась, как от горячего, но тут же взяла себя в руки. – Да. Любящий.
– Чай пейте, – сказала Лида, разливая кипяток. – Я настоящего индийского две пачки раздобыла. Аромат – сдохнуть можно!
– Язык у вас, Лида, будто у моей дочки, – проворчал Конопатов, усаживаясь. – Та тоже то сдыхает, то отпадает, то ловит кайф. Ирина Андреевна, прошу.
– Что?.. – Ирина села к столу, но к стакану не притронулась. Заторопилась вдруг, отсутствующе глядя мимо. – Вопрос мне кажется абсолютно ясным. Давайте коротко обменяемся мнениями, а после чая напишем все положенные документы. В том числе и определение о привлечении гражданина Ковальчука к уголовной ответственности. Если, конечно, вы продолжаете настаивать, Юрий Иванович.
В тоне ее слышалась такая злая мстительность, что Конопатов промолчал, соображая. Зато Егоркина энергично тряхнула головой:
– Поддерживаю. Никаких принципов у человека. Мужик называется.
– А если вернуться к сути?
– Это насчет Скулова, Юрий Иванович? Насчет Скулова я так думаю, что есть смягчающие обстоятельства. Но с другой стороны, убийство. Надо все учесть, то есть взвесить. Если бы не этот сердечный приступ…
Все замолчали, продолжая пить чай, думая то ли о чем-то своем, то ли о старом адвокате, то ли о судьбе Скулова, которую им предстояло решить.
– Так… – как бы про себя, но очень решительно сказала Ирина Андреевна. – Дело ясное, остается квалифицировать преступление. Вот этим и предлагаю заняться.