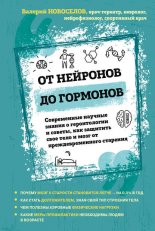Молись и кайся Костевич Леон

– Вот, котейко завел, – похвалился Эсхил. – Муркою назвали.
– Ты же не любишь животных? – подковырнул Петр.
– Я не люблю, когда из них фетиш делают.
Вбежавшая с громким топотом Варвара упала на пол, вынула из карманов кофты носки.
– В церковь поедем? – улыбнулся ей не очень-то умевший общаться с маленькими детьми Петр.
Девочка отрицательно замотала головой.
– А куда? – встревожился писатель.
– В х-р-р-рам!
– Может ведь не картавить, если старается, – покачала головой Татьяна.
Когда Авдеев остановил машину около церкви, Эсхил хлопнул себя по тулье черной кепки-капитанки:
– Не подумал я! В храме, куда мы в Москве ходили, утренняя служба на час раньше начинается. Могли бы поспать еще. Ну, ничего. Татьяна Владимировна, ты пока иди записочки подавай, а мы с братом Петром тут постоим, я покурю.
Глаша и Варя на время оставили разногласия и не отходили от матери. Она подтолкнула их в сторону двора:
– Идите-идите – с детьми познакомьтесь. Эха, дай денег.
Положив купюры в карман, Татьяна двинулась к храму, у входа трижды перекрестилась и поклонилась.
Наполовину снесенный из-за строительства забор открывал низенькую Покровскую церковку, надворные постройки и греющихся на солнышке прихожан. По темному от талого снега асфальту разгуливали дети в расстегнутых пальтишках. У южного придела что-то клевали воробьи.
Невдалеке возвышался желтый бревенчатый четверик будущего храма – выглядывал из ржавых лесов, как медведь из клетки. В черный проем двери вели деревянные мостки с брусками-ступеньками. Изнутри доносился визг электропилы. У фундамента покоились бревна и пухли кучи влажных опилок, распространяющих сосновый запах. Участок пересек рабочий в робе и резиновых сапогах. От церковного двора строительное пространство отделяла понатыканная в землю арматура с привязанной к ней, колышущейся на ветру красно-белой лентой.
Напротив, через узенькую улочку, стояли скособоченные, точно от радикулита, домишки. Маленькие окошечки с разверстыми щелястыми ставенками напоминали книжки из «Букиниста».
Людей во дворе становилось все больше. Из остановившегося рядом джипа выкарабкался старик с длинными седыми космами. Снял и бросил в кабину пальто, оставшись в белейшей шелковой рубахе навыпуск. Поежился, поспешил в тепло храма, но задержался, увидев Эсхила. Они почеломкались, сцепляясь бородами, как частями застежки-липучки.
– Иван, это мой друг Петр, большой писатель, – завел знакомую песню Христофоридис и, уловив на лице Ивана недоверие, добавил: – Серьезно, у него книга в Москве вышла.
– Две книги, – поправил Авдеев.
– А это, Петше, настоящий цыганский барон! – Эсхил обнял старика за плечи. – Как дочка поживает, у которой на свадьбе гуляли?
– Через месяц уже другая выходит – Зора. Помнишь, песню красивую в микрофон пела? Приходи, я тебе потом приглашение принесу. И вы, Петр, приходите. – Цыган снова поежился. – Пойду – холодно.
– Храни Господи, – кивнул ему Христофоридис.
Сидевшие во дворе церкви стали понемногу заходить внутрь. Эсхил вынул еще одну сигарету.
– Правда, что ли, барон? – не поверил Авдеев.
– Без всяких-яких. Ты же заметил – цыгане поутихли? Так это потому, что Иван по-настоящему в православие обратился.
Действительно, жившие оседло в пригороде Святограда чавелы в последнее время присмирели и даже почти перестали продавать героин, на доходы от которого давно понастроили себе аляповатые дворцы.
Из строящегося храма, пружиня на мостках, спустился священник в рясе. Увидав Эсхила, направился к нему, но задержался у торчащей посреди участка трубы, отвинтил кран и стал пить.
– Отец Даниил, настоятель, протоиерей. – Эсхил затоптал недокуренную сигарету. – Потомственный священник. Только благодаря ему новый храм и строится. Столько успевает! За городом реабилитационный центр для бывших зеков открыл, церковнославянский язык в приходской школе преподает. – Режиссер шагнул навстречу отцу Даниилу, сложил на уровне живота ладони лодочкой – правую на левую, опустил голову:
– Благословите, батюшка.
Священник перекрестил склоненную перед ним фетровую капитанку и подал руку для поцелуя. Наблюдая сцену, Авдеев испытал неловкость – как если бы подсмотрел что-то очень личное.
– Отец Даниил, это мой друг Петр, гениальный писатель, – сделал Эсхил театральный жест в сторону Авдеева.
Растерявшийся Петр протянул настоятелю руку, которую тот крепко пожал. Выглядел отец Даниил на шестьдесят с лишним. В косматой бороде блестели капли воды, низ рясы запорошили опилки, а поверх позолоченного креста висел фотоаппарат с длинным, похожим на завалившуюся-таки Пизанскую башню объективом.
Священник глазом хозяина оглядел синие кабинки туалетов для рабочих, перевел взгляд на птичек, клюющих утеплитель между бревнами:
– Все-таки надо было по канадской технологии строить, бо еще раз конопатить придется…
– Денег-то хватает на строительство? – деловито поинтересовался Эсхил.
– Знаешь ведь, миром строим. Сам по организациям, аки выжлец3 мотаюсь, выпрашиваю: на епистолии4 они не больно-то отвечают. Плюс община наша подсобное хозяйство имеет, казачий округ денег дал… Опять же, именные кирпичики5. С велицей помощью Божией.
Незаметно разглядывая отца Даниила, Петр попытался представить его в строгом костюме и удивился, до чего похож стал бы священник на профессора, читавшего у них на филфаке «зарубежку».
Протоиерей с Эсхилом взялись обсуждать, во что обойдется подключение храма к электричеству, а заскучавший Авдеев решил поразмяться и отправился к машине. Всего за полчаса его «мазда» ухитрилась вписаться в местный пейзаж: на лобовом стекле темнела осыпающаяся со старой сливы труха, а между колесами пристроилась немолодая дворняга.
Когда Петр вернулся, отца Даниила уже не было, зато к его другу подступала нищенка в массивном, как снятом с памятника, пальто. Ее мужественное лицо с крупными чертами выражало решимость викинга, готового сей же час вознестись в Валгаллу.
– …бабе Клаве покушать, – хрипела старуха. – Тебя как зовут, зайка?
– Эсхил, – представился Христофоридис.
Увидев, с какой готовностью потянулся ее собеседник во внутренний карман, баба Клава решила ковать железо:
– Мясхил, – «повторила» она, напирая на «я» и ничуть не выдавая удивления тем, до чего иногда странные попадаются у людей имена. – Мясхил, ты вот сейчас денежку дашь, а потом завтра еще приходи: у бабы Клавы день рождения, так ты бумажечку принеси побольше…
В руках Эсхила появилось портмоне. Глаза старушенции воссияли надеждой:
– Мясхил, ты приходи сюда часто. Как придешь – сразу меня спрашивай…
Бумажник перекочевал из левого внутреннего кармана в правый. Взгляд бабы Клавы поугас. Рука Эсхила забралась обратно, в пальцах шоркнула пятисотрублевая купюра. Взор «викинга» помутился. Купюра последовала за портмоне. На свет явилась монета в десять рублей, но и она не достигла шершавой мужской ладони бабы Клавы. Наконец, пошерудив в кармане брюк, Христофоридис извлек рубль, который и вложил в простертую длань. Чтобы не выдать разочарования, просящая задвигала-зашмыгала внушительным, как выросший на нитратах огурец, носом.
– Это я ее смиряю, – пошутил Эсхил, когда баба Клава испарилась. – Отец Даниил говорит, она тут всех своим днем рождения доконала. Идти надо, брат ты мой, скоро служба начнется.
Авдеев снова прошел к машине, открыл дверцу. Не садясь за руль, включил зажигание. Вздрогнувшая от звука мотора дворняга нехотя убралась из-под колес, постояла в раздумьях и исчезла в ближайшем дворе, с усилием протиснувшись между деревяшками штакетника.
– Смотри-ка – Толян! – вдруг воскликнул Петр тоном, не позволяющим определить, доволен он неожиданным появлением старого знакомого или огорчен.
С теневой стороны улицы, шлепая кроссовками по укатанному снегу, в их направлении переставлял ноги человек с волнистыми, давно не мытыми русыми волосами. На его плечах коробилась короткая, напоминающая рыцарскую кирасу куртка, далеко распространявшая запах секонд-хенда. Сверху из-под куртки выглядывал ворот поношенной олимпийки.
– Петруся! – обрадовался Толян. – Прикинь, «однёра» заблудилась – по другому маршруту пошла, а я с бодунища закемарил, не расслышал, чё водила в микрофон бухтит…– Повернувшись к Эсхилу, бывший студиец прищурился и энергично облизал обветренные губы: – Хилуха, бродяга!
…В студию Толян попал, скажем так, по инерции: одинокая мать тетя Люда старалась дать ему как можно больше разумного-доброго-вечного и записывала во все кружки и секции подряд. Так Кишканов выучился шить мягкие игрушки, кататься на коньках, гонять на спортивном велосипеде и стрелять из мелкашки. А однажды тетя Люда вырезала из газеты заметку о наборе, объявленном Домом офицеров для желающих стать «клованами» («Мы же все – клованы», – сентиментально говаривал пьянющий в лоскуты Бобров). На вопрос, кто виноват в том, что из Толяна с таким багажом ничего не вышло, существует три варианта ответа: водка, среда, гены, – отец Толяна, пока не ушел из семьи, так мутузил тетю Люду, что она неделями сводила следы побоев бодягой.
Сейчас Кишканов работал от случая к случаю: жил и пил на пенсию матери.
– Друзья встречаются вновь, – понуро засвидетельствовал он, не увидев ответного энтузиазма, но тут же предпринял новую попытку подбросить поленьев в костер беседы: – Ты, грек, расскажи, как дела-то!
– В другой раз. – Христофоридис кивнул на церковь. – Уже служба начинается.
– Ве-е-ерущий… – Толян с ядовитым уважением поднял к небу подбородок.
– А то со мной пошли, – позвал Христофоридис.
Толян ухмыльнулся, показывая – шутку оценил.
– Ты лучше скажи, семья, спиногрызы есть? – не отставал он.
Как раз в этот момент отца с налета боднула в бедро девочка-торпеда Варя:
– Папоська, пойдем!
– Ой, какая мартышечка, – умилился Толян.
– Сейчас, мой золотой, – наклонился к дочке Эсхил, и Варя унеслась быстрее, чем появилась.
Пытаясь подъехать к коробу строящегося храма, в узком проулке кряхтел самосвал.
– А может, по пиву? Не убежит церковь твоя, – снова попробовал оживить диалог Кишканов.
– Потом, – обнадежил Эсхил.
Авдеев поддержал друга кивком.
– Чё у вас моськи-то такие кислые? – презрел наконец условности Толян.
Христофоридис крепко взял его за рукав:
– Ты почему мать бьешь, подонок?
– А-а-а… – Захмелевший собеседник недобро глянул на Петра. – Это не я – это водка проклятая.
Эсхил с силой ткнул Толяна пальцем в грудь:
– Тебя, гаденыш, посадить надо!
– Мать не даст, – возразил Толян так горячо, как будто сам, дай волю, освободил бы общество от этого мерзавца Кишканова.
– Тогда в ЛТП сдать! Петше, у нас сейчас ЛТП-то есть?
– Только по решению суда, я узнавал, – развеял Толян и этот мираж.
Эсхил задумался. Пожилая дворняга вернулась и привела с собой еще трех таких же. Пристроившись поближе к люкам теплотрассы, собаки сибаритствовали, довольно поигрывая бровями. Через опустевший церковный двор торопливо прохромал дед в штанах с заплатами. Петр машинально отметил, что уже много лет видел заплаты только на картинках.
– Это Валентин, – перехватил взгляд друга Эсхил. – Кстати, бывший муж бабы Клавы, мне отец Даниил еще в первый приезд рассказывал. В сорок первом году Валентину пятнадцать лет было, он на фронт убежал. Воевал, в плен попал. В Германии на мебельной фабрике работал: сначала табуретки делал, потом гробы. Когда баба Клава его бросила, он в храм попросился, так и живет здесь уже много лет, по хозяйству работает.
Валентин вошел в свою сторожку и тут же вышел с лопатой для уборки снега. Неплотно прикрытая дверь распахнулась, он вернулся – захлопнул получше, но за несколько секунд Авдеев успел увидеть все, что стяжал в мире этот человек: лежанку, печку, стул, стол, стопку книг на столе, иконы.
Пройдя на теневую часть церковного двора, Валентин стал сгребать снег.
– Шел бы ты работать, Толян. – Христофоридис кивнул на ворочающийся в проулке самосвал. – Везде объявления – на стройках водители нужны.
– Я чё, как Герасим, на все согласен?! За пятьсот баксов гравий возить?
– Так в такси иди!
– Да нельзя мне за баранку! Не дай Бог, бухой поеду – еще собью кого.
– А ты не садись бухим за руль! – подал мысль Петр. – Хоть на пиво и сигареты перестанешь у матери с пенсии тянуть.
– Может, все-таки со мной, Петше? – показал глазами на церковь Эсхил.
– Я считаю, Бог должен быть в душе, – тактично отклонил предложение Авдеев.
– Это как? Папа, я тебя люблю, но в гости к тебе ходить не буду? Подумай: если бы в твоей душе и правда Бог был, ты бы сам стремился туда, где Его изображения, Его благодать. На самом деле это тебе враг говорит – Бог у тебя в душе.
– Враг – это дьявол, что ли? – сощурился Толян.
Эсхил перекрестился:
– Это он подкидывает тебе мысли, которые ты начинаешь считать своими.
Петр вздохнул:
– Эс, ты сам веришь в то, что говоришь? Какой он, по-твоему, с хвостом и рогами?
– Я, брат ты мой, его, к счастью, не видел. Но верь мне, были люди, которые видели.
– Тогда считай, я еще к этому не пришел.
– Вот-вот, это тебе враг и говорит. Но чтобы прийти, нужно идти. А ты же не идешь.
4
Учредитель «Святоградских ведомостей» Георгий Эмильевич съездил в Финляндию. Он вообще – спасибо, деньги позволяли – часто катался в Европу, считал себя проевропейским человеком и как мог старался европеизировать подвластное ему средство массовой информации. Европеизирование состояло в том, что Двадцать третьего февраля в редакцию приглашали стриптизершу; проникшийся идеями шефа фотограф Санёк пробуравил в мочках ушей тоннели диаметром в мизинец, а сам Георгий Эмильевич велел называть себя просто Жорой.
К слову (снова спасибо деньгам), раз в год медиа-магнат устраивал в загородном санатории двухдневные журналистские посиделки под названием «Медиа-бросок» – совершенно бесполезную болтовню с докладами, кофе-брейками6 и отмеченными символикой мероприятия шариковыми ручками. Посиделки квалифицировались как международные. И не подкопаешься: журналист из Польши и телеоператор из Киргизии – вот они.
По случаю возвращения патрона утренняя планерка проходила под условным лозунгом: «Перелицуем “Святоградские ведомости” в таблоид7». Чтобы потом никто не говорил, что не слышал, помимо журналистов в конференц-зал согнали дизайнеров, корректоров, сисадмина и менеджеров по рекламе. Рассевшимся за длинным столом сотрудникам раздали номера привезенной шефом пестрой финской газеты. С проектора на настенный экран подавались графики и диаграммы. Водя по ним лучом лазерной указки, Георгий Эмильевич вещал про тенденции в области газетного дизайна. Не жалел слов «макет», «контент» и «визуализация».
– Нельзя просто так взять и раскрасить черно-белую газету, – поучал босс. – Речь идет о принципиально иной композиционно-графической модели!
Первые месяцы работы в «Святоградских ведомостях» Петр простодушно покупался на эти упражнения в красноречии, но время шло, а издание как было посредственным восьмиполосником, так и оставалось. Теперь Авдеева разве что немного интересовало, верят ли в светлое будущее вечерки его коллеги или все эти турусы на колесах просто помогают им ощущать себя значимее.
Между тем коллеги лениво перелистывали рябые страницы финских газет, вполголоса обмениваясь «авторитетными» замечаниями. Лесная Красавица с выражением снисходительного профессионализма на лице зачем-то отчеркивала зеленым ногтем протяжные суомские8 заголовки.
Помнится, когда Авдеев учился на филфаке, преподавательница истории КПСС приносила им статью одного всезнайки, подсчитавшего, сколько тонн бумаги и гектаров леса сэкономила советская власть благодаря отмене одной лишь старорежимной буковки «еръ». Выскочка Комарова тут же резанула, что лучше бы этот грамотей вычислил, сколько деревьев повалили наши зеки ради издания никому в таком количестве не нужных «кирпичей» Ленина–Сталина. Комарову тогда даже из вуза не погнали – на пороге уже топталась с невинной физиономией перестройка. А сейчас, отключаясь от начальничьей риторики, Авдеев поймал себя на совершенно идиотской мысли: если сократить все удвоенные буквы в финском языке – вот где будет экономия!
И еще подумалось – во времена его октябрятско-пионерского детства не проходило месяца, чтобы их класс не клянчил по квартирам макулатуру: учителя все уши прожужжали о том, сколько благодаря этой бумаге напечатают учебников. А теперь у него уже лет пять прессуются на балконе номера «Комсомолки» – и хоть бы один скаут заглянул! Да еще через день – полный почтовый ящик рекламных листовок: леса, что ли, в России стали быстрее расти?
– Дизайн газеты – не статичная субстанция! – потряс рукой Георгий Эмильевич, и красный луч зажатой в его кулаке указки изобразил в воздухе фигуру лазерного шоу.
Висевшие в простенке между двумя окнами часы показывали —учредитель заходил на пятидесятую минуту: за это время Авдеев успел бы написать полстатьи про оставшийся без света микрорайон.
– Если хотя бы десятая часть всего, о чем он говорит, воплотится, уже хорошо, – шепнула сидевшая рядом пожилая корректорша, симпатизирующая Петру как наиболее грамотному в редакции человеку.
– В общем, – стал закругляться учредитель, – важно, чтобы на данном этапе мы все усвоили – идея понимания газеты как визуального СМИ в мире становится все более актуальной.
Когда Георгий Эмильевич наконец удалился, сунув под мышку цветастую финскую периодику, а следом ускакали дизайнеры, сисадмин и менеджеры по рекламе, Лесная Красавица по-деловому призвала:
– Ну, пробежимся по прошлой неделе. Тимур! Пишешь про гастроли – надо указывать, во сколько концерты начинаются.
– Согласен, косяк, – прогнусавил субтильный Тимур, откидывая падающую на глаза челку. Этот журналист относился к тому типу парней, что в свои двадцать пять лет носят вязаные шапочки с огромным помпоном и рэперские, обвисшие до колен, джинсы.
Из нагрудного кармана криминального обозревателя Николая Рогова раздался дурашливый холопский голос: «Барин, почта пожаловала! Извольте прочесть». Вечно сонное роговское лицо потревожила улыбка, в неравных пропорциях состоящая из самоиронии и самодовольства, причем последнего было больше. Приподняв тяжелые веки, вальяжный газетчик отключил смартфон.
– Коля! – Чуткое ухо могло уловить в голосе Лесной Красавицы приблатненные нотки. – Твою статью про беременную десятиклассницу, которая с восьмого этажа бросилась, на сайт выложили?
– Еще позавчера, – снисходительно хмыкнул Рогов. – Сразу столько «лайков»9!
Когда Петру, еще не помышлявшему о журналистике, попадались криминальные статьи в «Вечорке», он думал, их автор – бывший милиционер, сменивший пистолет Макарова на компьютерную клавиатуру и теперь борющийся с оборотами русского языка столь же нерезультативно, как некогда – с нарушителями общественного порядка. Нет: оказалось, журналистом Коля работал всю жизнь.
Сейчас Авдеева подмывало объяснить утомленному популярностью Рогову, что, если любой первокурсник журфака, ничего от себя не прибавив, просто напишет в Интернете фразу: «Беременная десятиклассница бросилась с восьмого этажа», «лайков» набежит не меньше. Ну а уж если журналист не поленится и, оторвавшись от стула, съездит поговорить с родственниками и друзьями погибшей…
Тем временем главная редакторша уперлась глазками-точками в Петра:
– Интервью с пенсионерами – это мне назло?
– Конечно, нет, – сразу понял, о чем речь, Авдеев. – Но я же не могу писать про то, что хозяин супермаркета строит во дворе жилого дома автостоянку и вырубает деревья, которые еще в молодости сажали пенсионеры, а с самими людьми не поговорить.
– Это пенсионерское нытье так сажает газету, – расстроилась Лесная Красавица. – Что они могут сказать интересного? —Накануне – перед тем как поручить Авдееву этот материал – она полчаса сердечно слушала старушку, которая пришла в редакцию жаловаться на произвол бизнесмена.
– Уходящее поколение, – поддержал начальницу фотограф Санёк с дырявыми ушами. – Везде влезть надо! Город должен развиваться, становиться современнее. Инфраструктура! Я вон в Берлине был…
– Вот и надо многоуровневую стоянку строить, – возразил Петр. – Зачем площадку у стариков отнимать?
Вместо ответа Санёк, считавший Авдеева странным, пропел:
- Дорогие мои старики,
- Дайте я вас сейчас расцелую.
Лесная Красавица улыбнулась.
– И еще, – ткнула она в писателя пальцем. – Там у вас в статье «Волга» написано с большой буквы, а «мерседес» – с маленькой.
– Видите ли, хотя оба названия совпадают с именами собственными, «мерседес» – исключение из правил… – начала было отвечать за Авдеева сидевшая рядом с ним корректорша.
– Да-да, – перебила начальница, – я что-то такое слышала. Но когда марки машин рядом так по-разному написаны, смотрится плохо – нужно было одинаково.
При этом Лесная Красавица любила потрепаться о засилье непрофессионалов в журналистике…
– А в конце заголовка вместо слова «бесконечность» лично я поставила бы такой специальный значок – восьмерку на боку! – добавила она, для наглядности изобразив желаемое на полях газеты.
– А как называется такой значок? – спросил Петр.
– Это экзамен?!
– Лемниската. Учите матчасть, ведущий журналист Святограда!
5
Ее прозвище – Генка – получилось, скорее всего, из угловатого сочетания имени и фамилии – Евгения Бумагина. Лет с пятнадцати Генка начала мотаться автостопом в Питер – ездила, пока родители-геологи были в поле. Там, в городе на Неве, воткнулась в «систему»10. Из-за своей чрезмерной полноты не комплексовала – вовсю носила расшитые цветами клеши. Про хайратник и феньки11 и говорить нечего. Но настоящей хиппи все-таки не стала – слишком трезвый ум мешал не замечать искусственность движения волосатиков в СССР.
В театральную студию Дома офицеров Генка пришла на неделю позже Авдеева. На день рождения подарила ему ужасного качества черно-белые фотографии битлов и кассету с записью «Abbey Road». Из ливерпульской четверки Петька слышал тогда только про Джона Леннона и Пола Маккартни. Ну, еще, умея сносно рисовать, однажды по просьбе одноклассника изобразил на его сумке надпись «The Bietlas». Что касается дрянного качества фотографий, в советские годы внимания на это не обращали. Увидав как-то одну из них на столе сына, Анна Антоновна наивно поинтересовалась: «Петюша, это твои одноклассники?»
Генка, которой выпало родиться на пять лет раньше Авдеева, жила интересной жизнью. Дома у нее тогда был клуб не клуб, салон не салон, но каждый вечер собирались яркие личности. Сидели в Генкиной комнате, курили, пили сваренный (ни в коем случае не растворимый!) кофе и разговаривали интересные разговоры – про «Сайгон»12, «Рокси»13 и «олдовых»14 хиппи, про Кьеркегора15, дао16 и пьесу «В ожидании Годо»17. Одни уходили, другие приходили. Много позже писатель догадался: родители-геологи терпели эти ежевечерние сборища потому, что понимали: дочку такой комплекции выдать замуж будет нелегко, а так – вдруг кто-нибудь да найдется. Не нашелся.
Юный Авдеев приходил под окно Генкиной комнаты, поднимался на цыпочки и барабанил ногтями по стеклу – ритуал, обязательный для каждого: если все начнут звонить в дверь, самые золотые предки не выдержат. Потом Петька шел направо, к подъезду, а Генка параллельно ему двигалась открывать. Стеснительно поздоровавшись с бумагинской мамой, Авдеев крался за Женей сквозь проходную комнату, где спиной ко входу и лицом к телевизору неизменно покоился в кресле нахохленный отец. К тому времени старший Бумагин уже вышел на пенсию и, пока не шибко сильно, взялся попивать – чекушку каждый вечер за ужином, пол-литра в воскресенье.
В маленькую, два на три метра, комнатенку набивалось по десять человек. Света не включали – в бронзовом, с изображением китайских иероглифов канделябре горели свечи. На магнитофоне крутилась бобина с Майком18, со старых обоев смотрела привезенная из Питера афиша «Аквариума» – «Движение в сторону весны». Распахнутая форточка не успевала вытягивать сигаретный дым.
По мере того как Петька подрастал, собиравшиеся у Генки люди виделись ему все менее яркими, а их разговоры – не такими уж интересными:
– «Сарданапал, надменный азиат, зачем мой шарф служил тебе жилищем?»19 Какой образ – Сарданапал жил в шарфе!..
– Да нет же, Генка, не шарф, а шкаф!
– А-а, так я неправильно услышала! Жаль: «шарф» было бы глубже.
Зато Авдеев стал замечать вечно мокнущее в ванне Бумагиных белье, покрытый жиром кафель на кухне и блуждающих по дому кошек со свалявшейся шерстью – первых, которых ему, завзятому кошатнику, не хотелось погладить. В перестройку выбившийся в бизнесмены Генкин старший брат Дима сделал у родителей кое-какой ремонт. Первые полгода квартиру было не узнать, но потом все вернулось на круги своя…
Кстати, Христофоридис в этот рассадник передовых взглядов почти не заглядывал. Зато часто бывал тут бабник Январев. Однажды он даже завел с Генкой интрижку – так, из страсти к коллекционированию. А та, дурочка, влюбилась и долго страдала.
Иногда она рассказывала Петьке о своих романах – в основном с питерскими рок-музыкантами. Но одни умирали от передоза, другие уезжали за границу, третьи женились. Только не на Генке, а на фигуристых поклонницах. Все любят полных людей за доброту и веселый нрав, но мало кто видел, как размазывают они по лицу слезы бессилия.
Со временем Генкин клуб-салон как-то сам собой рассосался – парни обросли семьями, а умненькие очкастые девахи превратились в старых дев или матерей-одиночек: теперь вместо того, чтобы коротать вечера за чашкой кофе, они устраивали личную жизнь или проверяли у детей уроки. Много лет не заходил к подружке и Авдеев – они случайно сталкивались в городе да переписывались в Интернете.
Сейчас ему было приятно, снова приподнявшись на цыпочки, поскрестись в окно. Потом они с Христофоридисом прошли направо к подъезду, подождали, пока им откроют.
– Да ты еще крепкий старик, Христофор! – толкнула Генка Эсхила в плечо кулаком – пухлым, как надутый целлофановый пакет.
К ногам Авдеева сразу прильнул ласковый зачуханный котюня. В проходной комнате в кресле по-прежнему кемарил еще сильнее нахохлившийся папа. Знакомая келья была оклеена теми же, что и тридцать лет назад, обоями; со стены парусом свисала порыжевшая афиша «Движение в сторону весны», обещавшая выступление легендарной группы в ДК МИИТа. Если честно, Авдееву их музыка никогда особенно не нравилась – набор культурных кодов «для своих», и только. Но сейчас в комнате звучала именно она, и Петр слушал не без удовольствия. Писатель словно в прошлое перенесся, а этого иногда так не хватает. Вот, думаешь, посидеть бы вместе, как бывало, и начинаешь соваться по старым адресам. А люди стали другими: тот – подкаблучником, другой – жлобом, третий – чиновником. Экскурсию в прошлое портили монитор компьютера да стеллаж, где с магнитофонными бобинами в потертых коробках теперь соседствовали компакт-диски.
– Молодцы, что сегодня зашли, – завтра у меня эфир, – похвалила Бумагина, разливая по чашкам кофе. Прорези рукавов ее шелкового кимоно обнажали пудовые, как из гипса вылепленные предплечья. – Наших вообще никого не вижу, только вот Пита иногда, да Анатоль денег на опохмел забегает занять. Потом ботл вайна купит и ходит сияет.
– А ведь он мне звонил, – вспомнил Авдеев. – Говорит: «Петруся, дай телефон грека: пусть в церковь сводит, грехи на мне…»
– Это про какие он грехи? – Прежде чем сесть, Христофоридис выгнал из кресла старую, тяжелую кошку. – Что мать бьет?
– Зеков, говорит, в армии поубивал. У них зона рядом была: пятеро мазуриков сбежали и от ментов отстреливались. А командир знал, что Толян на стрельбу ходил. Ну, наш друг их всех и положил из автомата одиночными.
– Врет, может? – засомневалась Генка. – У него уж, поди, давно «белка» началась.
– Вряд ли, – возразил Авдеев. – Я сейчас вспоминаю – он когда из армии пришел, пытался про каких-то зеков рассказывать, а я внимания не обратил. Теперь вот плачет.
– Это в нем водка плачет, – заключил Христофоридис. – Он ведь мне не перезвонил: значит, протрезвел – и сразу каяться расхотелось.
Из колонок лился вибрирующий тенорок:
- Здравствуй! Я так давно не был рядом с тобой.
- Но то, что держит вместе детей декабря,
- Заставляет меня прощаться с тем, что я знаю,
- И мне никогда не уйти до тех пор, пока… 20
– Шифровка шпионская! – хмыкнул Авдеев.
Генка ринулась на защиту:
– Ты просто его не понимаешь!
– Ну хорошо, о чем эта песня? – поддержал друга Эсхил.
– А о чем детские воспоминания? Сны? О чем рассвет над рекой?
– Так все можно оправдать, – не согласился Петр.
– Не будем трогать Б. Г.21, – пацифистски предложила Генка. – Так ты, Христофор, значит, фильм про греков снимаешь?
– Угу, – причмокнул режиссер. – Сейчас в Геленджик собираюсь. Заодно и родственников повидаю, у меня ведь одна часть предков – выходцы из Константинополя, другая – из Понта. Все, спасаясь, в Россию бежали. Прадед по линии отца в конце девятнадцатого века приехал из Трапезунда с фамилией Кер-оглы, я вам рассказывал. До этого он криптохристианином был. Вопрос на засыпку: кто такие криптохристиане?
– Кажется, что-то подпольное, – зажмурил один глаз Петр.
– Эх ты, писатель! Почти все греки, жившие под гнетом турок, носили их имена и фамилии, но тайно исповедовали православие. Греков насильно заставляли ислам принимать, отбирали у родителей детей, убивали за вероисповедание. Но были и те, кто предпочли принять мученическую смерть, нежели отречься от веры.
«Начинаем греческую басню. Внимай, читатель, будешь доволен», – подмигнула Петру Бумагина.
– Ваша ирония, дорогие мои, тут неуместна, – бросил взгляд исподлобья Христофоридис. – Часто даже те современные люди, которые считают себя православными, думают, что святость – это предназначение свыше и что когда-то для святости были другие условия. А раз так, зачем стараться, ходить в храм, держать посты и не блудить? Для чего напрягаться, если святым все равно не станешь? Но я хочу показать, что святые такие же, как мы, и было это не так уж давно. А российские мученики, которые пострадали после революции! Они жили не в Византийской, а в Российской империи, но также становились криптохристианами, мучениками за веру Христову.
– Эс, руку на сердце – ты сам смог бы совершить подвиг во имя веры? – спросил Петр.
– Не знаю. Сейчас скажу – смог бы, а до дела дойдет…
Авдеев заметил, как Генка подавила зевоту.
– Брысь, Живро! – ободрилась она, когда вспрыгнувший на журнальный столик бомжеватый котенок начал обнюхивать сахарницу.
– Живро – это, наверное, какой-нибудь рокер французский? – предположил писатель.
– Живро значит «живу в России», – отчеканила Генка.
Петр усмехнулся:
– А ты не очень любишь Родину.
– Да, Пит, я не патриот и этого не скрываю! – По нарочито спокойному тону Бумагиной Авдеев догадался, что наступил на больное.
Генка закурила следующую сигарету, Христофоридис прикурил у нее, и в комнатушке сразу стало труднее дышать.
– Патриотизм – это ложь и фарс, – ответила Генка на вопросительный взгляд Эсхила. – Им прикрываются люди, неспособные мыслить и творить. – Она взяла со стеллажа цитатник для работников телевидения и радио, полистала его. – Вот: «Душа и суть того, что обычно понимают под патриотизмом, есть и всегда была моральная трусость»! Не кто-нибудь – Марк Твен сказал.
– Ты передергиваешь, – указательный палец Авдеева задвигался, как автомобильный «дворник». – В Америке тогда негров линчевали и гражданская война прошла, а самого Марка Твена цензуре подвергали, вот почему он так сказал.
– Нет, пиплы, как хотите, а патриотизм – такое же мракобесие, как и религиозность.
Эсхил посмотрел на Генку глазами строгого карточного короля:
– А что ты вообще знаешь о подлинной вере и о Боге, чтобы так говорить?
При слове «Бог» обычно добродушное Генкино лицо затвердело – схватилось, как бетон на морозе:
– Я уже знаю со слов Пита, что ты на православии завернулся.
– Да я просто хочу понять…
– Я не стесняюсь говорить об этом. В моей картине мира Бог совершенно не нужен, моя логическая система не допускает Его существования. Когда я говорю, что не верю в Него, то имею в виду прежде всего Бога как личность. Он же наказывает людей страшно! Но может ли Тот, Который есть любовь, устраивать такое? Любящий не станет подвергать мучениям тех, кого любит, ведь человек сотворен по образу и подобию Божию, следовательно, и Бог должен быть таким же. А если нет, значит, он в лучшем случае отстраненный наблюдатель-экспериментатор, и тогда факт наличия Бога для нас должен представлять не практический, а теоретический интерес, поскольку никакие наши действия не могут привести к тому, что в этой или в следующей жизни он поступит с нами по-другому.
– Но ведь и родители порют своих детей! – ополчился Христофоридис.
Генка нервно схватила полную окурков пепельницу, выкатилась за дверь и быстро вернулась:
– Тут важен догмат о всемогуществе, – брякнула она пустую пепельницу около тарелки с печеньем. – Если бы любящий родитель мог внушить ребенку некие знания без того, чтобы наказывать, неужели бы он этого не сделал?
– А Бог именно так и поступал – первые люди Адам и Ева были как раз такими, много знали. Но, нарушив заповедь, мы утратили канал связи с Богом, и ум человека помрачился. С тех пор мы ведем себя как неразумные существа и виноваты сами, а не Бог: мы рождаемся с приобретенным грехом.
– Тогда почему Он не оградил первых людей от древа познания?
– Потому что, ты сама говоришь, человек создан по образу Божию, а один из элементов этого образа – свобода. А свобода есть там, где есть выбор. Не было бы древа познания, не было бы у человека выбора.
– У нас в эфире недавно врач из хосписа был: люди в таких муках умирают – за что?!
– Болезнь Бог часто посылает во искупление.
– Добрый Бог!
– Волос не упадет с головы человека без Его благоволения! – встал на дыбы Христофоридис. – Мы не можем своими примитивными мозгами судить о Его Промысле. Если болеем, значит, своими страданиями искупаем грехи.