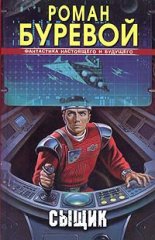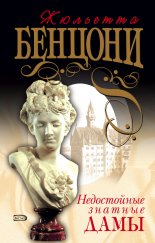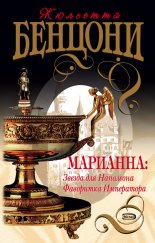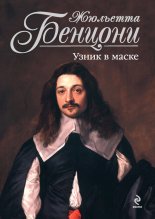Одиссей, сын Лаэрта. Человек Космоса Олди Генри

Еще бы: такая игра!.. Дай только время!
Если Крон-Временщик заодно с Глубокоуважаемыми – время будет. А как же иначе! Сколько надо, столько и будет…
Сверху на лагерь валится подоспевшая толпа: Агамемнон со товарищи. Ага, и Диомед здесь, и оба Аякса, и Нестор-хитрюга… Глядеть надо: затопчут! Ф-фу, остановились. Шум, лязг, крики; что орут – не разобрать. Внизу тоже орут. И глохнут, когда над столпотворением – громом Зевесовым, горным обвалом! – призыв:
– Остановись, сын Пелея! Устами глашатая говорит с тобой Атрид Агамемнон, ванакт богоравный. Дочь подвластна воле отца; смертный – воле Олимпа. Смирись, прибереги гнев для врагов!
Мгновение над полем висит звенящая тишина. Или это после глашатайского баса у меня в ушах звенит? Однако ответ Лигерона не заставляет себя долго ждать:
– Слово ванакта! Ты обещал, Носач!
И неумолимым итогом:
– Мое!!!
Голос малыша срывается, «пускает петуха» – куда ему до Талфибия! – однако и Лигерона слышно всем.
Что за чудеса?!
Нет, не договорятся. Для малыша это – игра! И война, и обручение с дочкой ванакта. А подлый Носач решил сыграть против правил! Поманил новой игрушкой – обманул. Фигушки ему! Играть – так по-честному! Мое!!! А станет Носач дальше жадничать, малыш с удовольствием поиграет с большими дядями в войну.
Какая ему, ребенку-убийце из пророчества, разница: ахейцы, троянцы?
Вот она, упряжка драконья. Примчалась из-под Спарты; вовремя поспела. Вздыбились драконы над пропастью, глаза бешенством горят, а над ними – над нами! – злые крылья Немезиды. Карающий бич Возмездия. На морском берегу, вдалеке от вожделенной Трои; на продуваемом всеми ветрами клочке родной земли под названием Авлида.
…И женщины вина, а не богов, что сгинут и герои, и вожди…
Пучком стрел я засел в каждом: я во всех, все во мне. Люди-муравьи, люди-драконы, люди-игрушки… Люди, забывшие, что они просто – люди! Ведь это же просто! Так просто! Детский плач рвет небосвод в клочья. Вскипает адское варево в Кроновом (Гадесовом? Ареевом? Моем?!) котле; крышку вот-вот сорвет, и кипяток выплеснется наружу, затопив чашу земли. Даже если я останусь жив – моему Номосу не выдержать взрыва. Нет спасительных слов, нет единения моря, песка и неба, любви, безумия и скуки; и предел гремит набатным гонгом, больше похожим на хохот. Он повсюду, отрезая пути в тишину. Некуда бежать, нечем успокоить заходящегося криком ребенка.
Впервые – нечем.
Лишь одно помогает удержаться на грани идущего трещинами Мироздания, удержаться – и удержать его в себе, не дать развалиться окончательно.
Я вернусь.
А раз так, мне должно быть куда возвращаться.
Ослепительная белизна вспыхивает внутри котла, и зрение на миг предает меня. Знакомая резь под веками, звон в ушах, детский плач становится нестерпимым.
Нет, не плач – смех!
Все-таки смех!
Но отчего же от этого смеха мне страшнее, чем от недавнего плача? Или я, безумец, заново схожу с ума?
– …Не надо ссориться. Не надо драться. Слышишь, Лигерончик? Слышишь, папочка? Я согласная! Приносите меня в жертву. Вот, я новый пеплос надела, беленький, чистенький – богам понравится! Только сделайте все красиво! Где жрецы? Почему не поют гимны? Да что ж вы на меня так смотрите? Я согласная! Зовите жрецов…
Зрение возвращается неохотно, хозяином на пепелище родного дома. Видно плохо. Потому что – слезы. Вам бы толченого хрусталя в глаза сыпануть: зарыдали бы! Кровавыми слезами… Молчи, глупая! Внучка Возмездия, молчи! Ты сама не понимаешь, что говоришь! Боги, неужели она всерьез? Неужели взбалмошная дура вот так, с улыбкой, готова уйти в царство теней ради… ради чего? Чтобы мы сейчас не перерезали друг друга?! Чтобы доплыли до Трои – резать других?! Не верю! Она просто не понимает…
Поздно. Драконы увидели возницу! Как тогда, в Спарте – Елену.
– Назад! Мое!!! – безумствует Не-Вскормленный-Грудью.
Шутники бросили в муравейник большеглазую стрекозу. Э-гей, мураши, что делать будем? Добыча, говорите? А чья добыча?.. Ведь вы не усатые твари, вы – герои богоравные! То-то же, давайте, деритесь!
– Замолчи! – К малышу подлетает воин в иссеченном доспехе; кажется, из недавних сторонников Лигерона. – Она сама! В жертву!..
– Мое!!!
Копье пробило воина насквозь; удар отшвырнул несчастного прямо на лагерный алтарь, мгновенно окрасив камень свежей кровью.
– …Ну и зря, Лигерончик. Ты, наверное, не понял, да? Это меня надо в жертву, а не его!.. Вот, смотри, какой пеплос! Нравится?..
О боги, заберите отсюда эту дурищу! Куда угодно – в Киммерию, в Гиперборею, на край света, к берегам седого Океана…
И сердце зашлось восторгом: вот оно! Есть выход! Есть дорога в тишину. Есть способ угомонить истерику ребенка там, у предела, оборвать дикий смех, раздирающий мне уши хуже любого плача! Нам нужно чудо. Нам всем необходимо чудо! Ведь сейчас чудеса стали обыденностью, мы видим их по сто раз на дню, забывая изумляться; ну пожалуйста! – маленькое, крошечное, пустяковое чудо: пусть Ифигения сгинет отсюда на веки вечные!..
Просьба? Приказ?!
Шепот? Внутри или вовне?!
Какая разница, если я кричу, кричу во всю глотку – и меня слышат! меня слушают! мне верят! сотни душ подхватывают, делая своим, выстраданным:
– Сгинь! исчезни! На край света! В Гиперборею!.. К эфиопам! В Киммерию!..
Раскрылись в беззвучном вопле: микенский ванакт, тайком проклиная свою затею, побратимы-Аяксы, машет пухлыми ручками добряк-Паламед, вечно притворяющийся стариком Нестор забыл о «кашле» и слабом горле, вспухли жилы на лбу Диомеда…
И Номос раскрылся!
Впервые я увидел его целиком, со стороны – может быть, так видят высоко парящие птицы или Глубокоуважаемые из заоблачных высей эфира. Я видел воды древнего Океана, омывающего края земной чаши, – и там, за этими водами, не было ничего! Я видел причудливо изрезанные берега Большой Земли, опухоль Пелопоннеса, зеленое пятнышко родной Итаки, троянский берег, где ждал меня самый шустрый пергамский копейщик, – и дальше, дальше: восток киммерийских степей, блаженные края эфиопов и гиперборейцев, Край Заката, где начинается царство мертвой жизни…
Одиссей, сын Лаэрта – нас стало двое.
Всего лишь двое.
Один рыжий басилей вместе с остальными, разинув рот, смотрел, как вокруг девушки в ослепительно-белом пеплосе сгущается темное облако; как, заключив в себя внучку Немезиды, морок взмывает ввысь, к затянутому тучами куполу небес, и стремительно уносится на восток.
А другой рыжий басилей тем временем наблюдал из горних высей, как растерянно улыбающаяся Ифигения несется через простор Номоса, перечеркивая его невиданной стрелой – и, лишь самую малость не дотянув до пределов Океана, валится буквально на головы каким-то людям, собравшимся у жертвенника в далекой Киммерии!
Нас было двое – стал один.
Авлида, лагерь мирмидонцев
– Боги! Великие боги! Ее забрала Артемида!
– Афина!
– Зевс-Громовержец, отец благой, внемли с высот эфира…
– Лань! Лань на алтаре!
– Медведица!
– Жертва принята!!!
– Знамение!
И, итогом корифея:
– Вперед, на Трою!..
Может, кому-то и довелось лицезреть лань Артемиды на обагренном кровью жертвеннике, с которого уже успели стащить убитого малышом воина. Лань, медведицу, светлое копье Афины Паллады или одобрительный кивок Громовержца…
Мне же открылось другое.
Большая, аспидно-черная змея с шипением сползла с алтаря. Оглянулась на меня, дрожа раздвоенным жалом, и разом втянулась в какую-то щель. Обернувшись, я встретился взглядом с Калхантом. Желтые искры на сером фоне. Золото в грязи; волнение на дне бесстрастности. Долго, очень долго мы молча смотрели в глаза друг другу; потом едва заметно кивнули. Нам явилось одно и то же; жаль, я не прорицатель.
Я даже не герой.
Эпод
Итака
Западный склон горы Этос;
дворцовая терраса
(Сфрагида[22])
…Истекаю памятью.
Пурпур с серебром.
Раны заживают быстро. Чистые раны вообще заживают быстро: стягиваются края, унимается кровотечение, прошедшее давно приникает к прошедшему недавно, бывшее со мной – к услышанному между делом… Тени жалобно скулят, прячась по углам. Они не хотят пить. Они не хотят вспоминать. Встретить бы того шутника, кто придумал для них (для нас?!) эту вечную, неутолимую жажду! – уж он бы у меня напился вдосталь…
Только одна тень всегда рядом.
Мой Старик.
Знаешь, вечный спутник, до рассвета мне надо успеть вернуться. Иначе утром я выйду к ним: к утомленному годами отцу, жене со взрослым сыном, к моим долготерпеливым соотечественникам – я выйду, они увидят меня такого, какой я есть, и возвращение навсегда превратится в ложь.
Ложь под названием: «Храм Одиссея Возвращающегося».
Ветер ловит светляков в кронах тополей. Взвизгивает, порезавшись острым краем листа; дует на рану и снова бросается в погоню. Зеленая звезда, берегись – поймает. В бухте пенится вода, курчавясь от удовольствия. В Гроте Наяд летают праздничные кольца, танцуя над призраками нагих дев. Ожидая любящей стрелы – насквозь. Не лги, мой Старик, я же вижу: ты счастлив. Ты знаешь что-то, чего я еще не знаю.
Всему свой срок.
Мне еще только плыть под Трою… мне еще…
Из Авлиды в числе первых эскадр отбыло чуть больше половины войск. Под командованием мрачного Диомеда, хотя публично лавагетом был провозглашен малыш Лигерон. Он был счастлив. Каверзный Носач решил загладить вину; взамен пропавшей игрушки дал другую. Это по правилам. Вот: скипетр лавагета, и приветственные клики воинов, и венок на кудрявой голове.
Все честно, играем дальше.
Сам микенский ванакт задержался на неделю. Собрать последние силы, дождаться тех, кого время попутало не в пример остальным (ошалелые симейцы с гиртонянами вернулись в Авлиду лишь назавтра после мятежа!).
– Дядя Одиссей, я теперь самый главный? – спросил меня малыш, когда я уже готов был велеть поднимать якоря.
Он нахмурил лоб, став чудовищно похожим на рыжую девицу, каким я видел его на пляже Скироса; и честно поправился:
– Ну, почти самый? Да?
– Да.
Лигерон просиял. Ударил меня по плечу от избытка чувств; забыв о титуле лавагета, прошелся колесом – мои свинопасы с одобрением цокнули языками. Никто из них не сумел бы повторить подвиг малыша, будучи в полном доспехе.
– Дядя Одиссей, мне надоело играть. Я устал. Я боюсь, что выиграю.
– Не бойся.
– Дядя Одиссей, здесь скучно. Это плохая игра. Можно, я поиграю во что-нибудь другое?
– Поиграй в царя мертвецов…
Погода была изумительная. Добрый ветер, чистое море и никаких знамений-видений. Любой из гребцов то и дело задирал голову, вглядывался и многозначительно хмыкал. Тревоги с несчастьями остались позади, впереди ждали троянские сокровища, вечная слава и заветная тысяча убитых врагов. Даже мне передалось общее возбуждение. Я радовался, когда мы вовремя миновали Скирос, когда в свой срок по левому борту возникли утесы Лемноса – в сизой, голубиной дымке, на рубеже Фракийского моря; просто и тихо я радовался, не сталкиваясь с буйным «Арго», не видя полета гарпий и трагической смерти Тезея-Афинянина, опрокинутой из вчера в сегодня.
Мой Старик, тогда ты был хмур, сидя на кормовой полупалубе, а я радовался. Сейчас ты радуешься, а я хмурюсь. Мы оба узнали вечную истину. Сунули ее за щеку, словно мальчонка – красивый камешек, подобранный на берегу. Надо уметь радоваться просто так, не заглядывая поминутно вперед и не оборачиваясь через плечо. Иначе в чашу чистого вина щедро сыплется песок предчувствий и глина надежд. Горечь и несбыточность вперемешку. Хлебнешь – зайдешься кашлем. Лучше сначала выпить вино, а глину с песком насыпать потом, в опустевшую чашу.
Ведь это же очень просто?
Первая стычка произошла на малом островке Тенедосе, у самых берегов Троады. Скорее всего, сторожевая застава не успела удрать домой с вестью о нашем приближении. Или не захотела удирать, ибо при виде ахейских парусов у них взыграло сердце. Со скал градом посыпались камни и дротики, пришлось высаживаться – не оставлять же за спиной эту заразу? Позже сказали: тенедосцами командовал родной сын Аполлона. Скорее всего, так оно и было, потому что Не-Вскормленный-Грудью безошибочно отыскал предводителя в гуще рукопашной. И, не тратя времени на других защитников острова, всадил меч ему в грудь.
Мне всегда казалось: у малыша чутье на серебро в чужой крови.
Он, помнится, был единственный, кто обрадовался очередной змее. Заплясал, стал смеяться. В ладоши захлопал. А мы все молча глядели на алтарь, еще не остывший от жертвы. Чешуйчатое тело свилось малым критским узлом поверх освященного камня; откуда явилась змея, никто не успел заметить. «Ужалила! ужалила!..» – не вынеся гнета тишины, завопил какой-то жирный олизонец, жутким диссонансом наслоившись на хохот малыша. Позже этот олизонец спрятался в скалах, угрожая пристрелить всякого, кто потащит его на «проклятую войну».
– Люди боятся, – буркнул Диомед, проходя мимо. – Трусливая скотина утверждает, будто у него – лук и стрелы Геракла. Кому охота подставлять задницу под Лернейский яд?
– Никому, – согласился я. – А у него на самом деле Геракловы стрелы?
– Да вроде бы. Перед смертью подарил, что ли?.. За услугу.
– За какую услугу?
– Костер помог разжечь. Погребальный.
Руки чесались выволочь олизонца из укрытия. Но нас ждала Троя. Я спрашивал многих: они ничего не помнили. Высадка на мисийском берегу, который мы приняли за долину Скамандра, начисто выветрилась из памяти большинства. А жаль. Потому что, когда мы подошли к берегам Троады, все случилось именно так, как я предчувствовал.
Как уже было однажды.
…высадка срывалась, под ливнем дротиков, под дождем камней, под ослепительно-синим небом, похожим на чей-то взгляд, только я забыл в суете – чей?.. «Дядя Диомед! – взвилось от эскадры мирмидонцев. – Дядя Диомед! Я! Пусти меня!..», и почти сразу, медным приказом аргосского ванакта: «По вождям! Бейте по вождям!» – кинув через голову перевязь колчана, я ринулся наверх, в «воронье гнездо»…
Змеи на алтарях. Клубятся, плетут сети. Где хвост? Где голова? Не разобрать…
…Я раздавал стрелы легко и празднично, превращая крик в хор, а часть кораблей уже затопила берег, и Протесилай-филакиец первым убил и первым умер, когда копье лавагета Гектора Приамида вонзилось ему в бок, только это не имело значения, ибо малыш Лигерон дорвался наконец до заветной игры…
Кипит вода в Кроновом котле. Варятся щедрые приношения. Где вода? где дары? Не разобрать…
…«Бей по вождям!» – мы били, вознесенные над людьми, и Тевкр Теламонид соперничал со мной в меткости, а мне все казалось: мы стреляем, стоя бок о бок в небесах, хотя мы находились на разных кораблях, и я видел, когда нельзя было видеть, попадал, когда можно было лишь промахнуться, и судорожно пытался понять, зная, что понимать – не для меня…
Вода в котле. Змеи на алтарях.
Мы под троянскими стенами.
Амнистия скоро кончится.
Есть места, куда страшно возвращаться. Родные, знакомые места – страшно. До жути, до ледяного кома в животе. Но стократ страшней высадки под Троей, прожитой дважды в мелочах, во всех подробностях, – возвращение в лагерь мирмидонцев, за миг до исчезновения девушки в белом пеплосе. Ведь тогда мне казалось, что есть еще один выход: простой, обыденный, лежащий на поверхности – только протяни руку за иным чудом!
Я едва не протянул руку.
Чтобы взять лук.
…Я, Одиссей, сын Лаэрта.
Я вернусь.
Песнь вторая
Я научу вас воевать по-человечески!
Ф. Кривин
- Одиссей не странствовал по свету —
- Он всю жизнь просидел в окопах.
- Шла война, гремели залпы где-то,
- Ожидала мужа Пенелопа…
Строфа-I
Общий у смертных Арей…[23]
Дождь смывал людское непотребство.
Дубовые листья шелестели под лаской капель, отдавая впитавшиеся за день крики, стоны и брань. Кроны могучих патриархов вновь становились зелеными, избавясь от суетной пыли, а вода в болотистом Ксанфе как была испокон веку бурой, оправдывая название реки[24], так и осталась – тут уж ни убавить, ни прибавить, хоть алой крови плесни, хоть серебряного ихора. В чащах Идских предгорий блуждало затравленное эхо, слабея с каждым новым отзвуком: память битвы искала место для ночлега. Воронье опасливыми струйками дымилось в небе, коптило облака, круто просоленные испарениями моря и боевыми кличами. Птицы боялись поверить в удачу: слишком много людей внизу. Слишком – и мертвых, и живых. Вон, ходят… собирают друг дружку. Плащи на копья, тела на плащи, ношу на плечи – и неси, пока силы есть! Наверное, сами решили пир на весь мир устроить, а бедным воронам опять мотайся в поисках пропитания!..
Жадная тварь – люди.
Окутанный сумерками, Одиссей брел к ахейскому лагерю. Нога за ногу, никуда не спеша. Со стороны Трои. Если лишний раз не озираться, портя себе желчь, можно даже сказать: домой из гостей. Сытый, слегка пьяный; ужасно хотелось спать. Предлагали колесницу – отказался. Пешком, значит, пройдусь; с ветром в обнимку.
Менелай с Калхантом-пророком выбрали колесницу.
Гнушались бить ноги, а вернее сказать: хмель ударил в головы.
Отличная война. Чудесная война. Замечательная. Если кто до высадки опоздал в полной мере ощутить себя героем от роду-веку – ощутил. Выпятил грудь, расправил плечи: я! богоравный! Время от времени грозит кулаком на восток: взойдет назавтра солнце – испугается. Играет в жилах серебришко наследственного ихора, бренчит-пенится. Кипит пузырями. Правда, троянцы благополучно успели запереться в городе, но это пустяки. Возведенные богами стены неприступны, но это тоже пустяки. Приятно воевать с понимающим врагом. Вот, явились послами, кленовыми ветвями махнули – встретили, как родных. Открыли ворота; не дожидаясь глашатайских воплей, собрались на площади перед храмом Афины-Промыслительницы. Да, конечно, два дня перемирия. Кто спорит?! Да, разумеется, тела погибших всенепременно надо предать огненной тризне, а души – успокоить поминками. Убитые прежде всего. Мало ли кого убьют завтра? – мы должны быть уверены в светлом будущем наших теней!
Менелай так расчувствовался, что даже предложил покончить дело миром:
– Верните жену, и я все прощу!
Пока готовилась обильная трапеза, обсудили идею. Всячески одобрили: худой мир лучше доброй ссоры. Но беглую супругу не вернули – Парис, знаете ли, возражает, да и вообще. Понимаешь, дружище: теперь-то какой смысл? Не срывать же такую чудесную, превосходную, архизамечательную войну?! Кое-кто даже сгоряча, от всей хлебосольной души, выдвинул ответное предложение: казнить послов по окончании торжественного пира. На всякий случай, дабы ахейцы уж наверняка никуда не делись. К идее упреждающей казни возвращались не раз: под соловьиные языки, под фазанов в сметане. Смеялись. Тыкали пальцами в весельчака: ишь, удумал! казнили их, брат, уже! а чего вышло?! Одиссей смеялся вместе со всеми. Рядом на скамье ерзало ощущение собственного бессмертия, подливая в чашу: налей-ка, братец, вина мне в кубок, пока мы живы, помянем мертвых…
– Дарю! – и драгоценный кубок сменил владельца: седого на рыжего.
Местные рапсоды драли струны и глотки, воспевая силу Трои. Отдали дань союзникам: ликийцам в волчьих плащах, копейщикам-пеласгам, пеонским лучникам. Не забыли и досточтимых гостей (раз перемирие, значит, покамест – гостей). Помянули мощь Аякса-Большого, неукротимость малыша Лигерона, воинское мастерство Диомеда-аргосца. Одиссеево хитроумие прославлялось в паузах: общим числом – трижды. Кругом сидели люди, чьих братьев, родичей, друзей сегодня днем настигали отравленные стрелы сына Лаэрта. И никто! Ни словечком!.. Ни единым косым взглядом!..
Отличная война. Прекрасная. Душевная.
Лучше не бывает.
Это сейчас я умный. Пусть даже я заблуждаюсь, и на самом деле сейчас я полный дурак, преисполненный козней различных, – все равно. Вороном в небе, сиренью вечерних облаков я парю над собой: маленькая фигурка бредет от Скейских ворот к бухте, где ждут корабли. Мы разделены и в то же время едины: Одиссей, сын Лаэрта, и Одиссей, сын Лаэрта. Наши ожидания обмануты – война оказалась милейшей подружкой. Совсем не старой, крутобедрой, полногрудой: люби, не хочу. Наши стрелы бьют без промаха. Наш удар неотразим. Наши враги обаятельны и предупредительны.
Мы едва не взяли город с первой попытки.
Проклятое слово «едва» мерзко скрипит на зубах. Я иду домой: корабельная стоянка теперь – мой дом. Я парю в небесах: почему бы и нет? Я вспоминаю; я живу заново. Жду бранного праздника: два дня перемирия – малый срок ожидания. «Славно, славно…» – бормочу себе под нос, начиная задумчиво хромать. Действительно славно. Вокруг славы – хоть лопатой греби.
Вокруг герои собирают героев: каждый – своих.
Чужих подберут другие герои.
«…герои выигрывают битвы, но не войны. Думаете, почему великого Геракла наголову разгромили в Элиде?»
Да, дядя Алким. Я помню.
«…и Геракл отступил; впрочем, как я полагаю, ненадолго, ибо с некоторых пор он все больше человек и все меньше – герой».
Да, дядя Алким, я знаю. Веришь, меня однажды сравнивали с ним! – нет, ты взаправду веришь? или только делаешь вид?!
«…даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия; это будет толпа героев-одиночек. Жуткое, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование…»
Да, мудрый дамат. Я вижу.
Ты был прав: чтобы участвовать в Троянской войне, тебе вовсе не обязательно размахивать копьем с колесницы. Тебе даже жить для этого не обязательно.
«Вот и славно, мой басилей…»
Троада
Сигейская бухта, Гераклов Вал
(Хоэфория[25])
У Гераклова Вала Одиссей замедлил шаги.
Сборщики тел сюда еще не добрались, предусмотрительно решив начать издалека, от городских стен, но здесь и не было много убитых. Так, первенцы кровавой свадьбы. Предчувствие сдавило сердце косматой лапой; гулко застучало в висках. Хмель выветрился, оставив после себя пустоту; и там, в дышащей холодом бездне, начали роиться трезвые страхи. Смерть без имени – не смерть. Ребенок радуется повести о гибели армий, но заходится в рыданиях над могилой родной бабушки.
Вот смерть.
А вот имя: Протесилай из Филаки.
– Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
– Нравишься… Ты мертвый, да?
Филакиец лежал на краю полуобвалившегося рва. Скорчился по-детски; поджал колени к груди. Словно пытаясь удержать последние крупицы живого тепла. Так спят на рассвете, когда одеяло сползло на пол, а от залива тянет рыбьим одиночеством – только спящих на рассвете не перечеркивает обреченность копейного древка. Ближе к насыпи валялся, наполовину втоптанный в песок, знакомый щит: зеленая звезда на фоне ночного неба. Этот щит прикрывал сбоку лотос-кархесий[26] на мачте «Пенелопы»; во время высадки я сорвал его и, плохо соображая, что делаю, швырнул вниз, под ноги бешеному филакийцу. Кажется, я даже что-то кричал, надсаживая горло. Может быть, хотелось помочь Протесилаю: свой собственный щит он впопыхах забыл на корабле. Или думалось обмануть воинское суеверие: первая жертва – тот, кто первым коснется вражеской земли. Пусть же под ногами Протесилая окажется не земля – мой щит!
Обмануть не вышло. Иолай Первый, он и здесь оправдал имя.
Иолай-Копейщик – и здесь.
Пожалуй, мой Старик поступил верно, обогнав меня. Я пошел следом за вечным спутником, чувствуя, как время закручивается хороводом одержимых менад: Троада, Гераклов Вал, вечер, бывший возница Геракла с копьем в боку… Зажмурился на ходу, отсчитывая десяток шагов. Еще с детства загадывал: не споткнусь – значит, все будет хорошо.
Споткнулся.
На седьмом.
Убить гидру, крушить амазонок, спускаться в преисподнюю и подниматься в эфир; быть другом и родичем эпохи, могучей эпохи, превратившейся сперва в костистого старика, в плач на окраине Калидона, а потом в дым костра (р-радуйтесь, сволочи!..) – чтобы лечь из-за проклятой бабы и проклятой клятвы на никому не нужном берегу… «Живи долго, мальчик!» – двойное напутствие. «Буду жить долго», – молча поклялся я, открывая глаза. И споткнулся еще раз, потому что увидел: копье торчит рядом с недвижным Протесилаем. Из насыпи.
…не задевая тела.
Ноги превратились в ременные плети. Затаив дыхание, я до рези под веками вглядывался: правда? правда! Кто-то другой уже несся бы слушать сердце, звать подмогу – я медлил, не двигаясь. Живые лежат иначе. Живые стонут. И еще: была в происходящем тайная несообразность, червоточинка, мешавшая действовать вслепую.
Вон, даже Старик ближе не подходит.
Топчется, морщит брови.
– Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
Детская тень задергалась на земле. Сперва Одиссей решил, что виновато солнце, моргающее на западе, прежде чем свалиться в седую купель Океана. Но вскоре стало ясно: солнце ни при чем. Тень ребенка пыталась двигаться. Пронзенная дважды – копьем и тенью копья, – она хотела оторваться от недвижного хозяина, прекрасно сознавая всю тщету своего желания. Дети часто поступают так: упрямо, капризно, повторяя обреченную на провал попытку раз за разом…
«…кто первым коснется вражеской земли…»
Это счастье, когда тебе судьбой не дано понимать. Истинное счастье. Ведь тогда ты можешь тихонько засмеяться, подойти и совершить чудовищно глупый поступок. Если хотите, подвиг. Ну скажи на милость, хитроумный Одиссей, зачем тебе понадобилось выдергивать из насыпи копье? Не знаешь?! Правильно делаешь. Просто выдерни и выбрось. Без смысла, без раздумий и колебаний.
Отброшенное в сторону копье упало мягко, еле слышно.
…А тень копья осталась. Тень копья, и пронзенная ею тень ребенка, отбрасываемая взрослым мужчиной.
Почти отброшенная; как и копье – прочь.
– Ты мертвый, да?
Вот тогда-то мой Старик подошел, взялся обеими руками – и, откинувшись назад всем мощным телом, выдернул тень из тени.
Копье из мальчишки.
Память ты, моя память. Лучше бы мне все это приснилось. Странный человек, впервые встреченный в Спарте, ничего не значил для меня. Мать, отец, жена, сын, друзья и случайные попутчики… нет. Не из моей жизни; из другой, где гидры. Я его даже попутчиком затруднюсь назвать: филакиец торил свой путь, давний, скользкий, и на этом пути мне отводилось мало места, как ему – на моем. Иногда кажется: сон, бред… темная греза.
Сон о детской тени и тени копья в руке моего Старика.
Бред о малом кенотафе, который я выстроил тут же, на щите с зеленой звездой вместо фундамента. Сбегал к излучине Скамандра за водой, накопал жирной глины; камешков вокруг и без того навалом…
Темная греза о тризне, когда я отпел убитого Иолая, трижды назвав его по имени, – и на третий раз дитя-тень доползло до рукотворной гробницы. Встало сперва на коленки, затем во весь свой малый рост… исчезло.
Чувствуя себя мокрой тряпкой, я обернулся.
– Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
– Нравишься… Ты мертвый, да?
Филакиец уже не лежал. Сидел, потирая левый бок. Насмешливо глядел на меня, только насмешка его была… Фальшивая подделка. Нас, безумцев, не проведешь. А по обе стороны Протесилая, уже безо всякой насмешки, истинной или ложной, смотрели они: мой Старик и тощий бродяга-Ангел.
Вопрос без ответа и ответ без вопроса.
А я вдруг захихикал. Нет, ну смешно ведь: словно в два бронзовых зеркала гляжусь… в два кривых зеркальца… смешно!
– Ты посмейся, – разрешая, сказал Ангел. Почесал хрящеватый нос и кивнул своим мыслям. – Посмейся, а потом иди спать. Ничего не было. Ничего ты не видел. Понял?
– Нет. Не понял.
Ангел резко встал; шагнул ко мне. «Стой! Зачем?!» – толкнулось вслед предостережение воскресшего филакийца, но Ангел остановился сам.
Правая рука его удлинилась.
Змеи с жезла зашлись яростным шипением. А я, дурак дураком, стою на смутной дороге; хихикаю. Нет, ну смешно ведь: змеи! шипят! то с алтаря лезут, то на жезле вьются! Чистый гадюшник! Зачем-то потянулся домой, на Итаку; взял лук. Мне его любимый дедушка подарил. Повертел-повертел, даже тетиву натягивать не стал. Обратно бросил.
«Нарушивший клятву черными водами Стикса бог на год погружается в мертвый сон и на девять лет изгоняется из мира живой жизни. Никто и никогда не слыхал о клятвопреступниках, вернувшихся после отбытия срока наказания…»
– Ничего не было, – с нажимом повторил Ангел, бледнея. – Ничего ты не видел. Понял?
– Нет.
– Почему?
– Я не умею понимать. Извини.
Исчезли змеи, исчез жезл. Синие глаза Ангела мерцали странно; удивленно мерцали они и еще чуть-чуть опасливо. Словно хорек-самец увидел хореныша с ядовитыми клыками. Гордиться бы, да не получается.
– А что ты умеешь?
– Слышать умею. Видеть. Чувствовать и делать.
– Меня слышишь?
– Да.
– Нас видишь?