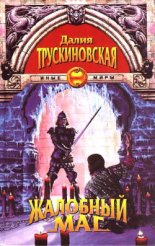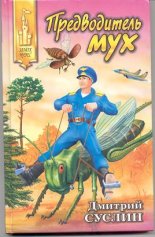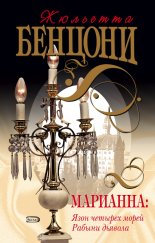Русская кухня в изгнании Генис Александр

Петр Вайль
Кулинарная империя двадцать лет спустя
Оказывается, быть одним из авторов книги, посвященной кулинарии, – непростое и ответственное дело. Сколько раз за прошедшие с первого издания годы приходилось попадать в дома, где восторженно говорили: «А у нас сегодня обед исключительно по вашим рекомендациям». После этого ничего не оставалось, как только с лицемерным урчанием поглощать несъедобную бурду, размышляя о том, что и так, в сущности, известно: нет рецептов радости, есть умение ее создавать.
Это умение в массовом масштабе немыслимо без включения еды в общекультурный обиход. Когда в 1990 году московский еженедельник «Семья» предложил нам публиковать главы из «Кухни», мы смутились, и не зря: письма в газету поступали свирепые – авторы, к их счастью, жили в Нью-Йорке, не достать. В том 90-м я с легкостью подсчитал весь ассортимент двухэтажного столичного гастронома «Новоарбатский»: продуктов было два (повторяю – два) – хрен в банках и в банках же икра из тыквы. До сих пор оторопь берет от безумной отваги редакции «Семьи», не побоявшейся распространять невиданные и часто неслыханные вкусы своим пятимиллионным тиражом.
Года три назад в Новосибирске в ресторанном меню прочел: «Водная фантазия. Традиционное русское ассорти из копченой рыбы, устриц и осьминога». То, что по сути достойно ядовитой насмешки или праведного негодования, вызывает искреннее воодушевление. Повальная кулинарная эклектика, грандиозный всероссийский fusion – огромный шаг вперед от гастрономической аскезы долгих десятилетий. Не то чтобы в России когда-нибудь переставали любить вкусную еду – но говорить об этом вслух, и тем более печатно, было не принято.
Редко бывает, чтобы у книги так кардинально изменился читатель. «Кухня» писалась в Нью-Йорке в течение 1985–1986 годов (впервые вышла в Лос-Анджелесе в 87-м). С тех пор русский читатель переменился и количественно и качественно. Ведь то, что было запрещено по политическим и идеологическим мотивам, так или иначе читалось – пусть и тонкой прослойкой, которой были доступны Самиздат и Тамиздат. Читать же, писать и говорить о еде не велено было куда более мощным запретом – давней российской традицией. Даже в русской словесности беззаботно едят, пожалуй, только герои Гоголя да отчасти Чехова. У Толстого, Достоевского и дальше, дальше – обычно едят мотивированно: идеологически, социально, классово. Любимый гурманами Гиляровский – физиология города, этнография; его застолья – общественно звучащие, жующие в такт идейным движениям. Просто писать про это не позволял принцип деления культуры на высокую и низкую. Советская власть такую оппозицию лишь закрепила. Официозный примат идейности совпал с интеллигентским кодексом духовности. Пустыня, выжженная этикетом страха и стыда, орошалась лишь обязательной бутылкой кефира (с батоном) в руках положительного киногероя, будь он каменщик, художник или физик.
Первую трещину этот монолит дал с явлением Вильяма Похлебкина в конце 60-х. Он стал первопроходцем и первооткрывателем для поколений, выросших на псевдонаучных сентенциях: «Питание является одним из основных условий существования человека», почитавших Молоховец музейным экспонатом. Похлебкин учил не столько правильно готовить, не столько вкусно есть, сколько – вкусно и правильно жить. Эти книги непринужденно и наглядно ставили кулинарное искусство на его подлинное место рядом со всеми каноническими видами творчества.
Похлебкин опередил время. Дело сильно сдвинулось лишь в конце 90-х – в России наконец перестали стесняться говорить о вкусной еде: в изобилии кулинарные книги и рубрики в журналах, телепередачи (которых больше, чем нужно, – вечный российский перехлест).
Гастрономическая образованность распространилась, и даже те, кто так никогда и не пробовал авокадо, уже знают, что это не имя персонажа из телесериала. В больших городах главный секрет японской кухни – лингвистический: как все-таки правильно – суши или суси. Обский осьминог только веселит, но не поражает.
Еще раньше в стране появилось новое знание об алкоголе. В моем поколении основным напитком был портвейн. Амброзией российского алкаша стал «Солнцедар», который делали, укрепляя до 19 градусов, из алжирского вина, пригоняемого в тех же танкерах, в каких в Алжир доставляли нефть. Запахом и вкусом это напоминало пищевые отходы, но славно шло под плавленый сырок за 11 копеек. Такой опыт хорош тем, что ниже опуститься нельзя. Отсюда – только взлет. Скажем, в Португалию, куда можно и не ездить, чтобы узнать: столица портвейна – не Агдам, а Порту. Это как если бы людоед с восторгом убедился, что можно есть курицу.
Несмотря на явные успехи в алкогольно-гастрономическом просвещении, отсутствие винных навыков тормозит развитие русской кухни. А теперь даже мукузани и алиготе – импорт. Ведь не зря в Европе (а Россия тут, как и в других культурных областях, часть европейской цивилизации) лучшие кулинарные достижения принадлежат народам, пьющим вино. Вино – необходимая часть трапезы. Пока это не станет повседневной практикой, не будет настоящего кулинарного искусства.
Похлебкин подкупающе лестно помещал русскую кулинарию в мировой контекст. Нам далеко до Франции на западе или Китая на востоке, русская кухня не входит в число международно признанных, но есть в ней несравненный закусочный стол, есть щи, есть уха – единственный в мире прозрачный рыбный суп (остальные – заправочные: например, буайбес или его отдаленный аналог, рыбная солянка). В ухе – лаконичность и минимализм японской живописи. Достижение русской культуры, которым можно гордиться, как рассказами Бунина или храмом Покрова-на-Нерли.
Многое из того, что почиталось некой обобщенной русской кухней в те времена, когда мы писали книгу, ушло за границу. Пельмени – с некогда завоеванных уральских и сибирских территорий – держатся в составе обстриженной по периметру страны, но множество вкусных приобретений – уже иностранщина, made in… Борщ и вареники – в некогда присоединенной, а потом отсоединившейся Украине. Копченая рыба, килька, лучшая селедка – в утраченной Прибалтике. Шашлык, сациви, лобио, долма – порождение теперь в лучшем случае чуждого и нейтрального, в худшем – враждебного Кавказа. Закусочные помидоры, баклажаны, патиссоны – в Молдавии, которая не Приднестровье. Плов – в местах, расположенных между экзотической диктатурой и экзотической цветочной революцией.
Все названное – из меню общепринятого русского застолья: от повседневного до праздничного. Дивным образом, несмотря на социальные катаклизмы, такое содружество продолжает сосуществовать. Больше того – расширяться за счет новых кулинарных экспансий. Только тут и осталась империя – за накрытым столом.
Прага, 2006 г.
Александр Генис
Тень обеда
Говорят, что в Америке XXI века повара стали тем, чем в ХХ были актеры и рокеры, – звездами массовой культуры. Выйдя к экрану, не отходя от плиты, они превратили трапезу в зрелищный спорт. Но мы-то, перепутав ностальгию с закуской, сели сочинять «Русскую кухню в изгнании» 20 лет назад, когда хлеб в Америке был квадратным, огурцы не умели заразительно пахнуть, а ближайший магазин с хорошей селедкой находился в Голландии.
За все прошедшие годы (и издания) эта книга никого не отравила, разве что – авторов. Нам она и впрямь стоила дорого, ибо заслонила почти все, что писалось до и после. И это притом, что начало было драматическим.
Первой попав на родину, «Кухня» нашла себе приют в самом дерзком перестроечном издательстве. Бросив прежней системе вызов (в том числе и нашей книжкой), оно впервые объединило поэтов с буржуями, или, как тогда говорили, – писателей с кооператорами. Советская власть была еще жива, но уже дышала на ладан. Поэтому книгу напечатали приличным тиражом, но на жидкой бумаге цвета солдатского полотенца. Хуже, что типография располагалась на берегах неспокойного Днестра. В результате характерного для смутного времени недоразумения отпечатанный тираж отправился в Москву как раз в том поезде, что остановили улегшиеся на рельсы участники конфликта. Пока они не встали, вагон с нашим кулинарным опусом не мог добраться до столицы, которая, впрочем, без этой книги могла смело обойтись, потому что есть тогда в Москве было решительно нечего.
В издательстве нас встретили радушно и даже заплатили половину гонорара. Деньги, напечатанные на той же бумаге, что и книга, вызывали сочувствие: Ленин на них двоился и хмурился, словно знал, что его ждет. Зато рублей было много – по карманам не рассовать. Хорошо еще, что из-за атавизма у нас сохранилась авоська. Гуляя по городу, мы честно несли ее по очереди, боясь глупо выглядеть с сеткой денег, но вскоре выяснилось, что на них никто не обращает внимания.
На следующий день, с трудом потратив на водку и Бердяева первую половину гонорара, мы пришли получать вторую. За ночь, однако, исчезли и писатели, и кооператоры. Даже все книги растворились в стране – несмотря на то, что от них ей тогда не было никакой практической пользы. Справедливости ради надо сказать, что на ней никто и не настаивал. В библиотеке «Русская кухня в изгнании» стояла на одной полке либо с историческими, либо уже с научно-фантастическими романами. Время, как уже говорилось, было смутное, и наш знакомый говорил: «Я не миллионер, чтобы есть яйца».
С тех пор все изменилось. Сейчас рестораны в Москве открываются так же часто, как тогда – журналы. И поваренные книги теперь читают все, остальные – пишут. Что касается того же знакомого, то, сев на диету, он вообще не ест ничего, кроме тофу с креветками.
Тем не менее я по-прежнему отказываюсь считать кулинарную прозу более утилитарной, чем обыкновенную. Ее отличия – в другом.
Обычная литература занимается приключениями духа, кулинарная – тела. Беда в том, что первых культура нам уделила намного больше, чем природа – вторых. Не задумываясь, я могу весь день перечислять духовные радости – от Моцарта до зависти. Но физических удовольствий – раз, два, и обчелся, если не считать гимнастики.
Вопиющее неравноправие верха и низа закрепилось в искусстве. Воспевая дух и питая его, оно оставило телу лишь темные закоулки вроде забора, сортира и нередко примыкающего к ним интернета. В результате телу говорить негде и нечем. Заткнув голос плоти, литература лишила нас языка, умеющего описать самые счастливые переживания.
Кулинарная проза – второй способ обойти молчание.
Я люблю готовить, есть, писать и читать о еде. Более того, я считаю, что по-настоящему глубоко мы способны познать только съедобную часть мира. К тому же кулинария щедро раскрывает секреты каждой культуры, будучи ее наиболее глубокой – подсознательной – основой. Следуя ей, умный повар творит не размышляя – с помощью национального рецепта, связывающего историю с географией в один предельно емкий иероглиф.
Но главным все же в искусстве гастрономического письма является не культурологический, а интимный пафос. Именно он позволяет назвать целомудренной порнографией хорошую кулинарную прозу. Ведь эта тень обеда способна вызвать чисто физиологическую реакцию. И это значит, что такая литература содержит в себе неоспоримый, как похоть, критерий успеха. Если, почитав Гоголя, вы не бросаетесь к холодильнику, пора обращаться к врачу.
Эрос кухни, однако, капризен и раним. Его может спугнуть и панибратский стеб, и комсомольская шутливость, и придурковатый педантизм – обычный набор пороков, которые маскируют авторское бессилие.
Дело в том, что о еде писать трудно (не легче, чем о сексе). Как и всюду, помочь тут может только та любовь к ближним, что обращает кулинарную словесность в идиллию.
Литература, тем более великая, вовсе не видит своей задачи в том, чтобы нас обрадовать. Напротив, гении горазды повергать читателя в трепет не хуже бомбардировщика. Возможно, эти потрясения делают нас лучше, но точно, что не веселей. Зато аппетит оптимистичен по определению. Побуждая к удовольствию, он, как писатель – вдохновением, всегда готов поделиться радостью с окружающими.
По-моему, одно это оправдывает кулинарную прозу в виду вечности: эта безобидная утопия прокладывает маршрут к достижимой цели.
Нью-Йорк, 2006
Лев Лосев
Поэтика кухни
«Возбуждая аппетит и дразня воображение, закуска информирует нас о характере предстоящего обеда, настраивает наши чувства на нужный лад», – говорит мудрец, и, книги, и автор предисловия – литераторы, нет ничего удивительного. Русская литература всегда, простите за каламбур, питалась от русской кухни. Наше знакомство с бессмертными героями классиков завязывается за обеденным столом. Дело не в том, что мы никак не избавимся от вредной привычки читать за едой, а в том, что гастрономические навыки героя оказываются обязательной частью его социального, национального и психологического портрета. Вот Онегин, сменив скепсис воодушевлением, осматривает накрытый к обеду стол:
- Пред ним roast-beef окровавленный,
- И трюфли, роскошь юных лет,
- Французской кухни лучший цвет,
- И Страсбурга пирог нетленный
- Меж сыром лимбургским живым
- И ананасом золотым.
(«Кровавый ростбиф – блюдо „английской кухни“, модная новинка в меню конца 1810-х – начала 1820-х годов, и Страсбурга пирог – паштет из гусиной печени, который привозился в консервированном виде (нетленный), что было в то время модной новинкою (консервы были изобретены во время наполеоновских войн). Лимбургский сыр – импортировавшийся из Бельгии очень острый сыр с сильным запахом. Лимбургский сыр очень мягок и при разрезании растекается (живой)…» – поясняет Ю. М. Лотман.) Перерыв между XVI и XVII строфами Главы первой уходит на поедание лишним человеком вышеперечисленных, богатых холестеролом и сатурированными жирами вкусных кушаний. XVII строфа начинается нотой сытого сожаления: «Еще бокалов жажда просит/Залить горячий жир котлет, / Но.»
Величайшим поэтом российской и малороссийской кухни был Гоголь. Пасичник Рудый Панько, старосветские помещики, тетушка И. Ф. Шпоньки появляются с ворохами кулинарных рецептов. За отделавшим осетра и хлопающим глазами Собакевичем шаркает Плюшкин с сухарем из кулича, привезенного Александрой Степановной.
Обломовская объедаловка. Облонский, обдумывающий, не изменить ли план обеда, поскольку в «Англию» вчера привезли, оказывается, устриц: хоть и фленсбургские, но свежие. Масленичные, постные и на разговение меню Чехова… И Чехов и Гончаров отнюдь не были обжорами. Толстой, как известно, вообще стал полным вегетарианцем. Пушкин был сдержан в еде. Гоголь и вовсе заморил себя голодом. То же и в наше время. «На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шустовская рябиновка – она существовала, оказывается! не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был – нереальный. они уже вычерпали уху. Свечин вынул изо льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры. Гучков же взял маринованный грибок… Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватанули ещё отличной ледовой водки. Хор-р-рошо!» Это в «Октябре шестнадцатого» в Петербурге у Кюба угощает Гучков полковников Воротынцева и Свечина. Между тем Н. Д. Солженицына сообщает о своем муже: «Он абсолютно равнодушен к еде. Он может есть одно и то же день за днем» («Вермонт лайф», осень 1983, стр. 25). Исключительно тонкой звукописи натюрморт-меню находим и у замечательного лирического поэта Юрия Кублановского:
- Уха белужья с алым луком.
- Стерлядка теплая с хренком.
- Пирог с вязигой с мягким звуком
- разрезан острым тесаком.
- Икорка красно-золотая.
- С душистой слизью крепкий груздь.
- Ломоть горячий каравая
- в окно юродам бросят пусть.
- Мадеры звездчатые вспышки.
- Желудка праведная месть…
- И глазированные пышки
- уже никто не хочет есть.
Из повседневных искусств кулинария ближе всех к искусству словесному. Законы гармонии, правила композиции, требования суггестивности – все это управляет работой и повара и поэта (что не так уж редко одно и то же). Поэзия повседневности – в завтраках, обедах, чаепитиях, ужинах. Лучше других это чувствовал самый русский из русских мыслителей, В. В. Розанов, посвятивший одно из своих последних эссе памяти Елены Молоховец. Ее бессмертный «Подарок молодой хозяйке», кажется, всегда под рукой у наших нежных лирических героинь:
- Лист смородины груб и матерчат.
- В доме хохот и стекла звенят,
- В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
- И гвоздики кладут в маринад.
История русской кухни также сходна с историей русской поэзии. В недавно вышедшей превосходной книге Р.-Е.-Ф. Смита и Дэвида Кристиана «Хлеб и соль» приводятся документальные данные о рационе россиян в Средние века: хлеб, каша, несколько овощей; молочные, мясные, рыбные блюда – монотонны. Как и во всех странах сурового климата, древняя русская кулинария была проста и печальна. Фантазия и утонченность пришли, когда оживилось движение на морских и сухопутных торговых дорогах. Тот факт, что Ломоносов зачинал новую русскую поэзию в 1738 году, экспериментируя с немецкими стиховыми формами в Марбурге, Державин открыл русскую лирику, переводя элегии прусского короля Фридриха Великого, Пушкин «брал свое» у Парни, Байрона и Вашингтона Ирвинга, а Бродский – у Джона Донна, У.-Х. Одена или Роберта Лоуэлла, не уменьшает исключительно русского своеобразия их шедевров. Есть известный афоризм Сельвинс-кого по этому поводу: «В селянке (селянка, то есть сельская похлебка, а не солянка, как часто искажают это слово. – Л. Л.) – маслины из Греции и венские сосиски, но селянка – истинно русская еда».
В середине XVII века, когда с трудом и скрипом начинает приоткрываться на 400 лет забитое окно в Европу, вместе с первыми веяниями искусства барокко создается в России и барочное меню.
Подано царю Алексею Михайловичу в сенник во время бракосочетания с Натальей Кирилловной Нарышкиной:
квас в серебряной лощатой братине,
да с кормового двора приказных еств:
папарок лебедин по шафранным взварам,
ряб окрошиван под лимоны,
потрох гусиный,
да к государыне царице подано приказных еств:
гусь жаркой,
порося жаркое,
куря в колье с лимоны,
куря в лапше,
куря в щах богатых,
да про государя же и про государыню царицу подаваны хлебные ествы:
перепеча крупичетая в три лопатки недомерок,
чет хлеба ситного,
курник подсыпан яйцы,
пирог с бараниною,
блюдо пирогов кислых с сыром,
блюдо жаворонков,
блюдо блинов тонких,
блюдо пирогов с яйцы,
блюдо сырников,
блюдо карасей с бараниной.
Потом еще:
пирог росольный,
блюдо пирог росольный,
блюдо пирогов подовых,
на торговое дело:
коровай яицкий,
кулич недомерок
и пр.
М. Пыляев, «Старое житье»
Как и стихи, меню оформляется графически, при этом не произвольно, а следуя его синтаксической структуре, которая, в свою очередь, отражает регулярности в структуре содержательной. Взгляните, например, на «строфы» в меню обеда Святейшего Патриарха «в среду первыя недели Великого поста» 1667 года. Мы имеем дело со своего рода кулинарными терцинами, причем «строка» удлиняется – от первой к третьей: