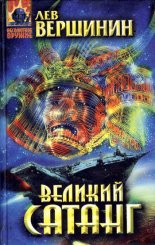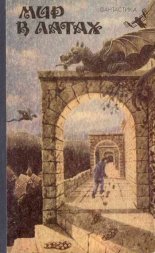Короля играет свита Арсеньева Елена
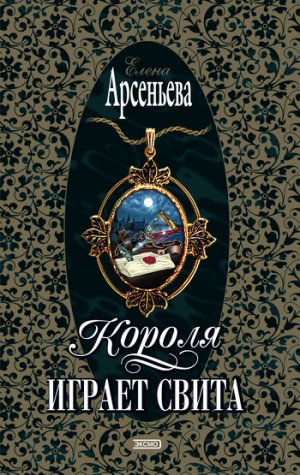
Апрель 1801 года
– Очнитесь, молодой человек! Откройте глаза!
– Эк нализался, невежа! Да очнись, ирод!
– А что ж, ныне, говорят, все дозволено. Милое, понимаете ли, господа, дело: удавить кого-нибудь без жалости, а потом накушаться тут же, в компании с убиенным.
– Эй, Бесиков, ты в словесах... того-этого... побережней будь. Насчет удавленных-то. И, дескать, все дозволено. За такое ведь и в Тайную экспедицию недолго угодить.
– А нет, дружище Варламов. Не получится. Не слыхал разве, что отворены врата гнусного узилища, кое без жалости пожирало... ну и так далее, о чем в газетках пописывают. Отворены двери, по-нял? Тайная экспедиция прикрыта, на дверях камер надписи: «Свободно от постоя». Да, нынче у нас как бы свобода. А сие означает – что хочу, то и ворочу.
«Что хочу, то и ворочу!» Это были первые осмысленные слова, которые пробились к затуманенному сознанию Алексея. Любимое изречение тетушки! Только почему Марья Пантелеевна вдруг возговорила мужским голосом и несет какую-то чепуху? Неужто он, Алексей, и впрямь «нализался, накушался» – напился до такой степени, что весь мир вокруг него исказился? Или просто мерещится бог весть что? Тетушка, говорящая баском... Кошмар! А вот интересно бы знать, в добавление к мужскому голосу, наделит ее кошмар мужскими же ухватками? Будет ли она уязвлять непутевого племянника лишь словесами ядовитыми либо до рукоприкладства дойдет? Впрочем, не раз случалось Алексею огрести тетушкиного сердитого тычка под бок, и он мог бы свидетельствовать, что от сего маленького, сухонького кулачка дух занимался не менее, чем от увесистого кулачища Прошки, молочного братца и первейшего Алексеева друга-противника.
– Небось ты все уже позабыл, а я сам видал наутро же после... после того, как прежнего государя кондрашка хватил, сиречь а-по-плек-си-чес-кий – тьфу, леший, спроста и не выговоришь! – удар вдарил. Офицерик какой-то ошалелый летел верхом не по мостовой, а по тротуару, вопя во всю глотку: «Нынче все можно!» И морда у него при этом, скажу тебе, была самая дурацкая.
Теперь до Алексея стало потихоньку доходить, что басит, пожалуй, все-таки не тетушка. А кто же тогда? Прошка? Ну, какое там: его еще о позапрошлом годе отец проиграл в карты какому-то заезжему лошаднику, а тот перепродал невесть кому. Алексей в ту пору гостил у соседей, вернулся, узнал о Прошке – чуть не полгода с отцом ни словечком не перемолвился, так горевал да злился. Нет, это не Прошка... Старый лакей Кузьма? Не он. Алексей мысленно перебрал голоса дворни, однако ни один из слуг не обладал этаким разнузданным, рассыпчатым баском. Пожалуй, это чужой человек. Конечно, чужой – никто в Васильках не носил такого забавного прозванья – Бесиков. Да и Варламовых там сроду не было: всех своих немногочисленных душ, доставшихся в наследство от батюшки, Алексей знал с малолетства. Ну вот, выходит, два чужих человека рядом. Кто ж они такие?
Алексей поднатужился и приоткрыл глаза – нет, для начала один. Веки, чудилось, были накрепко склеены, поскольку простейшее это движение оказалось сопряжено с невероятными усилиями. Алексею пришлось скроить гримасу, прежде чем удалось посмотреть на свет божий, и старания его не остались незамеченными.
– Глянь-ка, Варламов! – рассыпался насмешливый басок Бесикова. – Никак дошли твои словеса на небеса. Очухался наш милашка!
Издевка в его голосе ожгла пуще пощечины. Алексей вовсе продрал глаза и вскинулся с самым свирепым выражением лица, готовый немедля дать отпор всякому оскорбителю: угодно – так в кулачном бою, как это велось в Васильках, ну а коли пожелает неведомый Бесиков – на смертоубийственной дуэли, как принято в обеих столицах и всяком мало-мальски приличном губернском городе.
Открыл глаза – и невольно ахнул, настолько близко нависли над ним два незнакомых лица. Одно было большое, аки подушка, полнокровное, толстощекое и лобастое, с маленькими, глубоко упрятанными глазками. Другое – с мелкими, точеными чертами, молодое, смуглявое, чернобровое, и совершенно понятно было, что под пудреным паричком с косицею скрыты иссиня-черные, жесткие, будто воронье перо, волосы.
Глаза у смуглявого были также черные, вострые, что буравчики, они победительно сверкнули, встретясь с Алексеевым взором, и тут же уставились на него столь пристально, что было полное впечатление: буравчики ввинчиваются в его недоумевающие очи.
«Вот этот – Бесиков, – подумал Алексей. – Самый настоящий Бесиков! А толстый, конечно, Варламов».
– Ага, ага, ага! – торжествующе сказал чернявый веселеньким баском, и Алексей почему-то обрадовался, что не ошибся: точно, Бесиков. И на долгое время эта мгновенная вспышка ребяческой, глупой радости осталась в его жизни последним светлым чувством, потому что в следующее мгновение Бесиков моргнул Варламову, тот подал знак кому-то еще, не видимому Алексеем, и тотчас этот кто-то сильно вздернул нашего героя, вынудив его сесть (а до сего времени он был простерт плашмя на некоем пышном ложе), и немилосердно заломил ему руки за спину.
Сидя в нелепейшей позе, с вывернутыми плечами, вытягивая шею и шаря взором по насмешливому лицу Бесикова, бедолага был так изумлен и возмущен, что в первую минуту сумел исторгнуть из себя лишь нечленораздельный вопль. Однако Бесиков, несмотря на молодость (вряд ли он был более чем на десяток лет старше Алексея, которому лишь недавно исполнилось девятнадцать), оказался человеком проницательным. Он без труда вник в смысл сего вопля и ответствовал с издевательской любезностью:
– Вам, сударь, не по нраву ухватки Дзюганова? Да бросьте-ка! Добрейший, милейший мужик, верный слуга царю и отечеству! А что любит порою из человека душу вынуть, так не из всякого же, а только лишь из супостата какого-нибудь, душегуба, убийцы, – вроде вас, милостивый государь.
– Я не-е... не-е... – проблеял Алексей, не столько оскорбленный нелепостью обвинения, сколько мучимый болью в плечах, которые, чудилось, вот-вот будут вывернуты из суставов, словно у висящего на дыбе.
– Что? – круто вздернул черную, словно угольком прочерченную, бровь Бесиков. – Вы на каком языке выражаться изволите? «Я не-е... не-е...» – передразнил он столь похоже, что в других обстоятельствах Алексей непременно составил бы компанию толстяку Варламову и посмеялся вместе с ним. Но – в других обстоятельствах, не сейчас, когда из глаз искры сыпались от боли, а главное – от полной невнятицы случившегося. – Вы «не» – что? Не супостат, не душегуб, не убийца? Ошибочка! – воскликнул он, укоризненно покачивая головой – ну опять-таки в точности Алексеева тетушка, обнаружившая в его французских или немецких брульонах[1] множество нелепиц. – Ошибочка, сударь мой! Никакими иными словами невозможно назвать человека, задушившего хозяина дома, где дали ему кров и пищу. Генерал-лейтенант Талызин был человеком очень даже не простым, он состоял в дружбе с самим вице-губернатором Паленом, государь-император к нему благоволил, а уж принимая во внимание роль, которую господин Талызин сыграл в известных событиях 11 марта... И вот такого человека вы безжалостно, бесчинно, кровожадно...
– Погодите! – вскричал Алексей, наконец-то обретший власть над собственным голосом. – Вы что хотите сказать? Господин Талызин – он что, убит? – А вы как будто этого не знали? – ехидно осведомился Бесиков.
– Не знал, как бог свят, не знал! – выкрикнул Алексей. – Это не я! Я его не убивал!
– Полно лгать! – проворчал незримый Дзюганов, с такой силой встряхивая Алексея, что тот невольно взвыл от боли в вывернутых плечах. – Еще божьим именем клянется, сила нечистая! Вот как пошлет господь гром да молонью, как поразит тебя в самое темечко...
«Молонья» с небес, однако же, послана не была. Громового удара тоже не воспоследовало. Скорее всего потому, что господь поверил Алексею. Вездесущий всевышний – один-единственный в мире! – доподлинно знал: обвиняемый говорит чистую правду. Он не только не убивал своего родного дядюшку Петра Александровича Талызина, но даже в глаза его никогда не видывал.
Ноябрь 1781 года
Осенний ветер завывал над Невой. Снега еще не налегло, даже Покров выдался бесснежным, однако в последние дни зарядили такие студеные, такие заунывные дожди, что петербуржцы мечтали о приходе зимы словно о божьем благе. До того осточертела эта пронизывающая сырость – ну просто сил нет.
И вдруг погода угомонилась. Ветер не утих, но переменился, дул теперь с юга, словно смешалась связь времен и где-то там, на небесах, решено было не зиму, а весну принести в северную столицу. В узких улицах, конечно, свистело, как в трубе, но, поворотясь к ветру спиной и подняв воротник, вполне можно было идти в ус не дуя, да еще и трубочку покуривать.
Что и делали четверо поздних прохожих, которые следовали вдоль Фонтанки в таком странном порядке: один впереди, затем, подхватив друг друга под руку, еще двое, и последний, также в одиночку, замыкал шествие. Пара не прерывала разговора и вообще ни на что не обращала внимания, а вот первый и последний то и знай зыркали по сторонам, настораживаясь при любом случайном звуке или шорохе. Внимательный наблюдатель, окажись он в такую позднотищу поблизости, непременно сделал бы вывод, что впереди и позади идут слуги, которые охраняют своих господ.
Впрочем, по причине глубокой ночи и полного безлюдья не видно было никакой опасности и никто не мог подслушать разговор двух молодых (старшему не было еще и тридцати) людей. И слава богу, потому что разговор был серьезный, даже опасный, относящийся к разряду тех, которые вполне могли быть причислены к государственной измене. Какое счастье, что преданные слуги умели быть глухи и немы!
– Я превращен в какой-то призрак, – пронзительным, неприятным голосом говорил тот, что был меньше ростом. – Я поставлен в самое постыдное положение, потому что не допущен ни к какой реальной власти.
– Но ведь ваша матушка еще, по счастью, жива, – благоразумно возразил его спутник. – О какой реальной власти можно теперь говорить?
– То, что она творит с высоты своего положения, всецело основано на славолюбии и притворстве. О торжестве закона никто и не помышляет! Я мечтаю о внедрении среди дворянства строгого нового мышления, основанного на четком понимании своих прав и обязанностей.
– Ну, насчет прав, как я понимаю, никто не возражает, ваше высочество! А вот насаждение обязанностей... – хмыкнул спутник этого человека со смелостью, дозволенной только близкому другу. Да и в самом деле – Александр Борисович Куракин был, как никто другой, близок великому князю Павлу, воспитателем которого был его дядя, канцлер Никита Иванович Панин.
– Это да! – сурово сказал великий князь. – Просто-таки помешались нынче все на своих правах. Или вот еще – на идеях каких-то. Что за дурацкое словечко – идеи? Не идея никакая, а мысль! Раньше попросту говорили – «я думаю». Теперь – «мне идея в голову пришла». Как пришла, так и ушла, в голове ничего не сыскавши! Вот и государыня-матушка все об том же. Надо же такое измыслить: учреждать воспитательные дома и женские институты, чтобы создать «новую породу людей». Заладили болтать, как во Франции: равенство, братство! Доведут с этими глупостями страну до революции. Чтобы все были равными, надо прежде всего одеваться одинаково. А то на одном лапти, на другом стоячий воротник до ушей с таким галстухом, что от него помадами и духами за версту несет. У одного на столе пустые щи, у другого восемнадцать перемен блюд, да еще роговая музыка под окнами играет. А надо как? Ежели шляпы – у всех одинаковые, треугольные, никаких круглых. Ежели пукли – у всех одни и те же, по три штуки справа и слева. Вот тебе и вся «новая порода». Люди, говорю я ей, должны по ранжиру быть расставлены, каждый на своем месте, как в гвардии на посту: пост сдал – пост принял. Никаких глупостей, никакого вольнодумства! А если что не так – сечь до потери сознания, а то и пушками, пушками – и все как рукой снимет. Непорядка в стране меньше будет. И знаешь, друг Куракин, что мне матушка ответствовала? Ты, говорит, лютый зверь, если не понимаешь, что с идеями нельзя бороться при помощи пушек!
– Ну что вы хотите, сударь, ваша матушка все-таки женщина. Не может ведь женщина повсюду бывать сама, входить во все подробности, – примирительно отозвался Куракин, слышавший все это не в первый и не в десятый, а по меньшей мере в сто первый раз: недовольство цесаревича буквально каждым шагом матери-императрицы давно стало притчей во языцех.
– Конечно! – вспылил Павел. – В том-то и дело! Потому-то мой дрянной народ только и желает, чтобы им управляли женщины. Ты вспомни: на русском престоле уже почти шестьдесят лет сидят бабы! Надо выдвинуть в ущерб им принцип мужской власти. Власти, а не этих юбок... То им фижмы, то кринолины, то мушки, то еще что-нибудь. И в государственных делах так же: что в голову взбредет, то и сотворю. Когда я достигну престола, я буду входить во все подробности управления. Помяни мое слово.
Александр Куракин молчал.
– О чем ты подумал? – взволнованно спросил Павел тонким, злым голосом. – Я знаю, о чем ты подумал! Ты думал, что мне следовало бы сказать не «когда я достигну престола», а «если я его достигну»! И не возражай. Я знаю. Я вижу тебя насквозь!
На самом-то деле Куракин подумал, что его приятель может совершенно запутаться в этих подробностях, в которые он намерен «входить», потому что его ограниченный ум и слабая воля не выдержат упоения самодержавной властью. Но возражать сейчас и в самом деле было бесполезно. То, что он влачит затянувшееся существование наследника при женщине-императрице, было для Павла постоянным больным местом, и даже не любимой мозолью, а открытой раною. Мать и сын находились в состоянии бесконечной дуэли. Павел был просто помешан на том, что он достоин большего, в то время как права его попираются.
Александр Борисович знал, что мысль эта зародилась в великом князе не без участия графа Панина. Никита Иванович лишь потому всячески поддерживал идею государственного переворота, устроенного Екатериной, что был убежден: этот переворот приведет к власти его малолетнего воспитанника, а поскольку править он еще не сможет, в России можно будет установить конституционную монархию при регентстве кабинета министров. Фактически он видел во главе этого кабинета себя, мечтал о собственной власти, ограничивающей самодержавную, однако Екатерина, неподвластная чужой воле, необыкновенно сильная духом, совершила переворот в свою пользу. Вот этого Никита Иванович и не мог ей простить, исподволь внося разлад в отношения императрицы с сыном – и без того непростые. Именно от Панина Павел узнал о намерениях возвести его на престол, о проекте конституционной монархии, и это еще более усилило в нем раздражение против Екатерины и тех, кто помог ей надеть царский венец... по праву принадлежащий ему, Павлу Петровичу!
Эта мысль просто-таки сводила цесаревича с ума. В ответ на попрание его прав гордость и обидчивость развились в нем до непомерной, преувеличенной степени. К тому же в нем никогда не утихали сомнения, в самом ли деле он сын покойного императора Петра. Вполне достаточно было бы просто посмотреть в зеркало, чтобы получить доподлинный ответ. Сходство отца и сына было разительным, однако к этому вопросу Павел продолжал относиться с поистине инквизиторским любопытством. Стоило ему увериться, что он действительно сын Петра, как честолюбивые устремления вспыхивали в нем с новой силой, он начинал ненавидеть мать... совершенно упуская из виду (со свойственной ему пристальной внимательностью к мелочам, но неумением делать из них глубокие, логические выводы), что по законам Российской империи он не имел никакого права на престол. Прежде всего потому, что закона о престолонаследии в этой самой Российской империи никогда не было.
Нет, ну в самом деле! Трон в России всегда переходил «по избирательному или захватному праву», а проще сказать, «кто раньше встал да палку взял, тот и капрал». Петр Великий помнил старинную «правду воли монаршей», то есть произвольную власть государя самому выбирать себе наследника, но сам он не успел воспользоваться этим правом, вот и пошла после него череда императоров и императриц, захватывавших русский трон при помощи государственных переворотов. Елизавета Петровна, надо отдать ей должное, выбрала себе законным преемником Петра Федоровича, отца Павла, но сам-то Петр ничего не сделал для интересов своего сына. Таким образом, после его смерти Павел в глазах закона был полное ничто и всецело зависел от произвола матери. Это и сводило его с ума.
Он жил, никому не веря. Первая его жена, немецкая принцесса Вильгельмина, в крещении Наталья Алексеевна, изменяла ему с лучшим его другом, Андреем Разумовским, заядлым пожирателем женских сердец. Совсем даже не факт, что ребенок, при рождении которого она умерла в апреле 1776 года, не был сыном этого русского Казановы. Вторая жена, Мария Федоровна, она же – принцесса София-Доротея, была достойна Павла мелочностью и придирчивостью ограниченного ума: она так же строила замки своего честолюбия на пустом месте и неустанно подогревала устремления своего мужа, хотя в вопросах государственной власти понимала еще меньше, чем в грамматике и правописании, в которых она была не просто слаба – понятия о них не имела...
Павел порою ненавидел жизнь, потому что она была исполнена страдания. Он жил, ни на кого не надеясь, всех постоянно подозревая в злоумышлениях, по крайности – в скрытых издевках. В глубине души он сознавал слабость своего характера, но признать это было для его непомерной гордыни невозможно. Он яростно завидовал своему великому предку Петру. Если бы обладать такой же мощью натуры, такой твердостью духа, такой богатырской статью, жизненной силой! Тогда мать трепетала бы перед ним, а не он перед нею! А он трепещет, увы, и презирает себя за это, и ненавидит, еще пуще ненавидит ее...
Мысль о том, что Екатерина тоже его ненавидит, что она желает его смерти, была с ним неотвязно, а потому он даже не очень-то удивился, когда вдруг заметил в глубине одной подворотни очень высокую фигуру, завернутую в длинный плащ, и в военной, надвинутой на лицо треугольной шляпе. Похоже было, этот человек ждал кого-то, однако, когда Павел и Куракин поравнялись с ним, он вышел из своего укрытия и пошел слева от Павла, не говоря ни слова.
Павел оглянулся. Странным показалось ему, что на охрану появление этого человека не произвело никакого впечатления, хотя несколько минут назад они палками отогнали прочь какого-то нищего, который спьяну вздумал просить милостыньки у императора. Куракин тоже шел с равнодушно-сонным видом, погруженный в какие-то свои мысли.
Впрочем, прислушавшись к себе, Павел вдруг ощутил, что не испытывает никакого страха. Мысль о том, что это может быть убийца, не трогала его сознания. Странным казалось только то, что ноги этого человека, ступая по брусчатке, издавали странный звук, словно камень ударялся о камень. Павел изумился, и это чувство сделалось еще сильнее, когда он вдруг ощутил ледяной холод в своем левом боку, со стороны незнакомца.
Павел вздрогнул и, обратясь к Куракину, сказал:
– Судьба послала нам странного спутника.
– Какого спутника? – спросил Куракин.
– Господина, идущего у меня слева.
Куракин раскрыл глаза в изумлении и заметил, что у великого князя с левой стороны никого нет.
– Как? Ты не видишь этого человека между мною и домовою стеною? – удивился Павел, продолжавший слышать шаги незнакомца и видеть его шляпу, его мощную фигуру.
– Ваше высочество, вы идете возле самой стены, и физически невозможно, чтобы кто-нибудь был между вами и ею, – благоразумно возразил Куракин.
Павел протянул руку влево – и точно, вместо того чтобы схватить незнакомца за плечо, наткнулся на камень. Но все-таки незнакомец был тут и шел с цесаревичем шаг в шаг, и поступь его, как удары молота, раздавалась по тротуару.
Павел взглянул на него внимательнее прежнего. Тот как раз в это мгновение повернулся, под шляпой его сверкнули глаза столь блестящие, каких цесаревич не видал никогда ни прежде, ни после. Они смотрели прямо на Павла и, чудилось, околдовывали его.
– Ах! – сказал Павел Куракину. – Не могу передать тебе, что я чувствую, но только во мне происходит что-то особенное.
Павел начал дрожать – не от страха, но от холода. Казалось, что кровь застывает в его жилах. Вдруг из-под ворота плаща, закрывавшего рот таинственного спутника, раздался глухой и грустный голос:
– Павел!
– Что вам нужно? – ответил он безотчетно.
– Павел! – опять произнес незнакомец, на этот раз, впрочем, как-то сочувственно, но с еще большим оттенком грусти.
Потом он остановился. Павел сделал то же.
– Павел! Бедный Павел! Бедный князь!
Павел обратился к Куракину, который также остановился, удивляясь, что происходит с его высочеством.
– Слышишь? – спросил Павел взволнованно.
– Ничего, – отвечал тот, – решительно ничего.
– Кто вы? – сделав над собою усилие, спросил цесаревич, и Куракин вздрогнул, потому что ему показалось, будто Павел сошел с ума: он разговаривал с пустотой. – Кто вы и что вам нужно?
– Кто я? Бедный Павел! Не узнаешь? А ведь ты только что вспоминал меня. Я тот, кто принимает участие в твоей судьбе. Живи по законам справедливости, и конец твой будет спокоен. Не разводи пауков в доме своем, не то они задавят тебя.
Произнеся эту странную, отрывистую фразу, незнакомец в плаще снова двинулся вперед, оглядываясь на Павла и все как бы пронизывая его взором. И как цесаревич остановился, когда остановился его спутник, так и теперь он почувствовал необходимость пойти за ним.
Дальнейший путь продолжался в молчании, столь напряженном, что и встревоженный Куракин не мог сказать ни единого слова.
Наконец впереди показалась площадь между мостом через Неву и зданием Сената. Незнакомец прямо пошел к одному, как бы заранее отмеченному, месту на площади; великий князь остановился.
– Прощай, Павел! – сказал человек в плаще. – Ты еще увидишь меня здесь. Помни: берегись пауков!
При этом шляпа его поднялась как бы сама собой, и глазам Павла представился орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка его прадеда Петра Великого.
– Не может быть! – вскричал он, едва не теряя сознания от страха и удивления, а когда очнулся, никого уже не было на пустынной площади.
На этом самом месте летом будущего года императрица Екатерина Алексеевна возведет монумент, который изумит всю Европу. Это будет конная статуя царя Петра, помещенная на скале. Не Павел советовал матери избрать это место, будто отмеченное или скорее угаданное призраком. Он опасался вспоминать о той ночи, но не знал, как описать чувство, охватившее его, когда он впервые увидал памятник Петру. Тот холод, который пронзал его слева при встрече с призраком, Павел продолжал ощущать до конца жизни. И его не оставляла уверенность, что, хоть Петр явился поговорить с ним, он сделал это не из сочувствия, не из расположения, а скорее из жалостливого презрения к своему потомку.
Павел никогда никому не верил! Даже призракам.
А слова о каких-то там пауках показались ему сплошной невнятицей. Или он только делал вид, что не понял их?
Апрель 1801 года
Почти всю дорогу Алексей проспал. Тетушка уж так застращала беспутицей (да и правда, на дворе конец марта, не дороги, а чистое наказание), что он пытался избавиться от этих страхов самым наивернейшим способом: покрепче зажмурясь и погрузившись в грезы. И то сказать: в последнее время случилось в его жизни столько хлопотных, непривычных событий (смерть отца, вступление в права наследства, тяжкие ссоры с тетушкой, решение круто изменить судьбу и отправиться в Петербург, искать покровительства дяди, генерала Талызина), что они надолго отняли сон у Алексея. Поэтому в пути он добирал недобранное. И почудилось ему, что лишь только двухэтажные «губернские» дома на Покровской – главной улице Нижнего Новгорода – сменились одноэтажными халупами, а потом Арзамасская застава потонула в пыльно-пеньковой завесе (жители окраин промышляли тем, что трепали и пряли пеньку на лужайках возле своих домов), так почти сразу вслед за этим выплыли из серенькой весенней мороси дома северной столицы.
Скоростью своего проникновения в Петербург Алексей был немало изумлен. Кто-то из соседей-помещиков, побывавший в столице, рассказывал, что еще до городской заставы каждого прохожего-проезжего останавливали пикеты раз по пять и с пристрастием допрашивали, куда едет да откудова. Затем на городской заставе его опять подвергали долгому, томительному расспросу. Выехать из города без подорожной и таких же строгих опросов также нельзя было. А тут – никто даже и внимания не обратил на деревенский возок! Застав Алексей вообще не видел, только на самом въезде в столицу, да и там никого не задерживали. Не случилось ли чего, подумал тогда наш герой, но тут же обо всем забыл, всецело занятый разглядыванием петербургских окраин.
К его изумлению, они почти ничем не отличались от нижегородских. Дома небольшие, деревянные, даже на знаменитом Невском прешпекте. Деревянной была и церковь Казанской Божьей Матери, поразившая Алексея красотою. Но уж коли встречался дом каменный, то он более напоминал дворец, а не человеческое пристанище. Ничего подобного Алексей вообразить не мог. Он так и ахнул, увидав витрины модных лавок. Сколько богатого товару! Особенно поражали «Нюренбергские лавки», которые помещались на Невском. Уж на что тетушка живала в Васильках схимницей-затворницей, а все ж и в ее беседах с соседками, изредка приезжавшими на чаек, либо за рецептом нового варенья, либо за узором для канвы, звучало порою это волшебное, манящее словосочетание: «Нюренбергские лавки»... Чудилось, здесь было все, от булавки до тяжелых рулонов богатых тканей!
Теперь Алексей окончательно проснулся и едва успевал вертеть головой по сторонам. Вот она, столица! Ух, какова! Чего в ней только нету! Правда, вот оленей, на которых, сказывали, тут ездили по улицам, Алексей так и не увидал. Но в Петербурге запрягали оленей в сани только зимой, а теперь стояла какая-никакая, а весна.
– Куды теперь, барин? – спросил с тяжким вздохом кучер, с трудом скрывая усталость и раздражение. Кучер был не Улановых – соседский, из Матешкина. Да и весь выезд был не улановский: соседи отправляли столичной родне деревенские гостинцы, поэтому оказия молодому хозяину Васильков выпала очень удобная.
Алексей наотрез отказался тащиться в столицу в своем старинном возке, обшитом медвежьей шкурою изнутри так, что окошки напоминали маленькие подслеповатые глазки, опушенные коротенькими ресничками. Вдобавок тетушка уперлась: ни за что не хотела переставлять возок на колеса, опасаясь, что он увязнет в расквашенной дороге. Но заявиться в середине апреля в Петербург на санном ходу... Никогда в жизни! Летняя повозка не могла бы выдержать столь долгого пути, да и холодна она, первоапрельские ночи еще студены. Алексей потребовал было заказать в Нижнем новую повозку, благо он теперь сам был хозяином своим деньгам, однако рассудил, что нечего тащить в столицу напоказ провинциальную дурь, лучше купить и коляску важную, и коней в Петербурге. Вот оглядится там, пообвыкнется, все и справит, что положено молодому человеку его круга: и гардероб, и оружие, и лошадей с коляскою, ну а пока дядюшка-генерал, конечно же, не откажет предоставлять племяннику свой выезд (в воображении Алексея это была самое малое четверка вороных!) – не каждый день, понятно, а хотя бы от случая к случаю.
Алексей велел кучеру ехать к Лейб-кампанскому корпусу Зимнего дворца, где стоял один батальон Преображенского полка и держал квартиру генерал Талызин. Подивился неописуемой красоте здания, привольного раскинувшегося на невской набережной. А арка была какова, а Дворцовая площадь!.. Алексей уж притомился удивляться. От переизбытка восторга он впал в некое полусонное состояние и, точно во сне, воспринял новость: дядюшка Петр Александрович с квартиры в Лейб-кампанском корпусе съехал каких-нибудь три недели назад, а теперь обретается на Невском, так что мимо его дома Алексей непременно проезжал по пути сюда. Дом находится как раз возле католической церкви, сдававшей часть своего помещения тем самым знаменитым «Нюренбергским лавкам», на кои нынче засматривался Алексей.
Покуда Алексей бегал в Лейб-кампанский корпус, кучер не скучал. Кинув господское добро без присмотра (налетай кому не лень, уноси что приглянулось!), он с восторгом пялил глаза на тощего мужичонку в легком кафтанишке и шапке-гречевнике[2], который тягал туда-сюда на веревке заморенную собачонку, то и дело азартно крича ей:
– А ну, сучка, покажь, как это делает мадам Шевалье?
Особенно мужик упирал на слово это.
«Кто такая мадам Шевалье и что же она делает?» – удивился было Алексей, и в следующее мгновение собачонка хлопнулась на спину и раскинула во все стороны лапки.
Зрители так и зашлись от смеха! Хозяин сдернул свой гречевник и пошел с ним по кругу. Полетели гроши да полушки, кто кидал и копеечку.
– А ну, – выбился из толпы какой-то парень, – меня она послушает?
– За показ пятачок, – строго предупредил хозяин.
– Да ты озверел, мужик?! – ошалел было парень, однако, видно, ему крепко попала вожжа под хвост: – А, ладно, подавись! Где наша не пропадала! – Швырнул пятак в шапку: – Ну, кажи, как мадам Шевалье, сука хранцузская, это делает?
Собачка опрокинулась на спину и задергала растопыренными лапками. Особенно старательно разводила она задние лапы, что заставляло толпу просто-таки рыдать от восторга.
Алексей пожал плечами, не понимая смысла шутки, только ощущая в ней нечто непристойное. «Кто ж такая эта самая мадам? Да черт ли мне в ней? Надо на Невский возвращаться!» И он окликнул кучера.
Тот мученически завел глаза, услыхав, что придется ехать обратно, а впрочем, покорно заворотил коней, хотя ему самому надобно было на Лиговку. Однако, отыскав искомый дом, отстоявший несколько поодаль от дощатой дорожки, проложенной для удобства пешеходов по краю каменной мостовой, он торопливо вывалил прямо у ворот небогатое добро Алексея, в числе коего были и деревенские гостинцы, скрупулезно отобранные тетушкой (чтобы и в грязь лицом не ударить перед двоюродным братцем, и не особенно разориться), и, громогласно божась, кони-де навовсе засеклись, вот-вот падут, не добредя до хозяйской конюшни, – погнал притомившихся лошадушек со всей возможной прытью.
Алексей тупо смотрел ему вслед, слишком усталый и ошеломленный, чтобы даже браниться. Подобной наглости он и вообразить себе не мог. Люди Улановых держались тетушкой Марьей Пантелеевной в большой строгости, и даже такое разболтанное существо, как этот кучер Савелька, ходило бы у нее по струночке. Ну а коли не ходило у Алексея, значит, он сам виноват. Значит, тетушка оказалась права, когда с горячностью уверяла, что к самостоятельной жизни он еще совершенно не способен, поскольку повадками – сущее дитя малое. Что же она все права да права, ну прямо как нанятая, эта тетушка!..
Радуясь, что пешеходов поблизости нету и никто не сделался свидетелем его унижения, Алексей дотащил свои пожитки до малого палисадничка, окружающего двухэтажный дом, и снова помянул Марью Пантелеевну недобрым словом: она ведь настаивала, чтобы Алексей взял с собой хоть одного человека из дворни! Но перегруженная повозка не осилила бы дополнительного седока, поэтому пришлось смириться с самостоятельностью. Впрочем, Алексею к тому не привыкать стать было. Собственного камердинера у него отродясь не водилось, как, впрочем, и у покойного отца, да и тетушка обходилась без горничной.
«Дурень я, дурень, – мысленно стукнул себя по лбу Алексей. – Ну чего надрываюсь, спрашивается? Пускай полежат вещички вон под теми кустиками, а я тем временем живой ногой сбегаю в дом к дядюшке и спрошу у него какого-нито человека». И, сложив узлы да корзины поаккуратнее, Алексей зарысил к высокому крылечку с темными от недавно сошедшего снега ступеньками.
Он сперва подергал шнурок звонка, но отклика никакого не услыхал. Возможно, шнурок был где-то оборван? Пришлось стучать, и все время, пока Алексей бил в косяк сперва осторожненько, согнутым пальчиком, потом постукивал кулаком, потом громыхал что было мочи, он краешком мыслей удивлялся, почему дядюшка выбрал для себя столь невзрачное жилище. Уж казалось бы... с его званием, с его положением при дворе... Впрочем, тетушка не раз упоминала о скромности кузена, о его неприхотливости, доходящей до аскетизма. Он же в ордене каком-то состоит, не то монашеском, не то еще каком-то там, принадлежа при этом как бы к двум церквам: православной, отеческой, и еще каким-то боком – к католической. Диковинно и странно, ну да что ж: куда поп, туда и приход. И до нижегородской сельской провинции доходили слухи о страстной приверженности императора Павла Петровича какому-то неведомому Мальтийскому ордену, коего он был не просто членом, но и гроссмейстером. При этом, сказывали, император был столь глубоко религиозен, что в спальне его, там, где клал он пред образом Спасителя земные поклоны, паркет был потерт от частых прикосновений лба! Как можно молиться враз двум богам, Алексей не постигал, но хорошо понимал: ежели при дворе такая повелась мода, дядюшке просто деваться некуда, приходится не отставать от других.
Между тем он все еще топтался на крылечке, ибо никто не спешил отпереть и спросить, чего изволит гость. Дома никого нету, что ли? Ну ладно, дядюшка может быть в службе, а челядь? Поразбежалась, пользуясь отсутствием барина? Или оглохли все враз? Алексей в досаде стукнул кулаком по самой двери – и, к его изумлению, она отворилась.
– Есть кто-нибудь? – крикнул он, входя в полутемные сени, а потом и в просторную прихожую, откуда вела лесенка во второй этаж. По стенам прихожая была вся заставлена большими ларями для шуб и шинелей и увешана оленьими рогами, на которых, очевидно, в случае сборища гостей, во множестве красовались бы треугольные военные шляпы. Сейчас красиво отполированные рога были пусты, а в доме по-прежнему царила тишина.
Алексей пожал плечами, не ведая, что теперь делать. Потом решился, сделал еще шажок по направлению к высокой двери и приотворил ее. Он увидел перед собою большую проходную залу, где люстры были затянуты тканью от пыли, а окна завешаны, так что здесь царил полумрак. В конце залы была еще одна дверь – приоткрытая, и Алексей, поминутно во весь голос оповещая о своем прибытии (менее всего он желал бы, чтобы откуда-то выскочил какой-нибудь заспанный слуга и вцепился бы в него, словно в татя-грабителя), быстренько перебежал через залу и вошел в следующее помещение. Вошел – и замер на пороге.
Это была столовая комната, причем обставленная с такой утонченной роскошью, какой Алексей даже не ожидал увидать в этом наружно неуютном доме. Комната была небольшая, отделанная дубом, увешанная натюрмортами, призванными возбудить как чревоугодие, так и взор гостей.
Алексей не больно-то понимал в изящном искусстве. Правда, тетушка всячески привечала крепостного малевальщика Спирю, украсив его картинами барский дом, однако сии художества отличались от картин, увиденных Алексеем сейчас, как... как одежонка кухонной стряпухи отличается от бального туалета. Даже на его невежественный взгляд, пред ним были картины выдающихся художников. Как матово лоснились на них бока спелых персиков, как золотился лимон, истекал соком ломоть окорока, чудилось, дышал жаром свежеиспеченный хлеб, играло искрами вино в бокалах, поражали взор пышные невиданные цветы! Впрочем, не живописный, а натуральный стол был тоже весьма хорош. За ним могло уместиться персон двадцать, однако он был накрыт на два куверта. Сверкало серебро, безмятежно трепетали, оплывая, свечки. Несколько больших серебряных блюд были накрыты крышками, которые, однако, не в силах оказались преградить дорогу манящим ароматам, и усталый, проголодавшийся Алексей невольно сглотнул слюну. А вид десятка винных бутылей возбудил в нем немалую жажду. Наверняка в этих пыльных сосудах таились вина, которых в жизни не пробовал он, знавший доселе только лишь домашнюю наливку!
Алексей подошел ближе к столу и принялся с вожделением разглядывать крахмальные белоснежные салфетки с вензелем «ПАТ», лежащие на тарелках. Чистый снег, а не белье столовое. А каковы бокалы! Не серебряные стаканчики со стершимся от времени узором, как у них дома, а сверкающий хрусталь. Вот роскошь! Вот красота!
Вдруг Алексей заметил, что на дне одного из бокалов остался темно-бордовый осадок. Выходило, кто-то совсем недавно пил из него. Возможно, дядюшка ждал-ждал своего приятеля, званного к застолью, почувствовал жажду, выпил немного. А потом его отвлекли какие-то неотложные дела? Стол ведь сервирован не менее часа назад, свечи уже несколько оплыли. Приятель, значит, так и не пришел...
А что, ежели дядюшка ждал вовсе не какого-нибудь таинственного приятеля, а даму? Даму сердца? Тогда понятно, почему удалена прислуга: очевидно, Петр Александрович желал сохранить ее визит в тайне.
Ох, господи! Выходит, Алексей прямиком угодил на любовное свидание?! Хорош племянничек, медведюшка деревенский!
А что, если... если дом вовсе не пуст? Что, если дядюшка и его прекрасная дама сейчас... в постели? На ложе страсти, как пишут в романах. «Не в силах совладать с пылкостию давно скрываемых чувств, они забыли о еде и с наслаждением предались иным утехам...»
Воображение Алексея мигом нарисовало картину разбросанных подушек, смятых простыней, столь же белоснежных и кружевных, как салфетки, может быть, тоже с вензелем «ПАТ», а между ними... От волнения не вполне соображая, что делает, он схватился за одну из запыленных бутылей, стоявшую несколько в стороне от других и хранившую на себе следы пальцев – видимо, именно из нее наливалось вино в бокал, – и наполнил его. Поднес к губам – но не успел выпить, услыхав скрип двери.
Алексея ожгло стыдом. Поспешно, едва не расплескав, он поставил бокал и оглянулся с самым дурацким видом, отлично понимая теперь, как чувствует себя воришка, забравшийся в пустой дом и схваченный хозяином на месте преступления.
Однако двери оставались по-прежнему полуприкрыты, никто не врывался в столовую, пылая возмущением и желанием немедленно прищучить незваного гостя.
Алексей выглянул. Никого в зале, никого и в маленькой гостиной, куда он вышел, перебежав столовую (комнаты располагались анфиладою). Видимо, ему послышалось.
Он обошел гостиную, обставленную весьма скромно, однако изысканно, посидел на диванчике перед остывшей печью, бездумно глядя в окно, на гаснущий день. Пить хотелось по-прежнему. Наконец Алексей, пожав плечами, воротился в столовую и снова взялся за бокал. В ту же минуту что-то громыхнуло за стеной – было такое впечатление, будто рухнуло нечто тяжелое. Опустив на стол бокал и едва не расплескав его, Алексей вылетел в залу, ибо звук исходил именно оттуда.
Что за чудеса?! Один из стульев, доселе стоявший вместе с другими у стены, валяется посреди комнаты! Сам упасть он никак не мог – кто-то должен был швырнуть его, да с не маленькой силою: стул ведь тяжелый, дубовый.
Вновь торопливая пробежка по всему первому этажу, вновь недоуменное пожатие плеч – пусто в доме! Алексей осторожно прокрался наверх и, замирая от стыда, постоял на площадке лестницы, глядя на несколько обращенных к нему и запертых дверей. Потянул одну – это явно кабинет, в углу мольберт, несколько шпаг и рапир, но он же и библиотека – вот книжные шкафы, конторка, стол, заваленный журналами и книгами, очень красивый секретер карельской березы с восемью шкафчиками, в одном из которых торчал длинный ключ... Много картин. Акварельный портрет горбоносого господина, изображенного в профиль, с темными, тщательно завитыми, но ненапудренными волосами, в белом шарфе. Наверху белым изображен был какой-то странный шестиугольник. Что же это за знак? И чей это портрет? Уж не дядюшкин ли?
Алексей даже несколько оторопел от такого открытия. Дядюшка Петр Александрович в его воображении был этакий маститый старец, покрытый сединами, но внезапно Алексей осознал, что перед ним довольно-таки молодой человек, годов этак тридцати четырех, вряд ли годившийся ему в отцы – по крайности, лишь в старшие братья.
Каждую следующую дверь Алексей открывал с особенной опаской, но все комнаты были безлюдны – в их числе и спальня, куда он заглянул не прежде, чем окончательно сгорел со стыда. Занавеси алькова задернуты, тишина. Значит, это было все-таки не любовное свидание!
Алексей побрел вниз; покачал головой, глядя на стул, загадочным образом очутившийся посреди залы. Этому могло быть только одно объяснение: домовой шалит! Не по нраву ему, что гость освоился в чужом жилище и даже попытался без спросу испить хозяйского вина, – вот и разошелся суседко. Надо, наверное, было хоть у него позволения спросить, чтобы жажду утолить? А что особенного? Бывало, вежливое обращение ко «вторым», то есть ко всякой нечисти, спасало жизнь человеку. Скажем, есть ли более зловредное, враждебное человеку существо, чем банник? Хлебом его не корми, дай запарить запозднившегося посетителя баньки до смерти, а то и ободрать с него клочьями кожу с живого! Однако известен случай, когда человек, спасаясь в полночь от упыря, гнавшегося за ним с ближнего кладбища, забежал в баню и взмолился о защите у ее хозяина. Упырь потребовал своей добычи, но банник оказался непреклонен. Сказавши: «Он мой гость, он у меня защиты просил!» – начал биться с упырем, спасая человека, и бились они до третьего петушиного крика, когда всей нечисти предписано провалиться в бездны преисподние. Человек ушел живым, хоть и поседел за эту ночь, как лунь.
– Батюшко-домовой, – выдавил Алексей, чувствуя себя при этом изрядно глупо: то, что естественно звучало в их стареньком доме в Васильках, выглядело сущей нелепостью в чопорной столичной зале. – Дозволь в твоем обиталище обретаться, не обидь, я ведь не со злом явился, а к дядюшке, из Васильков нынче же прибыл, но его дома нету, я только испить немножко хотел, горло с дороги пересохло...
Внезапно позади него раздалось невнятное восклицание. Волосы на затылке Алексея поднялись дыбом. Осенив себя крестным знамением, он оглянулся, готовый увидеть бог весть что, самую несообразную нечисть, но только не то, что увидел.
В дверях, ведущих из прихожей, стояла дама в длинном черном плаще и широкополой шляпе и смотрела на Алексея с таким же изумлением, с каким он смотрел на нее. Впрочем, уже через мгновение глаза нашего героя выразили иное чувство.
Господи! Какая же она была красавица!
Июнь 1790 года
– Я ожидала сегодня великого князя с супругою. – Кажется, императрица только сейчас заметила, что сын не появился на куртаге[3]. – Что там опять у него в Гатчине? Очередные маневры?
В голосе ее звучала язвительная насмешка. Вообще она явно не была огорчена отсутствием сына – без него Екатерина чувствовала себя свободнее. Ей мешали его осуждающие взгляды, да и вообще присутствие тридцатичетырехлетнего сына для женщины, любовнику которой всего лишь двадцать три, а ей самой... впрочем, не стоит об этом.
Гатчина была подарена Павлу с одной целью: удалить от двора, от людей эту одиозную фигуру, и этот подарок, который был сделан для того, чтобы от него отвязаться, пришелся ему необыкновенно по душе. Как северная деревенская резиденция, Гатчина была великолепна: дворец, вернее, замок, представлял собой обширное здание, выстроенное из тесаного камня, прекрасной архитектуры. При дворце имелся обширный парк, в котором росло множество старинных дубов и других деревьев. Прозрачный ручей вился вдоль парка и по садам, обращаясь в некоторых местах в обширные пруды, вернее, озера. Вода в них была до того чиста и прозрачна, что на глубине двенадцати-пятнадцати футов[4] видны были камушки, в этих прудах плавали большие форели и стерляди.
Однако вовсе не красотами природы влекла Павла Гатчина – здесь он устроил себе особый мирок, во всем отличный от ненавистного петербургского. За неимением другого дела, вся деятельность его нетерпеливой натуры свелась к устройству так называемой гатчинской армии – нескольких батальонов, отданных под его непосредственную команду. И забота об их обмундировании и выучке поглотила его всецело. Наконец-то он смог где-то насадить тот милитаризованный порядок, к которому властно влеклась его душа (вот уж теперь можно было не сомневаться, что он истинно сын своего отца!). Мечты о порядке в государстве преобразовались в хлопоты о строгой дисциплине, которая в идеале являлась воинской дисциплиной. Однако не зря говорят, что Павел был натурой противоречивой. Его не менее властно влекли к себе рыцарские идеалы, воплощением которых для него с раннего детства был Орден госпитальеров, или иоаннитов, сиречь орден Святого Иоанна Иерусалимского, чаще называемый просто Мальтийским, оттого что уже в течение нескольких веков резиденция великого магистра ордена располагалась на острове Мальта.
Проникновение госпитальеров в Россию началось еще в петровские времена, когда христиане пытались выступать единым фронтом против мусульман. В ту пору братство называлось в России Ивановским, по имени святого патрона ордена. Петр отправил на Мальту с официальной миссией графа Бориса Шереметева, который воротился оттуда с мальтийским крестом на груди, первым из русских сделавшись кавалером и рыцарем! Однако союза не получилось, потому что процветающий орден требовал слишком большой цены за свои услуги.
Екатерина в свое время обратила внимание на значение Мальты в стратегическом отношении и просчитала те выгоды, которые можно извлечь для России из дружбы с гроссмейстером ордена. Одаренная необыкновенным искусством отыскивать себе союзников в самых неожиданных местах, использовать для этого самые странные случаи, она вошла в тайные переговоры с тогдашним гроссмейстером ордена, принцем Роганом, и старалась привлечь госпитальеров на сторону России в ее войне с турками. В обмен на это было установлено великое приорство ордена в Ржечи Посполитой. Роган заключил секретный союз с Екатериной, и рыцарские корабли, под предводительством командора Фляксляндена, соединились с русским флотом, возглавляемым графом Алексеем Орловым, в Архипелаге. Однако союз Екатерины с Роганом был разрушен происками министра Людовика XV Шуазеля, грозившего отнять у ордена все имущество, которым он владел во Франции, если отношения с Россией не будут прерваны. Под угрозами французского короля Роган отказался от всех обязательств перед Россией. Однако он передал нашему правительству все карты и планы, которые были заготовлены орденом для экспедиции на Восток. Екатерина сохранила к ордену некое странное чувство, которое можно было бы назвать политической любовью, и продолжала помогать ему. Она передала это чувство и это отношение сыну, однако не учла того огромного впечатления, которое романтика рыцарства, отречения от мирских благ во имя воинских подвигов (а воинские подвиги страстно влекли милитаризованную душу Павла), произведет на цесаревича.
Тут тоже не обошлось без старого масона и мистика Никиты Панина. Когда его воспитанник был еще подростком, он получил от Никиты Ивановича в подарок книгу «История гостеприимных рыцарей святого Иоанна Иерусалимского, называвшихся потом родосскими, а ныне мальтийскими рыцарями. Сочинение г-на Верно д'Обефа, члена Академии изящной словесности». Грубые и мужественные лица рыцарей, их подвиги во имя Христова и Гроба Господня очаровали наследника русского престола так, как никогда не очаровывали его деяния великих предков по защите и расширению границ в России. Он не любил свою страну и боялся ее. Ему показалось, что сверкающий кристалл Мальтийского рыцарства создаст вокруг него необходимый круг света, в котором можно будет скрыться от всех тех ужасов, подозрений, разрывающего честолюбия – от всего, что терзало чувствительную и в то же время сухую душу Павла. Именно поэтому, учредив еще в 1776 году известный Инвалидный дом для русских матросов, великий князь посвятил его ордену и велел поместить на фронтоне здания восьмиконечный мальтийский крест, который казался ему похожим на звезду небесную. Менее романтические натуры усматривали в нем сходство с пауком.
Екатерина, женщина трезвомыслящая, отнюдь не была так уж увлечена мальтийскими рыцарями, как прежде, во времена дружбы с Роганом. Последнее разочарование вызвал у нее блестящий Юлий Литта, необыкновенный красавец и молодец, широкоплечий, с ослепительными черными очами, богатырского роста, в 1789 году явившийся на русскую службу. К тому времени он был капитаном галеры (а надо сказать, что основной службой рыцарей была оборона Средиземного моря от турецких пиратов, поэтому все они считались отменными моряками), а в России тогда вообще всех иностранцев встречали с распростертыми объятиями. Неудивительно, что 7 марта 1789 года состоялся указ о принятии мальтийского кавалера и тамошнего флота капитан-командора в нашу службу капитаном генерал-майорского ранга, с жалованьем 1800 рублей в год плюс к тому на стол по 150 рублей в месяц. Не прошло и полугода, как Литта за участие в первом Роченсальмском сражении, где он командовал галерами правого фланга, был произведен в контр-адмиралы, получил золотую шпагу и Св. Георгия 3-го класса.
Однако кампания следующего года не была благоприятна для русского оружия, и причиной сего стал именно наш черноглазый кавалер, который мог быть хорошим исполнителем чужих приказов, однако принимать самостоятельные боевые решения оказался не способен. Его подчиненные не могли понять его приказов, не видели смысла в его действиях. Литта был уволен от русской службы «впредь до востребования», что означало дипломатичное «навсегда». Прекратив боевую деятельность, он обратился к занятиям более мирным: сделался ходатаем по делам своего ордена, который изо всех сил желал найти покровительство в России, чтобы возместить свои потери в других странах. Папским нунцием в Петербурге в то время был брат Литты, Лоренцо, а то, что наследник русского престола самозабвенно увлечен игрой в рыцарей, открывало перед госпитальерами перспективы поистине баснословные.
В этом братстве, как и во многих других тайных обществах, огромное значение придавалось внешним обрядам, и детская душа Павла тянулась к их эффектности и внешнему блеску так же сильно, как тянулась она к парадам, артикулам и воинской муштре. Поэтому в тот жаркий июньский день, когда Екатерина радостно убедилась, что нелюбимый сын снова заигрался в свои гатчинские игрушки, он был занят отнюдь не ими.
В Гатчине чествовали святого Иоанна Крестителя – покровителя Мальтийского ордена – и принимали в ряды госпитальеров капитан-поручика русской армии Петра Талызина.
Апрель 1801 года
– Дядюшка, говорите? – повторил Бесиков с таким ехидным поджатием губ, что Алексею мгновенно сделалось ясно: ни единому его слову смуглявый дознаватель не верит, поэтому нечего и пытаться что-то говорить. Однако бедняга все еще не оставил надежды развеять витавшее над ним ужасное подозрение:
– Дядюшка! Троюродный! Петр Александрович был кузеном тетушки Марьи Пантелеевны Талызиной, а также матушки моей, покойной Анны Пантелеевны Улановой, в девичестве Талызиной тож.
– Давно ли вы виделись с генералом?
– Никогда! – истово замотал головой Алексей. – Не имел чести такой. Письмо его, о запрошлый год пришедшее, в коем он приглашал меня в Санкт-Петербург, обещал оказать при надобности протекцию и даже представить ко двору, – это письмо, да, я читал.
– В позапрошлом году звал в гости? А что ж вы столь долго собирались принять приглашение?
– Тетушка не пускала. В ту пору мне едва семнадцать сравнялось, вот она и говорила, не дорос, мол, я еще до столичного житья. Тут-де, в столице, вертепы разврата на каждом углу, всяк норовит ближнего своего облапошить да под монастырь подвести, ну так я первым среди них и буду, – признался Алексей с тем простодушием, которое всегда было его первейшим качеством.
– Тетушка ваша, вижу, мудрая дама, – хмыкнул развалившийся на стуле Варламов, поднося ко рту трубочку.
Могучий Дзюганов тотчас подал ему огоньку, и Алексей быстро уставился на Бесикова. Не потому, что тот казался ему столь уж симпатичным, скорее наоборот! Он предпочитал смотреть на Бесикова, поскольку багровая рожа Дзюганова с ее непропорционально большим лбом, крохотными, глубоко упрятанными глазками и бородавкою на щеке внушала истинный страх.
– Да уж, – кивнул Бесиков приятелю и вновь вонзил в Алексея свои буравчатые глазки. – Отчего ж нынче намерения многоуважаемой Марьи Пантелеевны столь разительно переменились, что она решилась-таки отпустить вас в здешние вертепы?
– Так ведь я наследство получил, – сообщил Алексей со всей возможной искренностью.
– Наследство? Какое же это наследство?
– После батюшкиной кончины я сделался обладателем Васильков с прилегающими землями, а также трехсот душ народу.
– Не бог весть что, но у иных и этого не имеется, – одобрительно кивнул Варламов, но Бесиков нахмурился:
– Не постигаю связи...
– Ну как же? – заторопился объяснить Алексей. – Покуда был живой батюшка, всем у нас в доме и в деревне заправляла тетушка. Батюшка был человек тихий, болезненный, ну, тетушке и пришлось волей-неволей взвалить на себя все хлопоты. Она меня и вырастила, образование мне дала, потому что сама некоторое время вместе с моей матушкой обучалась у лучших учителей нижегородских, и языки до сих пор знает изрядно, и на музыках играет, на клавикордах и мандолине. Дедушка мой, покуда состояние не спустил, был богач, на дочерей ничего не жалел. Они когда-то первыми невестами в Нижнем слыли. Потом-то, когда дедушка проигрался в дым-прах, еле смог пристроить маменьку за васильковского помещика Уланова, вдовца, бывшего ее на двадцать годков старше. Ну а Марье Пантелеевне так и не сыскалось партии: не идти же, в самом деле, столбовой дворянке за купчика какого-нибудь! Матушка померла, рожая меня, так что тетушке пришлось...
– ...волей-неволей взвалить на себя все хлопоты, – докончил за него фразу Бесиков со своей злоехидной усмешкою.
– Экая жалостная история! – покачал головою Варламов. – А подай-ка ты мне, брат Дзюганов, еще огоньку, что-то гаснет трубочка, не быть ли дождю?
– Извольте продолжать! – нетерпеливо махнул рукою Бесиков, и Алексей зачастил, словно отвечал урок:
– Марья Пантелеевна мне родная тетушка и вырастила меня, однако же не сказать, чтобы я всем доволен был, как хозяйство поставлено и дом ведется. Вот и известил ее, когда батюшка отдал богу душу: отныне сам-де буду во все дела вникать, как положено законному владельцу имения. В полевые работы, в разведение скота, в уплату податей. А на ней останется дом и все огородные дела. Ах так, ответствовала тетушка, ну, в таком разе прощай, племянник Алешенька, завтра же я отъеду от тебя прочь. Давно мечтала упокоить старость свою в монастыре, вот и поеду в Дивеево, там, сказывают, объявился святой старец Серафим, при нем община сестер, у них и стану искать себе пристанища. Ты что, говорю, тетушка, никак с печки упала? Какой старец Серафим? А я как же? А огород? А всякие хлопоты? Либо полон дом, либо корень вон, воскликнула тетушка. Либо я останусь полновластною хозяйкою в Васильках, что в доме, что в деревне, либо...
– ...ищи меня в некотором царстве, в некотором государстве, у старца Серафима, – вновь докончил фразу Бесиков, так скучно кивая, словно историю Алексееву слушал с превеликим трудом.
– Ну да, вроде того. И даже начала собирать вещички! – воскликнул Алексей испуганно, словно бы вновь переживая те мгновения, когда вдруг осознал: никогда в жизни не справиться ему с имением без тетушки! Она все успевала, все видела разом, все про всех знала, всех умела держать в ежовых рукавицах, так что даже самый ленивый из крепостных, застарелый бобыль Тишка, которого никак не удавалось свести с пожилой девкой Василисою – и жениться-то ему лень было! – ходил у нее по струночке и оброк исправно платил, и недоимок по его вине за хозяйством не числилось. Да у Алексея все работники поразбредутся: они ведь его дружки-приятели с детства, не видят в нем барина-хозяина! Как бы он ни чванился, все же понимал, что не обойтись без тетушкина совета и твердой руки. – Но все-таки, пусть и не сразу, мы поладили. Я отступился от решения быть помещиком и снова предоставил тетушке полную власть в имении. Она же скрепя сердце согласилась отпустить меня в столицу...
– Скрепя сердце! – громко повторил Бесиков, воздев указательный палец. – Слыхали, господа?
«Господа», в лице Варламова и Дзюганова, враз значительно кивнули.
– ...к дядюшке Петру Александровичу, – докончил Алексей. – И вот он я тут.
– Туточки, – подхватил неугомонный Бесиков. – И что же вы сделали первым делом, прибывши в северную столицу? Зачем дядюшку придушили? Нехорошо, молодой человек! Чем он вам не угодил, что вы тотчас по приезде подушками его завалили, спящего, доступ воздуху прекратив в пути дыхательные? Да еще небось сами сверху налегли всей тяжестью младой плоти? Ай-яй-яй! Неужто господин Талызин встретил вас неприветливо? Неужто не стал скрывать, что начисто позабыл о приглашении, сделанном чуть не два года назад, да и вообще – приглашал вас только в шутку, желая сделать милый реверанс, оказать знак внимания, как это принято меж воспитанными людьми, но на самом деле вовсе не имел намерений вешать себе на шею деревенского увальня, от которого даже родная тетка готова была избавиться любой ценой?
Алексей вытаращил глаза.
Этот Бесиков был истинный бесов сын. Все в его устах получало некий извращенный смысл, чудилось, он на мир смотрел, нелепо искорячась, промеж ног своих, как поступают деревенские суеверы, желая увидеть домового.
Домового? Алексей аж задохнулся от внезапной догадки. Тот скрип двери и падение тяжелого стула... Он-то, дурень, начал подозревать батюшку-домового, а выходило, что, пока Алексей в недоумении шастал по дому, здесь же находился и убийца Талызина, который только что расправился со своей жертвой и пытался скрыться незамеченным! Мертвый, удушенный дядюшка, конечно же, лежал в своей спальне, в алькове, надежно скрытый задернутыми занавесями. Алексей посовестился туда заглядывать, а загляни – увидал бы труп, смекнул, что дело неладно, поднял бы тревогу и сейчас не стоял бы пень пнем перед этим... Бесиковым...
А впрочем, еще неизвестно, как дело повернулось бы, загляни Алексей в альков. Может быть, убийца тотчас же на него набросился бы. Наверняка! Вообще странно, что он не покусился на жизнь Алексея. И кто знает, может быть, непременно покусился бы, когда б не появилась она. Выходило, что она спасла жизнь Алексею, а не только...
Он ощутил, как вся кровь при этом воспоминании встрепенулась и прихлынула к лицу.
Конечно, он самым постыдным образом покраснел; конечно, это не могло остаться не замеченным Бесиковым и, конечно, получило в его толковании новый, противный правде смысл.
– Что? – Глаза-буравчики так и ввинчивались в Алексея. – Что вы вспомнили? Говорите! Ну! Не сомневайтесь: в крепости из вас рано или поздно, так или иначе выбьют признание в содеянном, однако собственное раскаяние крепко облегчит вашу участь. Но имейте в виду: чем дольше вы будете запираться, тем большие беды и неприятности навлечете на свою голову. Лично у меня нет никаких сомнений ни в виновности вашей, ни в мотивах свершенного вами злодейства.
– А коли вы такой умный, что сами все наперед знаете, так чего надо мной измываетесь? – зло перебил Алексей. – Чего допросами мучаете? Отправьте в крепость – и дело с концом! Ничего, на вас свет клином не сошелся. Небось и в узилище сыщется человек спокойный, понимающий, он не станет торопиться возводить облыжные обвинения на юношу, который ни сном ни духом... Кстати, о сне! Ну можете ли вы представить себе злодея, который задушил бы родного дядюшку, как, по вашему уверению, это сделал я, а потом не позаботился унести ноги, а улегся спать на диванчике в его кабинете. Уж, казалось, можно было бы предвидеть, что обвинения на него падут! По крайности, позаботился бы о каких-то доказательствах своей невиновности. Мог бы представить дело так, будто дядюшку удар хватил, ну, этот, а-по-плек-си-ческий, что ли, – вспомнил Алексей недавно услышанное от того же Бесикова словечко, – ну, вроде бы покойный своей смертью упокоился. Можно было хоть подушки убрать от лица...
– А вы почем знаете, что лицо его было закрыто подушками, коли, как уверяете, не имеете к делу никакого касательства? – с неожиданным проворством, опередив даже проныру Бесикова, подскочил со стула Варламов, приблизив свое толстощекое лицо к лицу Алексея, и вдобавок грозная тень Дзюганова на него надвинулась, и Бесиков, конечно, в стороне не остался, и Алексей почувствовал себя так, словно это его, а не бедного дядюшку задавили, «доступ воздуху прекратив в пути дыхательные».
– Позвольте! – пискнул он. – Откуда я знал? Так ведь вы же сами мне об том сказали!
– Вот уж нет! – Бесиков даже ладонь вперед выставил. – Я сказал лишь, что его завалили подушками, умертвив таким образом, однако вполне могло статься, что затем убийцы убрали орудия убийства от лица жертвы. Вы же, молодой человек, себя выдали, в точности описав, как выглядел труп, когда он был обнаружен камердинером покойного, Феоктистом Селиверстовым.
– Вот те на! – изумился Алексей. – Никакого Селиверста Феоктистова...
– Феоктиста Селиверстова! – уточнил Бесиков.
– Да какая разница? Никого я и в глаза не видел! Никого совершенно в доме не было, кроме меня!
– И этим вы воспользовались, не так ли? – значительно кивнул Бесиков. – Что же до камердинера, то его действительно не было в момент совершения убийства, он воротился позже. По его словам, нынче господин Талызин ждал к себе какого-то гостя. Означенный Феоктист Селиверстов приготовил легкие закуски (он также исполнял у генерала обязанности кухмистера) и сервировал стол, ну а потом хозяин позволил ему навестить его, Феоктиста, извините за выражение, пассию, которая служит в горничных у госпожи Федюниной, проживающей в собственном доме на Литейном. Камердинер отсутствовал около трех часов и за это время успел лишиться своего хозяина. Возвратясь, он увидел на столе следы пиршества, поднялся во второй этаж разузнать, нет ли у генерала каких-то пожеланий, и тут, к своему изумлению, обнаружил вас, спящего мертвым сном на диване. Отчаявшись добудиться, прошел в спальню, где и нашел своего хозяина, воистину спящего мертвым сном. Ну что Феоктисту Селиверстову еще оставалось делать, как не полицию вызывать? Он и вызвал нас...
Алексей слушал его, нервно тиская руки, а мысли бежали в голове одна быстрее другой. Словно уловив их, Бесиков высоко заломил бровь:
– Небось станете нам голову морочить, уверяя, что убийцей дядюшки сделался тот человек, коего он ждал к столу, накрытому Селиверстовым? Ну что ж, это могло быть неплохой вашей уверткою. Однако все против вас, любезный. Этого господина мы знаем. Они с покойным Талызиным были большими приятелями, поскольку оба вместе так или иначе приложили руку к изменению государственного строя Российской империи. – Бесиков криво усмехнулся, Варламов покачал головой, и только бурая рожа Дзюганова оставалась по-прежнему спокойной, словно глиняная кринка. – Про светлейшего князя Платона Александровича Зубова слыхали когда-нибудь? Нет? Ну и ладно, в самом деле, к чему вам лишнее знать? Вот его и ждал генерал к себе в гости. Однако некие неотложные дела помешали его сиятельству явиться на дружескую пирушку. Он прислал слугу с запискою и извинениями. Записку мы нашли, слугу Зубова допросили. Он еще застал генерала в добром здравии. Получив сие послание, господин Талызин выразил свое глубокое сожаление, что долгожданный визит не мог состояться, просил передать его сиятельству свое почтение, ну а потом слуга убрался восвояси, оставив генерала одного.
– А разве дядюшка не мог покушать в одиночестве? – запальчиво воскликнул Алексей, чувствуя, как полыхают его уши.
Черт, вот же черт, наделила же его судьба такими дурацкими ушами! Стоит ему соврать, как их тотчас же начинает жечь, они словно бы огнем полыхают, отчего тетенька, бывало, не раз и не два с издевкою повторяла: «На воре шапка горит, а у лгуна – уши!», в конце концов начисто отбив у Алексея уверенность, необходимую для всякого успешного вранья.
– Мог, конечно, мог, – покладисто кивнул Бесиков, с видимым интересом наблюдая за горящими ушами Алексея. – Однако покойный господин Талызин страдал заболеванием желудка, а оттого не мог употреблять грубой мясной пищи. Феоктист Селиверстов готовил ему легкие супы и овощные блюда по французским рецептам, даже когда в доме собирались гости. Вот и на сей раз фактически было приготовлено два стола: один для вегетарьянца-хозяина, другой – для гостя, любителя наперченных, острых блюд. Но вот какая интересная история получается, дорогой господин Уланов. Все овощные блюда остались нетронуты! Человек, который пировал в столовой, с удовольствием отведывал котлеты, паштеты и все такое прочее, а также острые сыры, от которых у господина Талызина непременно сделались бы колики. А вот у вашего молодого желудка никаких колик от котлет-сыров не сделалось. Ведь это вы наслаждались гастрономическими талантами Феоктиста Селиверстова, вы – не так ли, племянничек?
В голове Алексея шумело от страха, оттого голос Бесикова доходил как бы сквозь вату, и смысл слов был постигаем не тотчас. Но вот Алексей все же вникнул в него – и у него даже ноги ослабели.
«Вы наслаждались, вы, племянничек!» – говорит Бесиков. «Вы» здесь – не два человека, а только лишь местоимение множественного числа. Бесиков имеет в виду только Алексея. Его одного. Какое счастье!
Ну да, конечно, она ведь почти и не ела ничего. Глотнула вина, пощипала винограду, отведала кусочек сыру. Наверное, полицейские даже не заметили, что вторым прибором кто-то пользовался. А что до двух испачканных бокалов, то двух бокалов как раз и не было. Они вдвоем пили из одного – то есть она лишь пригубливала, а уж до дна вино допивал Алексей, находя сумасшедшее наслаждение в том, что прикасается к краю бокала, на коем еще оставался след напомаженного, душистого рта. Это напоминало украдкой сорванный поцелуй, ведь он алкал коснуться ее губ своими...
– Да вы меня не слушаете, молодой человек! – вонзился в его затуманенное сознание голос Бесикова. – А напрасно. Здесь решается не что-нибудь, а ваша судьба. Обвинение в убийстве – это весьма тяжкое обвинение!
– Да прекратите ли вы, наконец? – возопил Алексей, который от сладостного воспоминания неожиданно взбодрился. – Ну допустимо ли этак обращаться с дворянином?! Все-таки наше сословие до сих пор находится под покровительством высочайшей власти, и ежели я обращусь с жалобою на вас к императору Павлу Петровичу... Ведь и до нашей провинции слухи дошли о некоем окне для прошений, куда всякий-каждый может обратиться со своею докукою![5]
Он осекся. Что у Варламова, что у Бесикова вдруг сделались одинаково вытаращенные глаза, и даже на глинобитном лице Дзюганова отобразилось нечто вроде застенчивого недоумения. Некоторое время царило общее молчание.
– К императору Павлу Петровичу? – наконец обрел дар речи Бесиков. – Да вы что, сударь, разве не знаете, что он убит?
– Как, и он тоже? – в ужасе возопил Алексей. – Клянусь, я его не... я тут ни при чем!
– Пфе! – сделал губами Варламов, и Алексей не тотчас сообразил, что толстяк этаким образом смеется. – Пфе, пфе, пфе!
– Правда что, велика Россия: на одном конце зима, на другом – лето! – презрительно бросил Бесиков. – В этом убийстве вас никто не винит, угомонитесь! И все-таки без участия вашего семейства в государственном перевороте не обошлось. Ведь в нем был замешан ваш дядюшка... ныне покойный – с вашей помощью, сударь мой!
– Господи! – простонал Алексей отчаянно. – Разве не мог убить моего дядюшку кто-то другой? Разве не мог проникнуть в дом вор...
– И удалиться, великодушно не тронув никакого добра, – подмигнув непроницаемой роже Дзюганова, пробормотал Бесиков.
– Ну хорошо, не вор, так кто-нибудь иной, – осознал нелепость своих слов Алексей. – В конце концов, господин Талызин был человек известный, у него могли сыскаться враги, соперники на почве страсти нежной... – Алексей чуть не откусил себе язык за сию обмолвку и зачастил, надеясь, что Бесиков не заметил, как его снова бросило в краску: – Ну какие, ради господа бога, какие причины имелись у меня убивать родного дядюшку?! Все, что вы говорили о его якобы неприветливой встрече, – полные глупости, он меня никак не встретил, потому что не встретил никак, мы и не виделись вовсе. Я надеялся с его помощью устроиться в столице, получить протекцию при дворе – ну зачем, зачем мне рубить сук, на котором я сижу, и убивать человека, от коего зависела вся моя дальнейшая судьба?!
– Единственная здравая мысль, вами высказанная, – одобрительно улыбнулся Бесиков, и сколь ни был Алексей ошеломлен, он не мог не изумиться, увидав, до чего украсила, смягчила, преобразила искренняя улыбка сухое, ехидное лицо дознавателя. – Ваша судьба и впрямь зависела от дядюшки. Вы могли надеяться и на протекцию, и на его рекомендации к нужным людям, и на полезные знакомства, которые сделаете с его помощью, но все это в одночасье сделалось сущей мелочью в сравнении с внезапно открывшейся вам новостью. Она одурманила, опьянила вас, заставила потерять голову. Вы забыли все свои прошлые намерения. Теперь вы могли думать только о ней.
«Она одурманила, опьянила вас, заставила потерять голову. Вы забыли все свои прошлые намерения. Теперь вы могли думать только о ней...»
Откуда узнал об этом Бесиков? Каким образом проник в самые потаенные мысли Алексея?!
Наш герой был так поражен, что ему понадобилось некоторое время понять: Бесиков говорит не о загадочной даме, а о какой-то там новости! Какая же это новость имеется в виду?
– Собственно говоря, я вас даже где-то понимаю, – понизил голос Бесиков. – У кого не закружилась бы голова, узнай он, что является вовсе не деревенским барином, у которого какие-то там триста полудохлых душ в забытых богом Васильках, а на деле – баснословное состояние, чуть ли не самое большое в России?! Ну и вот... попутал черт. Небось и более крепкий человек смутился бы, а вам-то где устоять было?