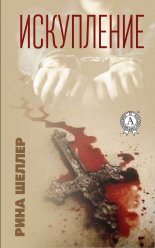Становление психологии деятельности Леонтьев Алексей

Ранние работы А.Н. Леонтьева и его путь к психологии деятельности
Прорыв во второй половине 1980-х гг. идеологического «железного занавеса», во многом отгораживавшего советскую гуманитарную науку, в том числе психологию, от мировой, вызвал закономерный взрыв интереса к ранее запретным плодам – зарубежным психологическим теориям и методическим подходам. Освоение мирового наследия сопровождалось утратой интереса к, казалось, уже приевшимся отечественным подходам и теориям, которые в какой-то момент стало модно рассматривать как наследие тоталитарной идеологии. Но прошло десятилетие, пена осела, и в последние несколько лет отчетливо стало заметным возрождение интереса к теоретическому и методологическому наследию отечественных авторов. Во многом это совпало с рядом столетних юбилеев ведущих отечественных психологов – Л.С. Выготского (1996), Б.В. Зейгарник (2000), П.Я. Гальперина (2002), А.Р. Лурия (2002), в связи с которыми проводились большие международные конференции. Но интерес к научному наследию ведущих отечественных ученых носит отнюдь не только юбилейный характер; вот уже четвертый год в Психологическом институте РГГУ проводятся ежегодные чтения памяти Л.С. Выготского, в стране издаются и переиздаются (и пользуются большим спросом) книги Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, А.Ф. Лазурского, Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева, П.Я. Гальперина, Б.В. Зейгарник и других создателей отечественных традиций в психологии.
В этом году мы отмечаем столетие Алексея Николаевича Леонтьева, одного из тех ученых, кто в наибольшей степени определил облик советской и российской психологии второй половины ХХ в. Несмотря на то, что его работы продолжают оставаться основой учебных программ по общей психологии и психологии развития, большинство из них не переиздавались около 20 лет, за исключением сборника трудов по филогенезу психики[1]. Семья и ученики А.Н. Леонтьева, однако, после его смерти продолжали работу над его научным архивом, в котором сохранилось много неопубликованных работ, имеющих не только историческое, но и немалое теоретическое значение. Не один десяток рукописей из архива А.Н. Леонтьева был опубликован за эти годы в научных журналах и сборниках, а также в двухтомнике его избранных произведений[2] и в сборнике, полностью состоявшем из работ, при жизни не публиковавшихся[3]. Недавно при поддержке Института «Открытое общество» был также издан его курс лекций по общей психологии[4]. В 2001 г. в ФРГ вышел сборник ранних произведений А.Н. Леонтьева под редакцией Г. Рюкрима с предисловием Е.Е. Соколовой[5]. Настало время для подготовки выверенного и представительного собрания всех основных научных трудов А.Н. Леонтьева.
Данное издание представляет собой первый том такого собрания; полностью осуществить этот проект предполагается до конца десятилетия. Принцип формирования томов избран смешанный, тематически-хронологический, – с тем, чтобы каждый том представлял собой самостоятельный завершенный гештальт. Данный том, посвященный становлению собственной психологической программы А.Н. Леонтьева, охватывает период с середины 1920-х до конца 1930-х гг. и включает его ранние работы; в него также вошли три поздние статьи, в которых автор ретроспективно повествует об этом периоде.
Для ученых именно ранние работы того или иного автора могут зачастую дать для понимания его концепции (и механизмов научного творчества вообще) намного больше, чем его поздние «классические» произведения, в которых все уже «причесано» и «приглажено».
Многие из работ, включенных в настоящий том, не были опубликованы автором в свое время – они либо были обнародованы в последние два десятилетия, уже после смерти автора, либо (таких немало) публикуются в этом издании впервые. А.Н. Леонтьев не отличался «легким пером». Чеканный стиль его научных статей давался ему непросто; он был чрезвычайно требователен к себе и подолгу работал над каждым текстом, зачеркивая и правя его, и не спешил отдавать недостаточно доработанные, по его мнению, работы в печать. К тому же, когда речь идет о наследии ученого, становление которого пришлось на 1920—30-е гг., к чисто научному примешивается еще и политико-идеологический контекст. Целый ряд текстов тех времен не были опубликованы не потому, что они не были предназначены для публикации, и не потому, что автор не считал их достойными, а потому, что по тем или иным причинам (порой малосущественным) они не вписывались в господствующую идеологическую линию (а чаще конъюнктуру) и публикация их была невозможна.
Содержание данного тома разбито на несколько разделов. В раздел «Исследования высших психических функций» вошли работы, выполненные в русле культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, к которому Леонтьев примкнул в конце 1920-х гг. Раздел «Диалоги с Выготским» охватывает период с 1932 по 1937 г., когда Леонтьев, развивая идеи Выготского, начал дискутировать с ним о наиболее перспективных путях развития культурно-исторического подхода. Раздел «Становление идеи деятельности» содержит работы 1933–1935 гг., в которых постепенно вырисовывались контуры того, что впоследствии станет известным как деятельностный подход в психологии. Раздел «Итоги» представляет обобщающие тексты 1938–41 гг., в которых А.Н. Леонтьев формулирует методологические и теоретические основы своего подхода. Наконец, последний раздел содержит ретроспективный анализ А.Н. Леонтьевым событий и научных дискуссий этого периода.
Научный путь А.Н. Леонтьева начался сразу после завершения его учебы на философском отделении ФОНа – факультета общественных наук Московского университета (1921–1923), где он стал специализироваться в области психологии. Факультет общественных наук был организован в Московском университете в 1919 г. на базе бывшего историко-филологического факультета; при нем действовал Психологический институт, который возглавлял его основатель Георгий Иванович Челпанов (1862–1936). Благодаря усилиям Челпанова система обучения в Институте давала как глубокое теоретическое образование, так и хорошую экспериментальную подготовку на базе лучших в то время в мире приборов, изготовленных на заводах Цейса. Именно под влиянием Г.И. Челпанова Леонтьев стал специализироваться в области психологии. В студенческий период А.Н. Леонтьев проявлял особый интерес к проблеме эмоций, которой была посвящена его дипломная работа, выполненная под руководством Челпанова.
С 1 января 1924 г. А.Н. Леонтьев работает в Психологическом институте на правах сотрудника (его оставили в институте «для подготовки к профессорской деятельности»). Должность, которую занимал Леонтьев, – научный сотрудник второго разряда – была внештатной, т. е. зарплаты он не получал. А.Н. Леонтьев работал фактически под руководством пришедшего в Институт годом раньше А.Р. Лурия (1902–1977), заведовавшего Лабораторией исследования аффективных реакций. В этой лаборатории занимались изучением времени и интенсивности моторных реакций при различных функциональных состояниях, в частности в условиях аффекта. Как позже вспоминал Лурия, Леонтьев стал «его руками», обнаружив незаурядную изобретательность в техническом обеспечении экспериментов, при проведении которых экспериментатор мог даже не присутствовать.
Встреча с Л.С. Выготским, который работал в Психологическом институте с 1924 г., стала решающим событием в жизни Леонтьева – по его собственному признанию, он пришел к Выготскому «методологически пустым»[6]. Именно Выготский стал для А.Н. Леонтьева в психологии тем Учителем, о котором мечтает каждый молодой ученый. Научная программа Л.С. Выготского базировалась на марксистской философии. Путь построения новой системы психологической науки Выготский видел не в прямом приложении отдельных вырванных из контекста положений марксизма к психологической эмпирии, а в создании психологического «Капитала», т. е. конкретно-научной «философии психологии» (общей теории и методологии психологической науки) с опорой на марксистскую методологию. Культурно-историческая концепция Выготского была первой попыткой создания такой общепсихологической теории. По некоторым воспоминаниям, первая ее схема существовала уже к концу 1924 – началу 1925 г.[7]
Концепция Л.С. Выготского этого периода его творчества хорошо известна. Тем не менее напомним основные ее положения, поскольку именно их экспериментальной разработке главным образом посвящены работы А.Н. Леонтьева, опубликованные в первом разделе данного тома.
«Альфой и омегой» научного творчества Л.С. Выготского была проблема сознания. По мнению Леонтьева, сознание было «открыто» Выготским для конкретно-научного изучения. Современная Выготскому традиционная психологическая наука, называя себя «психологией сознания», никогда не была ею, так как сознание выступало в ней как нечто бескачественное, имеющее лишь «формальные» характеристики (большая или меньшая ясность, больший или меньший объем и т. п.). В концепции Выготского сознание предстало не как «непосредственная данность», а как вещь принципиально иного («сущностного») порядка. Свойства сознания следует объяснять специфическими особенностями образа жизни человека в его «человеческом» мире. «Системообразующим» фактором жизни человека является прежде всего трудовая деятельность, опосредствованная орудиями различного рода. Гипотеза Л.С. Выготского заключалась в том, что психические процессы изменяются у человека так же, как изменяются процессы его практической деятельности, т. е. они тоже становятся опосредствованными. Но сами по себе орудия, являясь вещами «непсихологическими», не могут опосредствовать психические процессы. Следовательно, должны существовать особые «психологические орудия» – «орудия духовного производства». Этими психологическими орудиями являются различные знаковые системы – язык, математические знаки, мнемотехнические приемы и т. п.
Знаковая система (знак) представляет собой средство, выработанное человечеством в процессах общения людей друг с другом. Это средство (инструмент) воздействия, с одной стороны, на другого человека, а с другой – на самого себя. В школе Л.С. Выготского исследования знака начались именно с изучения этой его «инструментальной» функции. Первоначальная форма существования знака – всегда внешняя. Затем знак превращается во внутреннее средство организации психических процессов, которое возникает в результате сложного поэтапного процесса «вращивания» знака. Одновременно это означает и «вращивание» отношений между людьми. Если первично «приказ» (например, запомнить что-либо) и «исполнение» (само запоминание) разделены между двумя людьми, то затем оба действия выполняются одним и тем же человеком.
Необходимо выделять две линии психического развития ребенка – «натуральное» и «культурное» развитие. «Натуральные» (исходные) психические функции индивида по своему характеру являются непосредственными и непроизвольными, обусловленными прежде всего биологическими факторами (органическим созреванием и функционированием мозга). В процессе овладения системами знаков субъектом (линия «культурного развития») натуральные психические функции превращаются в новые – высшие – психические функции, которые характеризуются тремя основными свойствами: 1) социальностью; 2) опосредствованностью; 3) произвольностью. При этом в процессе культурного развития изменяются не только отдельные функции – возникают новые системы высших психических функций, качественно отличные друг от друга на разных стадиях онтогенеза (сознание имеет «системное строение»). Так, по мере онтогенетического развития восприятие ребенка освобождается от своей первоначальной зависимости от аффективно-потребностной сферы человека и начинает вступать в тесные связи с памятью, а впоследствии и с мышлением. Таким образом, «первичные» связи между функциями, сложившиеся в ходе эволюции, заменяются вторичными связями, построенными «искусственно» – в силу овладения человеком знаковыми средствами. Важнейшим принципом психологии Л.С. Выготского является принцип историзма, а главным методом исследования высших психических функций выступает метод их формирования.
Эти положения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского сложились в более или менее целостную систему к 1927—28 гг. К этому времени он стал безоговорочно признанным идейным лидером «тройки» Выготский – Лурия – Леонтьев и начались исследования, направленные на экспериментальную разработку нового подхода. Большой цикл экспериментальных работ А.Н. Леонтьева (только в исследованиях памяти приняли участие около 1200 испытуемых разных возрастных групп), которые были в основном завершены, как свидетельствует датировка экспериментальных протоколов, к 1928 г. и опубликованы в монографии «Развитие памяти» (1932; см. наст. изд., с. 27–198), а также в нескольких небольших работах (см. с. 207–228 наст. изд.), послужил, по общему признанию, главным экспериментальным обоснованием культурно-исторической теории на первом этапе ее развития.
Рассмотрим основные положения книги «Развитие памяти».
В центре ее оказались два важнейших психических процесса – память и внимание (большая часть книги посвящена памяти). В ней Леонтьев еще полностью разделяет положение Выготского о двух линиях развития психических процессов – натуральной и культурной, с чем позже полемизировал. Механизм непосредственного и непроизвольного запоминания основывается на механизме запечатления и воспроизведения следов, присущем и человеку и животным. Достаточно какого-нибудь случайного стимула, чтобы механически зафиксировавшиеся следы воскресли в памяти. Эта форма называется «натуральной биологической» памятью и отождествляется Леонтьевым в этой книге с физиологическими процессами; впоследствии он от этого отождествления отказался. Высшие формы памяти имеют другие свойства и строятся иначе. Они носят произвольный и опосредствованный характер, по происхождению социальны и историчны. Сущность обеих форм памяти раскрывается Леонтьевым не только на основе обобщения известных к тому времени в психологии исследований, но и на примере его собственных экспериментов. При анализе внимания, которому посвящена четвертая глава книги, А.Н. Леонтьев придерживается в целом того же подхода.
Впрочем, А.Н. Леонтьев довольно быстро внес коррективы в эту точку зрения, что отражено в одной из работ, которая также публикуется в настоящем сборнике (с. 226–228). Речь идет об «инструктивном письме» семинария по изучению психологии «культурно-своеобразных» народностей СССР, опубликованном в 1930 г. В нем прямо говорится о необходимости психологического исследования памяти на нижних ступенях развития, и качественное своеобразие памяти на этих этапах объясняется не какими-либо органическими причинами, а своеобразием решаемых субъектом психологических задач; при этом Леонтьев прямо утверждает, что «различные требования, которые предъявляют жизненные условия к памяти и восприятию человека, порождают и различные их формы» (наст. изд., с. 226). Ушел А.Н. Леонтьев и от идеи тождественности «натуральных» психических процессов у животных и человека. Если в рассматриваемый период такой была общая точка зрения всей школы Л.С. Выготского, то впоследствии А.Н. Леонтьев и другие авторы постоянно подчеркивали существенные отличия не только высших, но и «низших» процессов человеческой психики от соответствующих образований в психике животных. Проблему соотношения высших и низших форм памяти Леонтьев решает диалектически: возникая на основе низших, высшие формы памяти несут их в себе «в снятом виде» и в то же время не сводятся к ним: «надстраиваясь над старой формой, всякая новая форма неизбежно изменяет форму ей предшествующую… старые формы продолжают не только сосуществовать с новыми формами, но и содержатся в них, образуя их натуральную основу» (наст. изд., с. 100, 118).
Развитие высшей формы памяти, как утверждает Леонтьев, идет по двум линиям – отдельным, но взаимосвязанным друг с дугом. Это развитие происходит, во-первых, по линии усовершенствования внешних средств запоминания (в истории человечества эта линия прослеживается прежде всего в появлении и развитии письменности, и она не является здесь предметом исследования); во-вторых, по линии развития собственно высшей логической памяти, что одновременно ведет к соответствующему «ослаблению» «естественной» памяти. Необходимость перехода к опосредствованной памяти возникает при решении субъектом новых задач в условиях коллективной совместной деятельности (общество поручает индивиду что-либо запомнить). Аналогично для решения специальных общественных задач возникает и произвольное внимание.
Один из графиков, в наглядной форме представивший результаты некоторых проведенных под руководством А.Н. Леонтьева экспериментов, получил название «параллелограмм развития» (см. наст. изд., с. 83, 85) и вошел во многие учебники психологии. Этот график представляет собой обобщение результатов прежде всего второй и третьей серий экспериментов – серии запоминания слов без использования внешних вспомогательных средств (картинок) и серии запоминания аналогичных слов при помощи этих средств – на трех группах испытуемых (дошкольники, младшие школьники и студенты). У дошкольников запоминание по обеим сериям было одинаково непосредственное, поскольку даже при наличии карточки ребенок не умел использовать ее в инструментальной функции; у взрослых запоминание, напротив, было одинаково опосредствованное, поскольку и без карточек взрослый запоминал материал с использованием внутренних средств. У младших же школьников процесс запоминания с помощью внешних средств приводил к существенному повышению его эффективности, в то время как запоминание без таковых по эффективности было ненамного больше, чем у дошкольников, поскольку внутренние средства запоминания у младших школьников еще отсутствовали. Аналогичный «параллелограмм» был получен при обобщении результатов экспериментов на внимание. Таким образом, эмпирические исследования А.Н. Леонтьева убедительно подтвердили гипотезу Л.С. Выготского о том, что развитие высших форм психических процессов идет через использование стимулов-знаков. Сами стимулы-знаки в процессе этого развития превращаются из внешних во внутренние.
Однако Леонтьев не просто констатировал использование стимулов-средств при решении задач на запоминание, а выделил и проанализировал качественно различные операции, которые определяют выбор средства для запоминания на разных стадиях психического развития. Тем самым намечался путь исследования не столько знака в его инструментальной функции, сколько «внутренней стороны» знаковой операции – значения.
Первый этап развития операции опосредствования в процессе запоминания был назван А.Н. Леонтьевым доассоциативным – картинка выбиралась ребенком без всякой связи с предъявленным словом (например, на слово «мышь» следовала картинка «умывальник», на «обед» – «картина» и т. п.). Знак-средство не выступал здесь еще ни в какой функции, даже инструментальной. Следующий (второй) этап – этап ассоциативно детерминированного словом выбора. В большинстве случаев даже у дошкольников картинка выбиралась уже с учетом предъявленного слова – например, к слову «обед» подбиралась картинка «школа». Картинка хотя и ассоциативно связана со словом, но выбрана без учета последующего воспроизведения слова. Таким образом, выбор картинки остается все еще на стадии акта натурального, поскольку механизм организации второго стимула (стимула-средства) не подчинен цели операции в целом. Наконец, на третьем этапе меняется структура операции опосредствования – картинка выбирается с учетом последующего воспроизведения стоящего за ней слова, т. е. выбор карточки здесь уже подчинен самой операции, может быть понят только с точки зрения ее конечной цели. Таким образом, «внутренняя сторона» операции выбора заключается в том, что образование связи между словом и картинкой является уже реакцией не на настоящую, а на будущую ситуацию. Подобный выбор имеет уже все признаки интеллектуальной операции. Было доказано, что условное значение «мнемического знака» карточка приобретает только в процессе замещения наглядно-образных связей связями ненаглядными, что осуществляется в речи. После овладения ребенком процессом запоминания с помощью внешнего средства начинается еще один процесс – процесс вращивания вспомогательных стимулов-средств, т. е. переход к внутренне опосредствованному запоминанию.
Исследование Леонтьева подтвердило на эмпирическом материале и такую важнейшую идею Выготского, как системное строение сознания, показав реальное «взаимодействие» отдельных психических функций друг с другом. Самый главный вывод, который делает здесь А.Н. Леонтьев, – это то, что их возникновение, функционирование и развитие следует изучать всегда в отношении к личности в целом (см. наст. изд., с. 198).
Из работы А.Н. Леонтьева следовали и важные педагогические выводы: 1) обязательным условием усвоения знаковых систем ребенком является его совместная деятельность со взрослым; 2) повышение эффективности запоминания обеспечивается прежде всего формированием у человека приемов опосредствованного запоминания; 3) воспитание приемов запоминания должно учитывать прежде всего активность самого воспитанника – поэтому необходимо создать условия, при которых эта активность будет обеспечена при усвоении учебного материала; 4) обеспечение активности ребенка возможно, в свою очередь, при включении действия запоминания в осмысленную для него деятельность.
В конце книги Леонтьев затрагивает очень важный, но мало рассматриваемый при анализе работ школы Выготского вопрос – о необходимости различения форм «натуральных» процессов, лежащих в основе высших. В данной книге Леонтьев выделяет два типа «низших» процессов памяти – «память-навык» и образную память, опирающуюся на эйдетические механизмы. С его точки зрения, оба типа натуральных процессов подвергаются «снятию» в процессе образования высших – логических – форм памяти, но по-разному. Первая форма низших процессов – «речедвигательные привычки» – органически вступает в качестве составных частей в высшие формы запоминания, хотя и теряет при этом самостоятельность. Напротив, первичная образная память, составляя непосредственную основу высшей сознательной памяти, вместе с тем сама разрушается.
Вскоре после опубликования книга «Развитие памяти» была удостоена первой премии Главнауки и ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых при Совете Народных Комиссаров РСФСР). Сам А.Н. Леонтьев очень критично относился к своей работе. В одном из писем Л.С. Выготскому летом 1930 г. он назвал свою книгу «из горы рожденной мышью»[8]. Л.С. Выготский, напротив, высоко оценил это исследование, отметив, что в нем отразилось «основное ядро» нового подхода к памяти (да и к другим психическим процессам). Сейчас это даже более очевидо, чем тогда.
В то время, когда книга реально вышла в свет (т. е. в 1932 г.), А.Н. Леонтьев был вынужден написать (совместно с Л.С. Выготским) еще одно предисловие к ней (см. наст. изд., с. 199–206), где в духе времени подверг собственное сочинение «суровой самокритике» за «ошибки» и «отступления от марксизма». Это предисловие представляло собой небольшую брошюру, которая была вложена в уже совершенно готовую книгу. Если не обращать внимания на некоторый «идеологический привкус» представленной в предисловии самокритики, то в нем можно увидеть, во-первых, выделение обоими авторами действительно «узких» мест культурно-исторической концепции и, во-вторых, намеченные ими перспективы дальнейшего развития идей новой, «неклассической» психологии, основы которой были заложены Л.С. Выготским и затем стали разрабатываться в трудах его учеников и последователей.
Таким образом, данное предисловие к книге А.Н. Леонтьева фиксирует не только завершение определенного этапа в развитии психологических взглядов самого Леонтьева, но и новый этап в творчестве Л.С. Выготского, который в это время (т. е. на рубеже 1920-х и 1930-х гг.), по сути дела, преодолевает культурно-историческую концепцию. Это еще раз подтверждает не раз высказывавшееся, в том числе авторами данной вступительной статьи, мнение, что культурно-историческая теория – лишь этап научной биографии Л.С.Выготского, а не содержание всего его творчества, как иногда утверждают.
В настоящее издание включены еще две небольшие работы, посвященные исследованию мыслительных процессов у детей, – статья «К вопросу о развитии арифметического мышления ребенка» (см. наст. изд., с. 207–219), датированная концом 1929 г., но впервые опубликованная лишь в 2002 г., и вышедшая в 1929 г. небольшая статья о новом тесте для исследования «практического интеллекта» (с. 220–225). Эти работы представляют собой конкретные исследования операций мышления, лежащих в основе решения ребенком как арифметических, так и интеллектуально-практических задач. В какой-то мере они являются тем «мостиком», который соединяет творчество Леонтьева в школе Выготского и собственные его исследования в харьковский период деятельности.
Разделяя разрабатывавшиеся в это время Л.С. Выготским представления о значении как обобщении определенных объективных содержаний и его же идею о том, что «развитие понятий и развитие значений слова есть один и тот же процесс, только по-разному называемый»[9], Леонтьев в публикуемых работах большее внимание обращает на эту «операциональную» сторону интеллектуальных обобщений (в том числе понятийных). Традиционное понимание процесса формирования понятий у ребенка, согласно которому понятие числа основано на непосредственном восприятии «числовых групп», учитывало, с точки зрения Леонтьева, только натуральное психическое развитие. Арифметические же операции возникают там и тогда, когда возникает счет, опосредствованный специфическими арифметическими знаками. В этой работе анализ знака означает для Леонтьева анализ его операционального содержания. За одной и той же внешне одинаковой формой знака могут скрываться совершенно различные по своей природе операции.
Вторая статья кажется на первый взгляд имеющей чисто прикладное значение: в ней излагается разработанная А.Н. Леонтьевым весьма простая в применении методика тестирования практического интеллекта у дошкольников. Однако в структуре этой методики воплотилось все то же принципиальное теоретическое положение: главным является не сам факт решения задачи, а тот способ, которым это решение достигается. Надо отметить, что немногие даже современные интеллектуальные тесты имеют дело с диагностикой самой структуры интеллектуальных операций – зачастую они просто констатируют факт решения субъектом тех или иных задач. Для А.Н. Леонтьева же это разница принципиальная: эффективность одной и той же операции может быть совершенно одинаковой у дебильного и нормального ребенка и у взрослого, но по своей структуре эти операции качественно отличаются друг от друга.
Как мы видим, работая в конце 1920-х гг. в русле культурно-исторической парадигмы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев уже на этом этапе своего творчества частично выходит за ее рамки. В процессе экспериментальной работы выявились ограничения этой концепции. Экспериментальные исследования высших психических функций чрезмерно схематизировали представления о человеческой психике. Анализ исследований самого Выготского этого же времени показывает, что и он обращается к проблемам, которые оставались в культурно-исторической концепции как бы «за скобками». Дальнейшие исследования проблем сознания в школе Выготского сами вели исследователей к смещению акцентов – если раньше знак изучался в его инструментальной функции, то в конце 1920-х гг. акцент был сделан на анализе значения как внутренней стороны знака. В книге «Развитие памяти» отчетливо показано, что приобрести свою инструментальную функцию в процессе опосредствования знак может только при наличии его значения, определяемого позже Л.С. Выготским как «внутренняя структура знаковой операции»[10].
Однако в начале 1930-х гг. оба исследователя начинают осознавать, что их дальнейшие пути в психологии расходятся. Концептуальному оформлению этого расхождения во многом способствовало расхождение пространственное. А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский и А.Р. Лурия получили от украинского наркома здравоохранения С.И. Канторовича приглашение в Харьков для развертывания там психологических исследований в ряде учреждений города. К февралю 1932 г. все трое в той или иной форме связали свою деятельность с Харьковом и курсировали между двумя городами. Однако только Леонтьев (хотя и Выготский, и Лурия об этом думали) решился переехать в Харьков, перенеся туда средоточие своих исследований. Вокруг него сложился тесный, сплоченный и дружеский коллектив сотрудников и единомышленников (А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, П.И. Зинченко, Л.И. Божович, В.И. Аснин, Г.Д. Луков, О.М. Концевая, Т.О. Гиневская и др.), впоследствии получивший название Харьковской группы или школы. Эта группа развивала в основном те взгляды Выготского, от которых он сам на какое-то время отошел – и уже не вернулся: идеи о соотношении речи (общения) и предметного действия, теорию действия или деятельности.
Сам факт этого отъезда ставит по меньшей мере два вопроса, которые активно дискутируются в историко-научной и мемуарной литературе. Первый вопрос исторический – это вопрос о причинах и корнях этого расставания, о том, сопровождалось ли оно разрывом или конфликтом. Второй – чисто теоретический: следует ли рассматривать теорию Леонтьева как продолжение и развитие теории Выготского или как альтернативу. Оба эти вопроса, а также все обстоятельства, сопутствующие отъезду А.Н. Леонтьева в Харьков, получили подробное освещение в специальной публикации[11], в которой с опорой на документальные источники показано, что отъезд Леонтьева не сопровождался ни разрывом его личных отношений с Выготским, ни теоретическим размежеванием с ним. Важнейшим (но не единственным) из этих источников является публикуемое в настоящем издании (с. 231–235) развернутое письмо, написанное Леонтьевым Выготскому в ночь накануне окончательного отъезда (в свой день рождения). Трудно выразить всю степень нашей благодарности Е.Г. Радковской, наследнице и хранительнице архива А.Р. Лурия, нашедшей это письмо в его архиве и передавшей нам.
Этот документ свидетельствует о кризисе (организационном и методологическом), в котором находилась в тот момент вся «тройка». Не дождавшись от Выготского принципиальных шагов, направленных на разрешение этого кризиса, Леонтьев берет на себя ответственность за принятие далеко идущих решений. Их мотивом является отнюдь не стремление к расколу, обособлению, а наоборот, стремление к сохранению той основы работы и одновременно личных отношений, в отходе от которой он упрекает – от имени Выготского, с цитатами из его писем! – и Лурию, и самого Выготского. Этот удивительный экзистенциальный документ – свидетельство о рождении в психологии нового лидера, готового и способного делать выбор в условиях глобальной неопределенности, принимать решения с далеко идущими последствиями и полностью брать на себя бремя ответственности за эти решения и их последствия. Но Леонтьев далек от мысли противопоставить себя Выготскому. «Мы» звучит в этом письме с первых строк до последних, объединяя, кроме Выготского, Леонтьева и Лурии, также ядро будущей Харьковской группы – упомянутых в письме А.В. Запорожца, Л.И. Божович и Н.Г. Морозову. Леонтьев пишет о них не только с любовью («чудесная, преданная и сейчас выдержавшая экзамен на четкость и стойкость группа»), но и с чувством зрелой ответственности («Они – обязывают. Нельзя, чтобы мы не выдержали экзамена!» – наст. изд., с. 232).
Отдельный блок образуют в письме и отдельный интерес представляют теоретические и методологические соображения Леонтьева о культурной психологии. Большую часть из них занимают характерные для Леонтьева и в последующем акценты на философско-методологические основы теории. Из числа конкретных проблем прежде всего появляется проблема психического-психологического, которая через несколько лет станет предметом его докторской диссертации. Проблема функциональных систем и межфункциональных связей, ставшая одной из центральных для всей школы в 1940—60-е гг. Ключевая роль знака. Наконец, проблема воли и интенции и – в контексте проблемы развития – проблема личности как его субъекта, т. е. «проблема активного психологического развития, проблема психологической культуры личности (свободы!) и отсюда ближайшие этические проблемы» (наст. изд., с. 234). Такая постановка вопроса звучит свежо и сегодня. Но эти проблемы вскоре вошли в нашей стране в «черный список», и только в публикациях самых последних лет жизни мы встречаем волнующую Леонтьева проблему личности не как объекта формирующих воздействий, но как активного, свободного и ответственного субъекта собственного развития.
Из этого письма, а также из других документов следует со всей очевидностью, что отъезд Леонтьева в Харьков не был разрывом с Выготским. Во-первых, Леонтьев ехал туда, чтобы заниматься именно развитием культурной психологии, что было сложно делать в Москве. Во-вторых, Выготский и Лурия также получили приглашения на работу в Харьков и одновременно с Леонтьевым начали там работать, хотя не столь решительно; не «вина» последнего, что именно он оказался в положении единственного реального лидера Харьковской группы и что только в Харькове с его помощью сложился сильный коллектив единомышленников, взявших идеи культурно-исторической психологии на вооружение, а в Москве (или где-либо еще) такого коллектива не возникло. В-третьих, на фоне идейного кризиса Выготский сам дистанцировался от содержательного общения, что подтолкнуло Леонтьева к принятию самостоятельных решений, но отнюдь не к какому-либо изменению научных воззрений и человеческих отношений. В-четвертых, отъезд Леонтьева не был вызван теоретическим расколом – ни малейшего намека на это нет в тексте письма, и позднейшие письма и действия Выготского служат этому недвусмысленным подтверждением, заодно опровергая и мифы об «измене» и «не восстановившихся отношениях».
Первые годы после отъезда Леонтьева в Харьков (1932–1934) проходят преимущественно под знаком диалогов с Выготским – очных и заочных дискуссий, посвященных тому, как перспективнее развивать культурно-историческую психологию. Вопрос стоял не о правоте исходной платформы (в этом сомнений не было), а о магистральных путях ее реализации. На первый план выходят именно теоретические дискуссии между Выготским и Леонтьевым.
Из текстов этого периода наиболее концентрированно эти дискуссии выражены в небольшой рукописи А.Н. Леонтьева «Беседа с Выготским» (наст. изд., с. 236–240), очень четко фиксирующей научные позиции как Выготского, так и Леонтьева к осени 1933 г. Это итог первого цикла исследований Харьковской группы, если следовать периодизации, данной самим Леонтьевым в «Материалах о сознании» (наст. изд., с. 353–372). Вначале идет конспект сообщения самого Леонтьева о проделанной им работе по исследованию переноса, причем характерно, что теоретическая основа этой работы в основном повторяет мысли Выготского. Правда, здесь уже поднимается проблема «речь и практический интеллект» и возникает чеканная формулировка «значение слова выступает как значение вещи» (в этом, кстати, суть переноса). Это вполне соответствует позиции Выготского. Однако тут же ставится острый вопрос, обращенный к Выготскому: «Словоцентризм системы. Что – субъект развития? Где человек, мир? Где действительные отношения человека к миру?» Выготский дает, судя по конспекту, достаточно уклончивый ответ, лишь в конце которого проскальзывает то, чего, видимо, ожидал от него А.Н. Леонтьев: «За сознанием открывается жизнь <…>. Мысль нужно выводить из жизни, а не обратно» (наст. изд., с. 239).
Этот ответ был, однако, для Леонтьева и харьковчан слишком абстрактным и нерасчлененным.
Молодому коллективу соратников и учеников А.Н. Леонтьева казалось тогда, что научная программа Харьковской школы альтернативна программе Л.С. Выготского. Возможно, здесь проявилась общая закономерность возникновения любой новой научной концепции – чтобы осознать ее принципиальную новизну, нужно противопоставить ее точке зрения предшественников и тем самым зачастую «огрубить» их позицию. Зарождение новой научной программы, как отмечает сам Леонтьев, началось «с критического анализа системы теоретических положений Л[ьва] С[еменовича]»[12]. Харьковские психологи критиковали тезис Выготского, что значение – демиург сознания, а общение в свою очередь – демиург значения. В этом вопросе Выготский и харьковчане оказались в отношениях теоретического противостояния. И в качестве центральной научной задачи Харьковской школы была поставлена проблема раскрытия действительных отношений к миру во всей их конкретности и богатстве.
На самом деле той альтернативы, которую видели «харьковчане» в начале 1930-х гг. – либо «единство интеллекта и аффекта» по Выготскому, либо «практическая деятельность и сознание», не было. Уже в конце 1930-х гг., в работах А.В. Запорожца, поддержанных Леонтьевым, это противостояние было снято; и Леонтьев, и в особенности Запорожец начали осознавать, что на самом деле в основе деятельности лежит «функциональная система интегрированных эмоциональных и когнитивных процессов», что у человека благодаря этой системе эмоции становятся «умными», а интеллектуальные процессы обретают эмоционально-образный характер, становятся смысловыми. В 1939 г. Запорожец, например, писал: единство мышления и речи «возникает только при определенном содержании жизненных отношений»[13]. А в 1977 г., в докладе памяти Выготского, сам Леонтьев откровенно признал: «…Альтернатива 30–31 гг. оказалась не альтернативой, а необходимой линией движения психологического исследования. Не или-или, а обязательно и-и!». Но в те годы и еще несколько лет спустя она оставалась все же альтернативой, хотя в некрологе Л.С. Выготскому, написанном летом 1934 г., А.Н. Леонтьев четко определил деятельностный характер концепции Выготского: «Трактовка Л.С. Выготским опосредствованной структуры человеческих психических процессов и психического как человеческой деятельности послужила краеугольным камнем, основой для всей разрабатывавшейся им научной психологической теории – теории общественно-исторического <…> развития психики человека» (наст. изд., с. 242).
Последняя работа, которую мы включили в раздел «Диалоги с Выготским», – статья «Учение о среде в педологических работах Л.С. Выготского (критическое исследование)», датируемая ориентировочно 1937 г.
Публикуемая рукопись А.Н. Леонтьева, обнаруженная лишь в 1997 г. в архивах РАО И.В. Равич-Щербо, которой мы выражаем огромную благодарность, интересна прежде всего тем, что о ней до этого не было известно никому из исследователей. Ее не сохранилось в архиве А.Н. Леонтьева, он не упоминал ее в списках научных работ, и даже в личных беседах с коллегами и близкими, нами в том числе. Осознавал он это или нет, но статья оказалась «вытеснена» им из числа своих научных работ. Вместе с тем его авторство сомнений не вызывает.
Она относится ко времени, когда А.Н. Леонтьев писал и публиковал чрезвычайно мало, – к периоду, наступившему непосредственно после печально известного постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов», на которое в тексте есть прямая ссылка. Наука в этот период, как и все общество, испытывала жесточайшее идеологическое вмешательство со стороны партийно-государственного руководства. Выготский и его школа обвинялись в антимарксизме и субъективном идеализме. А в начале 1937 г. вышла небольшая брошюра Е.И. Рудневой под выразительным названием «О педологических извращениях Выготского». Там, в частности, писалось: «Критика работ Выготского является делом актуальным и не терпящим отлагательства, тем более что часть его последователей до сих нор не разоружилась (Лурия, Леонтьев, Шиф и др.)». А.Н. Леонтьев в это время был в крайне трудном положении, находясь к тому же «под подозрением», потому что, как и Лурия, Эльконин, Гальперин, наотрез отказался «разоблачать» своего учителя Выготского и признавать свои ошибки. Непосредственно под удар Леонтьев не попал, но лаборатория генетической психологии во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ), куда он был приглашен заведующим, после скоротечного идеологического скандала, вызванного его докладом «Психологическое исследование речи», была закрыта. Закрылся и Высший коммунистический институт просвещения (ВКИП) и находившийся при нем небольшой научно-исследовательский институт, где сотрудничал Леонтьев, и он остался без работы до осени 1937 г., когда директором Института психологии вновь стал К.Н. Корнилов, взявший Леонтьева на работу на сугубо прикладные темы.
Публикуемая рукопись свидетельствует о том, что А.Н. Леонтьев все-таки пытался в этот период разрабатывать принципиальные методологические вопросы психологии. Хотя создается явное впечатление, что ее написание было вызвано конъюнктурной необходимостью, связанной в те времена не с карьерой, а с простым выживанием, но при этом А.Н. Леонтьев умудряется, во-первых, превратить формально неизбежную критику Л.С. Выготского-педолога (в тексте есть прямая квалификация некоторых педологических идей Выготского как идеалистических и позитивистских) чуть ли не в апологию, несмотря и на вступивший к этому времени в силу запрет на публикацию и пропаганду идей Выготского, и на уже вполне теоретически оформившиеся расхождения Выготского и Харьковской группы. Как бы то ни было, научное содержание этой статьи весьма весомо и содержащийся в ней глубокий методологический анализ проблемы среды в развитии резко дисгармонирует с жанром огульной идеологической критики, в котором она должна была быть выдержана и пример которого являет огромное количество публиковавшихся в те годы статей и книг. У Леонтьева это «не получилось». Может быть, именно недостаточная степень критичности сделала невозможной публикацию этой статьи в свое время, однако для А.Н. Леонтьева эта мера критичности была все же слишком большой, чтобы идентифицироваться с этой статьей впоследствии.
Утверждение Выготского, что во всяком психологическом факте даны в неразложимом механически виде и свойства субъекта деятельности, и свойства действительности, в отношении которой осуществляется эта деятельность, Леонтьев считает бесспорным, и «весь вопрос заключается в том, насколько удается автору его конкретизировать в дальнейшем исследовании». По его мнению, Выготский, развивая свою концепцию, «вступает… в противоречие со своими собственными исходными положениями». Выготский не развивал, по Леонтьеву, принципиально ошибочную с самого начала теорию – исходно она совершенно верна, но в ней содержатся «конкретные положения, которые приводят автора к общим ошибочным позициям». При этом Выготский «выдвигает совершенно правильное требование» – психологический анализ должен быть направлен на отношение личности к действительности. «Положение Л.С. Выготского о том, что сознание есть продукт речевого общения ребенка в условиях его деятельности по отношению к окружающей его вещной действительности необходимо обернуть…». Обернуть, но не отбросить! И вот итог: понятие среды, понятие значения, «как и целый ряд других понятий, введенных Л.С. Выготским в советскую психологию, по-настоящему обогащает ее и сообщает необходимую жизненность и конкретность нашему психологическому анализу». Ничего себе критика!
Собственно в теоретико-методологическом плане, однако, этот текст во многом оказывается «недостающим звеном», позволяющим реконструировать развитие деятельностных идей в конце 1930-х гг. Статья убедительно показывает, что основные идеи и подходы, легшие в основу будущей психологической теории деятельности, полностью сформировались у Леонтьева уже в 1937 г. «Отношение… есть не что иное, как содержание конкретной деятельности субъекта. Данный предмет и становится средой, лишь вступая в действительность деятельности субъекта, как один из моментов этой действительности… Субъект вне его деятельности по отношению к действительности, к его “среде” есть такая же абстракция, как среда вне отношения ее к субъекту» (наст. изд., с. 248). Здесь недвусмысленно сформулировано и положение о том, что сознание является продуктом деятельности, а особый интерес представляет анализ А.Н. Леонтьевым понятия переживания у Выготского, из которого видно, что именно из понятия переживания выросло появившееся у А.Н. Леонтьева через два-три года понятие смысла, ставшее одним из центральных понятий его общепсихологической теории. Генетически леонтьевское понятие смысла связано именно с понятием переживания, а не с понятием смысла у Выготского, которое носит у того чисто семантический характер. А.Н. Леонтьев в данной рукописи не только практически впервые отчетливо сформулировал основные положения деятельностного подхода в психологии, но и показал его принципиальное родство с идеями своего Учителя.
С переездом в Харьков для А.Н. Леонтьева начинается новый и очень продуктивный этап его творчества, когда он формулирует свою собственную научную программу, получившую мощную теоретическую и экспериментальную разработку (1932–1941).
Научная история Харьковской группы еще не написана. Более того, лишь ничтожная часть выполненных ею исследований доступна в виде публикаций. Основная их масса либо не предназначалась для печати, либо публикация не была осуществлена по вненаучным причинам (после постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов» в Харькове был рассыпан набор уже готового к печати сборника статей), либо результаты исследований публиковались в малотиражных, совершенно недоступных сейчас материалах местных конференций.
«Системообразующим» фактором научной программы Харьковской группы стала всесторонняя разработка проблемы «практическая деятельность и сознание». Основной принципиальный недостаток культурно-исторической концепции Выготского Леонтьев видел в том, что в ней сознание «чрезмерно интеллектуализировалось»: его единицей выступило значение, представляющее собой продукт духовной деятельности общества. Но функционирование значений в реальной психической жизни конкретного индивида, их присвоение субъектом зависит от объективных условий реальной деятельности данного субъекта – приобретут ли они адекватный и действенный смысл или же будут восприняты лишь внешним образом[14]. И хотя сам Выготский позже попытался преодолеть интеллектуальную замкнутость сознания, разрабатывая идею единства «интеллекта» и «аффекта», эта попытка не удалась, потому что, как считает Леонтьев, «проблему исследования роли аффекта он ставил в плане дальнейшего расширения психологической характеристики значения как “единицы сознания”»[15]. Поставленная когда-то Выготским задача «разомкнуть» замкнутый круг явлений сознания осталась решенной наполовину. Харьковская группа попыталась сделать новый шаг в этом направлении – действительно включить сознание в процесс реального бытия человека, его реальной деятельности.
Периодизация творческой деятельности Харьковской группы, на которую мы опираемся, была дана самим Леонтьевым в его рукописи «Материалы о сознании» (см. наст. изд., с. 353–372). На первом этапе разработки проблемы «практическая деятельность и сознание» (1932–1933) ключевой идеей явилось разведение «сознания-образа» и «сознания-процесса», что вытекало из идей Выготского о значении как обобщении, однако им обобщение рассматривалось не столько как «обобщаемая действительность» («образ» действительности), сколько как «кристаллизованная деятельность» (обобщение-деятельность).
На этом этапе А.Н. Леонтьевым был разработан адекватный изучаемому обобщению-деятельности метод переноса, позволивший выявить этапы формирования понятий. Проблеме переноса посвящены теоретико-экспериментальные исследования А.Н. Леонтьева и В.И. Аснина. Их большая (80 с.) статья «Исследование интеллектуальной деятельности ребенка методом вариационного проблемного ящика» сохранилась в архиве А.Н. Леонтьева не полностью (часть страниц отсутствуют, еще часть разрезаны ножницами). Кроме этого, сохранился сделанный на ее основе небольшой, но цельный текст «Перенос действия как функция интеллекта» (машинописный экземпляр с собственноручной правкой А.Н. Леонтьева), который мы и воспроизводим в настоящем издании (с. 263–266). Авторы исследуют наглядно-действенное мышление у ребенка с помощью своеобразной «лестницы» постепенно усложняющихся задач, которые решаются на основе одного общего принципа, но каждая задача требует для своего конкретного решения различных наглядно-действенных операций. Одновременно не только диагностируется, но и исследуется то, как процесс совершения действий в разных ситуациях и перенос в другую ситуацию приводят к формированию специфически человеческого обобщения. Испытуемыми были дети от 1 до 9 лет. Качественный анализ результатов исследования привел к основному выводу: более высокому уровню интеллектуального развития, повышающегося, естественно, с возрастом, соответствует и более широкий перенос, поэтому граница переноса является адекватным показателем интеллектуального развития.
С этой статьей перекликается и следующая, также впервые публикуемая работа – доклад «Проблема развития интеллекта и обучения в психологии человека» (с. 267–277), написанный совместно с А.Р. Лурия (имя которого стоит первым) для так и не состоявшегося выступления на международном психологическом конгрессе. Доклад опирается на многочисленные экспериментальные данные, полученные сотрудниками обоих авторов, в частности, на многие харьковские исследования. Интересно, что в этом докладе, написанном в том же 1937 г., что и статья Леонтьева про учение Выготского о среде, оценки Выготского, несмотря на уже обнародованное к этому времени официальное партийное осуждение его позиции, однозначно апологетические. Авторы ни в малейшей мере не противопоставляют себя Выготскому; напротив, они говорят о работах Выготского, своих собственных и своих сотрудников как о едином подходе, противопоставляя его подходам Пиаже и других западных авторов. Это свидетельствует, во-первых, о том, что авторы доклада рассматривали внутренние расхождения между линией Выготского и харьковской альтернативой как именно «внутреннюю кухню», не подлежащую публичному обсуждению (напомним, что все тексты, в которых содержалось теоретическое «выяснение отношений», были написаны не для публикации). Во-вторых, о том, что на их отношение к Выготскому постановление ЦК не повлияло: этот текст, адресовавшийся не партийной цензуре, а зарубежным коллегам, в отличие от статьи про учение о среде, абсолютно свободен от мрачных примет своего времени. Можно только гадать, сошло бы это с рук Лурия и Леонтьеву, или же их расчет на бесконтрольность по ту сторону границы был чересчур наивен; как бы то ни было, доклад не состоялся и пролежал «в столе» долгие годы.
Далее в этом разделе книги мы публикуем две лекции из курса психологии, который А.Н. Леонтьев читал в Харьковском государственном педагогическом институте в 1934/35 учебном году. Неправленные стенограммы (лекция от 7.XII.1934 и вторая – без даты) были разрешены к печати Обллитом одновременно – 23.IV.1935 – и, следовательно, одновременно же и вышли на правах рукописи тиражом 200 экземпляров. К сожалению, осталось неизвестным, были ли изданы другие лекции этого курса. Судя по одному из составленных самим Леонтьевым списков его публикаций, всего было 10 таких выпусков (каждый из них соответствует одной лекции), относящихся к 1935–1936 гг. Во всяком случае, в московских книгохранилищах их нет, равно как и в личных библиотеках психологов, работавших в те годы в Харькове или связанных с Харьковской группой.
Эти лекции представляют двоякий интерес. Начнем с того, что если рассматривать их как публикации, то это самая первая из известных публикаций Харьковской группы учеников Л.С. Выготского, если не считать некролога Выготскому. А.Н. Леонтьев стремится здесь четко зафиксировать, с одной стороны, преемственность, а с другой – различие между идеями своего учителя Л.С. Выготского и концепцией группы, то новое, что харьковчане внесли в развитие идей Выготского. Кроме того, здесь, как и во многих более поздних работах Леонтьева, реализовались энциклопедичность его знаний, умение синтезировать в единой методологически продуманной и теоретически непротиворечивой системе материал из различных областей знания.
Первая из двух вышеупомянутых лекций носит название «Генез человеческой речи и мышления». Многое в ней кажется сегодня тривиальным, но есть идеи, звучащие вполне современно. Это, во-первых, идея возникновения человеческой речи в процессе совместного действия, или содействия, впервые подробно разработанная. Во-вторых, это гипотеза о том, что первоначально звуковая речь осуществляла выразительную функцию, а линейная (жестовая) речь была предметно отнесенной; в результате развития они как бы поменялись функциями. В-третьих, это четкая квалификация речи как вида деятельности. Но самое главное – это настойчивое стремление понять общение через деятельность, выведение развития сознания из труда как причины и слова (речи) как условия этого развития. Вторая лекция – «Психология речи» – продолжает идеи первой. Здесь уже прямо употреблен термин «речевая деятельность». С самого начала идет полемика с идеей Л.С. Выготского о различных корнях мышления и речи и в то же время вводится положение о развитии значения как центральном процессе развития речи вообще. Но, конечно, логическим центром лекции является афористический тезис, что «развитие речи совершается в меру и вместе с развитием той деятельности, которая лежит за словом» (наст. изд., с. 298). Одна из любопытнейших мыслей – это мысль о принципиальном, онтологическом единстве процессов развития речи и мышления, причем в едином процессе развития, по мнению А.Н. Леонтьева, «мы можем открыть некоторые своеобразные формации»; так, этап коммуникативного развития речи может сменяться этапом, когда «речь выступает как внутренняя интеллектуальная деятельность» (там же).
Нельзя не отметить, что в лингвистическом отношении лекции вполне профессиональны. Это не случайно – в библиотеке Леонтьева находились и были им, видимо, основательно проработаны вышедшие к тому времени на русском языке две основополагающих книги зарубежных лингвистов – «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра и «Язык» Э. Сепира (обе относятся к 1933 г.). И в первой, и особенно во второй лекциях часты ссылки на «современную научную лингвистику», «лингвистическую палеонтологию» и т. п. Имеется в виду в основном «новое учение о языке» академика Н.Я. Марра.
С этими лекциями перекликается по своему содержанию доклад «Психологическое исследование речи», который сохранился в двух вариантах. Во-первых, это машинописные тезисы, опубликованные после смерти А.Н. Леонтьева в первом томе его «Избранных психологических произведений»[16]. Во-вторых, это рукописный автоконспект, по которому реально читался доклад; он публикуется здесь впервые под названием «Доклад в ВИЭМ’е», стоящим на обложке блокнота, в котором этот конспект написан. Доклад был сделан 16 февраля 1935 г., сразу после возвращения Леонтьева в Москву на предложенную ему должность заведующего лабораторией генетической психологии во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. Но этот доклад почти что вызвал идеологический скандал, во всяком случае, его резко осудили в Московском комитете ВКП(б), и лаборатория была закрыта.
Деятельность, пишет Леонтьев в тезисах, должна пониматься «как деятельность субъекта, “переходящая в объект” в реальном процессе общественной практики человека, как его отношение к действительности, опосредствованное в его отображении в сознании (практически осуществляющееся в слове)» (наст. изд., с. 301). В этих тезисах нет упоминания имени Выготского, но критика «словоцентризма» дается предельно четко. Если мы поймем положение о роли общения в процессе развития значений «в том смысле, что развитие значений (а следовательно, и развитие сознания) движется взаимодействием идеального значения речи и ее реально психологического содержания у ребенка, то есть что оно движется самим общением (а не совершается в процессе общения), то мы с необходимостью придем к тому решительно ложному и отрицаемому в самих этих исследованиях [Выготского. – А.Л.] выводу, что развитие значений (обобщений) определяется не действительностью, а общественным сознанием…» (наст. изд., с. 303). Конспект удачно дополняет и еще более проясняет эти тезисы. Вот что там, в частности, говорится: «Что лежит за словом, за значением? 1) Обобщенная действительность; 2) структура связей и система опосредования, т. е. кристаллизованная деятельность. Это не то же самое. Это различные и противоречивые вещи! Значение и есть единство этих противоречивых вещей» (наст. изд., с. 314).
Раздел завершает статья «Овладение учащимися научными понятиями как проблема педагогической психологии». Статья была написана в 1935 г. для готовившегося к печати сборника исследований Харьковской группы. В сборник кроме данной работы входили также статьи Л.И. Божович, В.И. Аснина, П.И. Зинченко, К.Е. Хоменко, В.В. Мистюк, А.В. Запорожца. Все статьи были написаны на украинском языке с резюме на русском и на английском. Сборник не вышел в свет и сохранился лишь в верстке; статья А.Н. Леонтьева была с сокращениями впервые опубликована в 1980 г.[17]; здесь мы впервые публикуем ее полный вариант. Эта статья является наиболее законченным и полномасштабным исследованием Леонтьева, выполненным целиком с позиций «харьковской альтернативы».
В качестве альтернативы неправильному, с точки зрения Леонтьева, пониманию Выготским процесса становления значений в процессе обучения, Леонтьев считает необходимым рассматривать обобщение как деятельность, как систему психологических операций. Далее подводится общий итог: «Изменение сознания ребенка наступает в результате изменения его интеллектуальной деятельности как системы психологических операций, определяемой лежащим за ней реальным отношением ребенка к действительности» (наст. изд., с. 348). Ребенок сначала «действует понятийно», а потом начинает понятийно мыслить. В значении «кристаллизована» прежде всего организованная взрослым обобщающая деятельность ребенка, которая вначале всегда носит предметно-практический характер. Овладение обобщением поэтому означает овладение адекватной обобщающей предметной деятельностью.
В целом же в Харьковской группе и в последующие периоды деятельности А.Н. Леонтьева и его школы коренным образом изменилась и сама концепция сознания. Сознание стало рассматриваться как противоречивое единство «деятельностной» и «образной» его сторон (были введены понятия «сознания-деятельности» и «сознания-образа»); ведущей была признана деятельностная сторона его единства; при этом сознание (и – шире – психика) оказалось не «внутри» деятельности, «включенное» в эту последнюю в виде отдельных элементов, а стало рассматриваться как сторона деятельности и в ее внешней, и в ее внутренней форме (выполняющая прежде всего функцию ориентировки субъекта в мире); единицы анализа сознания оказались неотторжимыми от единиц анализа деятельности в ее процессуальном и результативном аспектах. Таким образом, возникла новая – деятельностная – парадигма в психологической науке. Лучшая, пожалуй, обобщающая формулировка, резюмирующая итоги деятельности Харьковской группы, принадлежит С.Л. Рубинштейну: «…Эти исследования устанавливают, что практические интеллектуальные действия детей уже на самых ранних ступенях развития носят специфически человеческий характер. Это определяется тем фактом, что ребенок окружен с первого же дня своей жизни человеческими предметами – предметами, являющимися продуктом человеческого труда, и прежде всего практически овладевает человеческими отношениями к этим предметам, человеческими способами действия с ними <…>. Основой развития специфически человеческих практических действий у ребенка является прежде всего тот факт, что ребенок вступает в практическое общение с другими людьми, с помощью которых он только и может удовлетворить свои потребности <…>. Именно это <…> является той практической основой, на которой строится и самое речевое его развитие»[18].
Сам же А.Н. Леонтьев формулирует теоретические основы своего подхода в трех не предназначавшихся для опубликования текстах, созданных в конце предвоенного десятилетия (два из них – тезисные записи для себя, и один – стенограмма лекции).
«Материалы о сознании» – одна из наиболее интересных работ довоенного периода (точно датировать ее невозможно, но примерно это 1940–1941 гг.), где четко просматривается методологическая основа концепции Леонтьева. Первый раздел рукописи содержит методологический анализ сущности сознания и критику некоторых существующих психологических подходов к анализу сознания. Главные мысли этого раздела сводятся к следующему. Сознание входит в предмет психологии, будучи взято в его отношении к осуществляющейся жизни человека. Подмена психологической точки зрения точкой зрения гносеологической или положениями исторического материализма – грубо ошибочна. Сознание есть основная, решающая проблема психологической науки. «Психология, лишенная теории сознания, это еще меньше, чем политическая экономия, лишенная теории стоимости» (наст. изд., с. 356).
Далее Леонтьев пытается восстановить исходный замысел Выготского. Он, по его мнению, заключался в том, чтобы «в образе жизни человека найти ключ к его Сознанию, чтобы связать жизнь с сознанием» (с. 364). Но это учение вернуло Выготского к классическим позициям французской социологической школы. «Сознание – результат речевого, вообще духовного общения <…>. Сознание потеряло интенциональность <…>. Жизнь превратилась в процесс образования <…>. Человек выступил не как общественное, а как общающееся существо» (с. 365).
В первых, выполненных еще при жизни Выготского экспериментальных исследованиях Харьковской группы, направленных на изучение отношения «образ – процесс» (1932–1933), была раскрыта суть переноса как процесса формирования обобщения, было показано, что образ и соответствующий ему процесс не существуют раздельно, но вместе с тем они не совпадают; образ может отставать от процесса. «Действительная противоположность есть противоположность образа и процесса, безразлично внутреннего или внешнего, а вовсе не противоположность сознания, как внутреннего, предметному миру, как внешнему» (с. 368). Это знаменовало тогда начало штурма картезианской психологии. Правда, он превратился в весьма долговременную осаду – в печатных работах Леонтьева, да и в большинстве его рукописей более позднего времени, этот ход мысли отсутствует. И не удивительно: замена отношения «мир – сознание», исходного для картезианского миропонимания и перешедшего в «теорию отражения» Ленина и в советскую версию марксизма, отношением «образ – деятельность» не встретила бы понимания в официальной марксистско-ленинской философии. И без того, как известно, Леонтьеву предъявлялись прямые обвинения в субъективном идеализме, отходе от ленинской теории отражения, формализме. Именно поэтому «Материалы о сознании» остались в архиве. Генеральная идея Леонтьева легко восстанавливалась из его рассуждений о деятельности и сознании, но никогда не формулировалась им в открытом виде.
Следующим ходом, вытекающим из следующего этапа работ Харьковской группы, является движение к операциям, к деятельности. «Ключ к морфологии сознания лежит в морфологии деятельности» (наст. изд., с. 369). Само сознание надо понять как деятельность.
«Генезис деятельности» – стенограмма одной из лекций А.Н. Леонтьева в ЛГПИ им. Н. К. Крупской. В конце 1930-х гг. Леонтьев принял приглашение занять там место заведующего кафедрой психологии на условиях – 20 дней работы в Москве, 10 в Ленинграде. Так он и работал до самого начала войны. Это было удобно ему еще и потому, что он, «еще не разоружившийся», не был на виду. Во всяком случае, самые опасные годы он пережил относительно спокойно.
Лекция «Генезис деятельности»[19], относящаяся к марту 1940 г., представляет собой систематическое изложение представлений А.Н. Леонтьева о становлении человеческого сознания через развитие деятельности человека в антропогенезе. В ней появляются новые идеи, хорошо замаскированные под повторение некоторых общеизвестных и к тому времени уже банальных положений марксизма. Скажем, вот идея социальной природы человеческого труда. «Труд есть процесс <…>, который совершается в условиях совместной деятельности людей <…> и <…> также и общественным, т. е. коллективно выраженным, способом. В этом процессе люди вступают в общение друг с другом. Речь идет, конечно, не об общении прежде всего речевом, но об общении в смысле участия в совместном действии…» (наст изд., с. 374–375). Дальше следует пространное рассуждение о первобытном человеке, где задается принципиальный вопрос: если человек, скажем, поддерживает огонь, то как связаны деятельность по поддержанию огня и удовлетворение потребности в пище? «Деятельность других людей – вот что соединяет между собой первое и второе. Для того чтобы поддержание огня могло привести к удовлетворению существенной потребности, необходимо, чтобы была произведена другими людьми какая-то другая часть деятельности <…>. Такого рода деятельность <…> может возникнуть <…> только при одном условии – при наличии деятельности совместной» (с. 375–376). Предмет такой деятельности должен быть осознан, т. е. отражен в его отношении к предмету потребности. Такой предмет правильно было бы, говорит Леонтьев, назвать целью. И возникает необходимость выделить из комплексного процесса удовлетворения потребности (т. е. деятельности) другую единицу – действие. Сознательная цель действия может и не совпадать с тем, что удовлетворяет потребность и что побуждает деятельность в целом.
В результате появления действий меняется сама сущность деятельности: она приобретает общественный характер. Возникает орудие: «Человеческое орудие – это то, что изготовляется, это то, что сохраняется и хранит способ действия с этим орудием» (с. 380). Орудие осознается в его связи с действием как способ действия. Но это означает также, что возникает и осознание способа действия! Отсюда еще одно важное разделение – фазы подготовления и фазы осуществления. А далее мы приходим к еще более существенному моменту: начинается «отражение предметного мира, окружающего человека, в его объективных, независимых от потребностей человека и от его инстинктов свойствах <…>. Его отношение к данному предмету отделяется от самого предмета» (с. 382). Для этого уже мало чувственных форм – новая форма отражения предполагает речь, язык. Таким образом, лекция «Генезис деятельности» отражает заключительный этап генеза теоретической схемы деятельностного подхода в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, а именно вычленение той структуры деятельность – действие – операция, с которой деятельностный подход столь часто наивно отождествляется.
И, наконец, «Основные процессы психической жизни». Это – очень концептуальная работа, в каком-то смысле подводящая итог развитию взглядов Леонтьева на деятельность в период тридцатых годов, первый законченный лаконичный набросок основных положений деятельностного подхода. Она уже включает и выделение типов сложных деятельностей соответственно различным формам отношения человека к действительности, которые ими реализуются (практическая, познавательная, эстетическая и т. п. деятельность), и окончательное представление о мотиве как предмете деятельности, и формы переживания мотива (тема, в дальнейшем не развивавшаяся), и определение роли эмоций, и определение отношения возможного результата деятельности к ее мотиву как смысла действия, и понятия волевого действия и поступка как действия сложномотивированного и, наконец, понятие операции как определяемой задачей и соотношение структуры деятельности с психофизиологическими свойствами организма. Этот короткий текст настолько прозрачен и чеканно-афористичен, что комментировать его излишне и бессмысленно – яснее не скажешь. Новая общепсихологическая теория обрела – по крайней мере, в текстах ее автора – завершенный вид.
В раздел «Ретроспектива» мы включили оценки, которые А.Н. Леонтьев задним числом дает событиям 1920—30-х гг., развитию идей Л.С. Выготского и своих собственных. В раздел вошли три наиболее существенных работы А.Н. Леонтьева такого плана, относящиеся к 1956—76 гг. Первая из них – это предисловие (написанное совместно с А.Р. Лурия) к первому изданию избранных работ Л.С. Выготского после снятия табу на публичное произнесение этого имени (чему Леонтьев и Лурия во многом способствовали). Вторая – юбилейная статья, опубликованная в журнале «Вопросы психологии» в 1967 г. к весьма серьезной официальной дате – 50-летию Октябрьской революции. И третья – стенограмма выступления А.Н. Леонтьева в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР в 1976 г. «Проблема деятельности в истории развития советской психологии».
Главное, что необходимо отметить, не останавливаясь на этих работах чересчур подробно, – это то, что заявленные в них позиции не отличаются сколько-нибудь существенно от позиций, отстаивавшихся Леонтьевым в не предназначавшихся для обнародования внутренних документах 1930-х гг. Мы вновь видим признание чрезвычайной значимости творчества Л.С. Выготского для всего последующего развития советской психологии, сочетающееся с критическим отношением к определенным позициям Выготского. Основной принципиальный недостаток культурно-исторической концепции Выготского Леонтьев видит в том, что в ней сознание «чрезмерно интеллектуализировалось»: его единицей выступило значение, представляющее собой продукт духовной деятельности общества. И хотя сам Выготский позже попытался преодолеть интеллектуальную замкнутость сознания, разрабатывая идею единства «интеллекта» и «аффекта», эта попытка не удалась, потому что, как считает Леонтьев, «проблему исследования роли аффекта он ставил также в плоскости сознания». Поставленная когда-то Выготским задача «разомкнуть» замкнутый круг явлений сознания осталась решенной наполовину. Подробно рассматривая идеи позднего Выготского, Леонтьев констатирует, что у него было ясное понимание, что «за сознанием лежит жизнь», но сам он не повел исследование в этом направлении.
Попытаемся в заключение этой вступительной статьи изложить первые промежуточные итоги развития теории деятельности, сформулированные А.Н. Леонтьевым в работах, написанных непосредственно перед войной.
1. Ребенок «действует понятийно», т. е. именно его практическая деятельность, реализующая отношения ребенка к действительности, выступает формирующей силой его сознания. При этом и субъект, и «среда», т. е. мир объективных предметов, вне деятельности являются абстракциями. Действительное их единство осуществляется именно в деятельности.
2. Главное противоположение – не «внешнее» и «внутреннее», а «образ» и «процесс». Отношение образа и процесса – динамическое. Образ всегда отстает от процесса. Овладеть орудием, средством, значением, понятием – значит овладеть процессом, операцией. Ключ к морфологии сознания лежит в морфологии деятельности.
3. Предметом психологии является деятельность субъекта по отношению к действительности, опосредованная отображением этой действительности. Психология изучает, как действительность субъекта становится его переживанием и как его переживания становятся действительными.
4. Деятельность есть высшая форма жизнедеятельности. Она имеет свою структуру. Ее образующими являются субъект, предмет, продукт, мотив, средство, задача. Все эти понятия не психологические; для субъекта, в психологии, они имеют соответствующие корреляты: для продукта – цель, для мотива – потребность, для средства или способа действия – значение, для задачи – намерение или план. Единицами деятельности являются деятельность, действие и операция.
5. Генезис действий связан с расчленением совместной производственной деятельности людей и как следствие – с осознанием цели действия, способа действия и орудия. Отсюда разделение «фазы подготовления» и «фазы осуществления» действия и появление отражения предметного мира, отделенного от отношения к предметам, т. е. в их объективных свойствах и качествах. Условием этого отражения является речь, язык. Отношения, приводящие к необходимости выделения деятельности, действия и операции, могут быть представлены в категориях «смысл – значение – смысл».
Хотя взгляды Леонтьева на деятельность со временем менялись и акценты расставлялись по-разному, эта принципиальная основа деятельностной концепции, сложившаяся на протяжении 1930-х гг. в диалогах с Выготским на основе его культурно-исторического подхода, сохранилась до его смерти единой и неизменной.
А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.Е. Соколова
Исследования высших психических функций
Развитие памяти[20]
Экспериментальное исследование высших психологических функций
Предисловие
Современная научная психология переживает глубочайший кризис своих методологических основ, подготовленный всем ходом исторического развития этой науки и охвативший всю область психологических исследований с такой полнотой и силой, что он непреложно знаменует начало новой эпохи в психологии и невозможность ее дальнейшего развития на старых путях. Чем бы ни была будущая психология, она во всяком случае не может быть прямым продолжением старой психологии.
Кризис и означает поэтому поворотный пункт в истории ее развития, и вся сложность этого кризиса заключается в том, что в нем сплелись черты прошлой и будущей психологии в такой причудливый сложный узор, что задача распутать его представляет иногда величайшие затруднения и требует специальных исторических, методологических и критических исследований, посвященных этому вопросу.
Как уже сказано, кризис этот носит настолько всеобъемлющий характер, что нет ни одной сколько-нибудь значительной проблемы психологии, которая не была бы охвачена этим кризисом. Само собой разумеется, что каждая глава научной психологии переживает этот кризис по-своему. В каждой проблеме этот кризис находит свое своеобразное выражение и преломление в зависимости от характера самой проблемы и от исторического пути ее развития. Но методологическая природа этого кризиса остается по существу одной и той же во всем многообразии его выражений, во всем богатстве его преломлений сквозь призму отдельных конкретных проблем. Поэтому не только попытка наметить основы и систему психологического знания, но и каждое конкретное исследование, посвященное тому или иному частному психологическому вопросу, может методологически осознать свои отправные точки, свой метод, свою постановку вопроса только в свете того кризиса, которым охвачена вся проблема в целом.
Не представляет в этом отношении исключения и проблема памяти, которой посвящено исследование А.Н. Леонтьева, введением к которому должны служить эти строки. Даже больше: память представляет собой такую психологическую проблему, в которой основные черты кризиса представлены наиболее отчетливо и ясно.
Как известно, основное содержание психологического кризиса составляет борьба двух непримиримых и принципиально различных тенденций, которые на всем протяжении развития психологии в различном сплетении лежали в основе психологической науки. Эти тенденции в настоящее время достаточно осознаны наиболее дальновидными представителями психологии. Большинством из них осознана также та мысль, что никакого примирения между этими двумя тенденциями быть не может, а самые немногие и самые смелые из мыслителей начинают понимать, что психологии предстоит кардинальный поворот на пути ее развития, связанный с коренным отказом от этих двух тенденций, до сих пор направлявших ее развитие и определявших ее содержание.
Свое выражение этот кризис нашел в ложной идее двух психологий: естественнонаучная, каузальная, объяснительная психология и телеологическая, описательная, понимающая психология как две самостоятельные и совершенно независимые друг от друга теоретические дисциплины.
Эта борьба двух непримиримых между собой тенденций определила в основном и судьбу исследований памяти в психологии. По правильному замечанию Мюнстерберга, телеологическая психология редко выявляется действительно чисто и последовательно. «По большей части она находится в каком-либо внешнем слиянии с элементами каузальной психологии. В таком случае процессы памяти, например, изображаются как причинные, а процессы чувства и воли – как интенциональные, – смешение, легко возникающее под влиянием наивных представлений повседневной жизни».
И действительно, процессы памяти в психологии обычно трактовались с точки зрения естественнонаучной, каузальной психологии. Устами Геринга была высказана та великая мысль, что память есть общее свойство организованной материи, и целый ряд исследований, развивавшихся под знаком этой мысли, образовали стихийно-материалистическую струю в учении о памяти – внутри общего двойственного, смешанного русла эмпирической психологии. Неудивительно поэтому, что крайняя физиологическая точка зрения в психологии, нашедшая свое высшее выражение в ассоциационном направлении психологии и приведшая к возникновению психологии поведения и рефлексологии, сделала излюбленной и центральной своей темой проблему памяти.
Но, как это неоднократно бывает в истории знания, самое наличие этой точки зрения с необходимостью привело к тому, что на другом полюсе стали накапливаться идеи о памяти совершенно противоположного характера. Специальные психологические закономерности памяти, специфически человеческие формы и способы ее функционирования не могли получить, разумеется, сколько-нибудь удовлетворительного объяснения в той насквозь аналитической постановке проблемы, которая видела конечную цель своего исследования в сведении высших форм памяти к ее низшим, первичным, зачаточным формам, к ее общеорганической основе и к растворению всей проблемы в целом в общем, неопределенном, смутном, стоящем почти на границе метафизики понятии мнемы как общей универсальной способности материи.
Метафизический материализм, таким образом, с необходимостью приводил к тому, что на другом полюсе он, последовательно идя по своему пути, превращался в идеалистическую метафизику.
Свое высшее выражение эта идеалистическая концепция высшей памяти нашла в известной работе Анри Бергсона «Материя и память»[21], в которой эта взаимная обусловленность механистической и идеалистической точек зрения выступает с наибольшей ясностью. Бергсон, анализируя двигательную память, память, лежащую в основе образования привычки, исходит из невозможности подчинить закономерностям этой памяти деятельность человеческой памяти в целом. Из законов привычки не могут быть выведены и объяснены функции воспоминания: таков скрытый, но центральный нерв всей теории, ее основная предпосылка, ее единственное реальное основание, на котором она держится и вместе с которым она падает. Отсюда его учение о двух памятях – памяти мозга и памяти духа.
В этой теории, одним из главнейших аргументов которой является последовательно-механистическое воззрение на органическую память, дуализм, характерный для всей психологии в целом, и для психологии памяти в частности, приобретает свое метафизическое обоснование. Мозг для Бергсона, как и для последовательного бихевиориста, – просто аппарат для связи внешних импульсов с движениями тела. «По нашему мнению, – говорит он, – головной мозг не что иное, как род телефонной станции: его роль – дать сообщение или заставить ждать». Все развитие нервной системы заключается только в том, что пункты пространства, которые она приводит в связь с двигательными механизмами, становятся все многочисленнее, отдаленнее и сложнее.
Но принципиальная роль нервной системы на всем протяжении ее развития остается той же. Она не приобретает принципиально новых функций, и головной мозг, этот основной орган мышления человека, по мнению Бергсона, ничем принципиально не отличается от спинного мозга. «Между так называемыми перцептивными способностями головного мозга, – говорит он, – и рефлекторными функциями спинного мозга разница только в степени, а не по существу».
Отсюда естественно Бергсон различает две теории памяти. Для одной – память есть лишь функция мозга, и между восприятием и воспоминанием разница только в интенсивности; для другой – память есть нечто иное, чем функция мозга, и между восприятием и воспоминанием различие не в степени, а по существу. Сам Бергсон становится на сторону этой второй теории. Для него память есть «нечто иное, чем функция мозга». Она есть нечто «абсолютно независимое от материи». «С памятью мы действительно вступаем в область духа», – формулирует он свою основную идею. Мозг является просто орудием, позволяющим проявиться этой чисто духовной деятельности. Все факты и все аналогии говорят, с его точки зрения, в пользу теории, которая смотрит на мозг только как на посредника между ощущениями и движениями.
Мы видим, таким образом, что дуалистический подход, господствовавший во всей психологии, нашел свое яркое выражение в учении о двух памятях. Мы видим далее, как этот дуализм с неизбежностью приводит к идеалистической концепции памяти, все равно – сверху или снизу, к теории абсолютно независимой от материи памяти духа Бергсона или к теории изначальной и универсальной памяти материи, к теории мнемы Земона.
Когда изучаешь психологические исследования памяти, ориентированные в этом направлении, начинает казаться, что эти работы принадлежат к той давно минувшей уже эпохе научного исследования, когда исторический метод был чужд всем наукам и когда Конт видел привилегию социологии в применении этого метода. Исторический метод мышления и исследования проникает в психологию позже, чем во все науки.
Положение со времен Конта изменилось радикальным образом. Не только биология, но астрономия, геология и все вообще естествознание усвоило исторический метод мышления, за исключением одной только психологии. В свое время Гегель считал историю привилегией духа и отказывал в этой привилегии природе. «Только дух имеет историю, – говорил он, – а в природе все формы одновременны». Сейчас положение изменилось на обратное. Науки о природе давно усвоили ту истину, что все формы в природе не одновременны, а могут быть поняты только в аспекте исторического развития. Только психологи делают исключение для своей науки, полагая, что психология имеет дело с вечными и неизменными явлениями, все равно, выводятся ли эти вечные и неизменные свойства из материи или из духа. Метафизический подход к психологическим явлениям остается здесь и там в одинаковой силе.
Свое высшее выражение эта антиисторическая идея нашла в известном положении ассоциационной этнической психологии, гласящем, что законы человеческого духа всегда и везде одни и те же. Как это ни странно, но идея развития до сих пор остается еще неусвоенной психологией, несмотря на то, что целые ветви психологии посвящены не чему иному, как изучению проблемы развития. Это внутреннее противоречие сказывается в том, что самую проблему развития эти психологи ставят, как метафизики.
Известно, какие огромные трудности для психологии памяти представляет проблема развития памяти в детском возрасте. Одни психологи, основываясь на несомненных фактах, утверждали, что память в детском возрасте, как и все остальные функции, развивается. Другие, опираясь на столь же несомненные факты, утверждали, что по мере развития ребенка его память слабеет и свертывается. Третьи наконец пытались примирить оба эти положения, находя, что память в первой половине детства развивается, а во второй – свертывается.
Такое положение не является характерным только для детской психологии. Оно в одинаковой степени характерно и для патологической психологии, которая также не могла постигнуть закономерностей движения памяти в ее распаде. То же самое можно сказать и о зоологической психологии. Для всех этих наук развитие памяти означало не что иное, как чисто количественное нарастание всегда неизменной в самой себе функции.
Все эти затруднения мы могли бы обобщить, сказав, что величайшую трудность для психологии памяти представляло изучение памяти в ее движении, задача уловить разные формы этого движения. Само собой разумеется, что при таком положении дела психологическое исследование наталкивается на непреодолимые трудности.
В настоящее время принято жаловаться на несовершенства и бедственное положение психологии. Многие думают, что психология как наука еще не началась и начнется лишь в более или менее отдаленном будущем. Предисловия к психологическим исследованиям пишутся в минорном тоне: Приам на развалинах Трои, – с легкой руки Н.Н. Ланге, не нашедшего лучшего уподобления для современной психологии, – гуляет по страницам психологических книг.
Серьезнейшие мыслители, как, например, академик Павлов, готовы принять затруднения того или иного немецкого профессора при составлении программы университетского курса по психологии за роковые затруднения самой науки. «Перед войной, – говорит он, – в 1913 г. в Германии поднялся вопрос об отделении в университетах психологии от философии, т. е. об учреждении двух кафедр вместо прежней одной. Вундт оказался противником этого отделения, и между прочим на том основании, что по психологии нельзя составить общеобязательной программы для экзамена, так как у каждого профессора своя особая психология. Не ясно ли, – заключает академик Павлов, – что психология еще не дошла до степени точной науки?» С помощью таких аргументов от программы в двух строках путем несложных операций решается проблема науки, проблема веков прошлых и будущих.
Но психология и не думала умирать к огорчению плакальщиц. Она пытается опознать собственный план исследования создать свою собственную методологию, и в то время как одни, например Мёбиус, объявляют «безнадежность всякой психологии» основным аргументом в пользу метафизики, другие пытаются преодолеть метафизику с помощью научной психологии.
Первой исходной точкой таких исследований является идея развития: не из свойств памяти объяснить ее развитие, а из ее развития вывести ее свойства – такова основная задача новых исследований, к которым примыкает и работа А.Н. Леонтьева.
Стремление положить в основу своей работы исторический подход к памяти приводит автора к соединению до сих пор метафизически разделенных в психологии методов исследования. Его интересуют развитие и распад, генетический и патологический анализ, его интересует выдающаяся память, как и память полуидиота. И это соединение не случайно. Оно с логической необходимостью вытекает из основной отправной точки всего исследования, из стремления изучить память в аспекте ее исторического развития.
Эмпирическое выделение высших функций памяти не ново. Им мы обязаны экспериментальной психологии, которая сумела эмпирически выделить такие функции, как произвольное внимание и логическая память, но которая давала им метафизическое объяснение. В настоящем исследовании сделана попытка в основу изучения высших функций внимания и памяти – во всем их своеобразии по сравнению с элементарными и в их единстве и связи с этими последними – положить своеобразие того процесса развития, которому они обязаны своим возникновением. Показать экспериментально становление так называемой логической памяти и так называемого произвольного внимания, раскрыть их психогенезис, проследить их дальнейшую судьбу, понять основные явления памяти и внимания в перспективе развития – такова задача этого исследования.
В этом смысле методологически работа А.Н. Леонтьева определяется нашей центральной краеугольной идеей, идеей исторического развития поведения человека, исторической теорией высших психологических функций. Историческое происхождение и развитие высших психологических функций человека, и в частности высших функций памяти, являются с точки зрения этой теории ключом к пониманию их природы, их состава, строения, способа деятельности и вместе с тем ключом ко всей проблеме психологии человека, пытающейся адекватно раскрыть подлинно человеческое содержание этой психологии.
Вместе с этим внесением исторической точки зрения в психологию выдвигается на первый план и специально психологическая трактовка изучаемых явлений и управляющих ими закономерностей. Это исследование исходит из того убеждения, что существуют специально психологические закономерности, связи, отношения и зависимости явлений, которые и следует изучать в качестве таковых, т. е. психологически.
Мы могли бы повторить тезис, выдвинутый одним из выдающихся представителей современной идеалистической психологии: Psychologica psychologice, вложив в него, однако, принципиально иное содержание. Для идеалистической психологии требование – психологическое изучать психологически – означает прежде всего требование изолированного изучения психики как самостоятельного царства духа вне всякого отношения к материальной основе человеческого бытия. В сущности для автора этот тезис означает: психическое абсолютно независимо. Но с формальной стороны этот принцип, требующий изучения психологических закономерностей с психологической точки зрения, глубоко верен. В книге А.Н. Леонтьева и сделана попытка, изменив принципиальное содержание этого требования, последовательно провести психологическую точку зрения на изучаемый, предмет.
В связи с этим работа выдвигает и целый ряд положений, имеющих непосредственное практическое значение. Недаром другой стороной вопроса о развитии памяти являлся всегда вопрос о воспитуемости памяти, и надо прямо сказать, что метафизическая постановка вопроса в отношении психологии памяти приводила к тому, что педагогика памяти оставалась без психологического обоснования. Только новая точка зрения, пытающаяся раскрыть психологическую природу памяти с точки зрения ее развития, может нас привести впервые к действительно научно построенной педагогике памяти, к психологическому обоснованию ее воспитания.
Во всех этих отношениях работа А.Н. Леонтьева представляет первый шаг в исследовании памяти с новой точки зрения, и, как всякий первый опыт, она, конечно, не охватывает всего вопроса в целом и не может претендовать на то, чтобы служить к его более или менее полному разрешению. Но этот первый шаг сделан в совершенно новом и чрезвычайно важном направлении, конечная цель которого может быть определена немногими и простыми словами, к сожалению до сих пор чуждыми большинству психологических исследований в этой области; эти слова – память человека.
Л.С. Выготский
От автора
…Тот, кто прибегнул бы к механике для исследования природы памяти и без дальнейших околичностей применил бы ее законы к душе, показал бы себя плохим психологом.
Гегель
Предлагаемая работа представляет собой опыт монографического исследования на основе принципиальных положений теории исторического развития высших форм поведения, впервые выдвинутых Л.С. Выготским и в течение последних лет разрабатываемых им совместно с А.Р. Лурия и нами.
Вместе с этой монографией в настоящее время выпускается также и ряд других работ, связанных между собой, как и наша, общими теоретическими положениями и образующих лишь отдельные звенья единой системы исследований.
Вследствие общности исходных позиций и непрерывного живого обмена мыслями между участниками этих исследований в настоящей книге мы, тщательно оговаривая всякий раз использование посторонних литературных источников, не приводим, однако, как правило, никаких ссылок из упомянутых авторов, ограничиваясь лишь сообщением общего списка выпущенных ими работ.
А.Н. Леонтьев.Москва, 8 июля 1930 г.
Глава I. Метод и проблема исследования
1.
В современной научной психологии, которая выросла из эмпирической психологии XIX века и которая конструирует себя как ее отрицание, с совершенной отчетливостью обнаруживаются две основных тенденции: тенденция к преодолению идеализма эмпирической психологии, с одной стороны, и тенденция к преодолению в ней метафизического образа мышления – с другой. Обе эти тенденции, стихийно проникающие всю прогрессивную европейскую психологию[22], вместе с тем представляют собой и те две задачи, которые были поставлены новейшей русской психологией.
Совершенно естественно, что в первую очередь новая русская психология перенесла все свое внимание на первую задачу – задачу формулирования и укрепления своей материалистической позиции, решение которой являлось важнейшей предпосылкой для ее дальнейшего развития, причем вторая задача временно оказалась как бы несколько отодвинутой на второй план. Однако для материалистической психологии вопросы принципиально методологические несомненно являются важнейшими: материализм и диалектика суть единство, из которого диалектика, диалектический метод не может быть выделяем. Вместе с тем диалектический метод в материалистической психологии отнюдь не может сводиться к задаче перенесения в психологию основных положений диалектического материализма в форме решения ее основных принципиальных проблем или к задаче иллюстрирования диалектических принципов конкретными психологическими данными, но необходимо должен сделаться методом научного психологического исследования. В этом смысле перед современной психологией стоит задача не только излагать свой предмет с точки зрения диалектического материализма, ассимилируя данные старой эмпирической психологии, но и изучать его на основе диалектического метода, который должен занять в психологии центральное место, подчиняя себе другие специальные методы.
Диалектическая логика в материалистической науке не может оставаться догматически и формально подчиняющей себе ту или другую научную дисциплину. Она сама находит свое развитие в процессе научного исследования и является результатом научного опыта. Только при этом условии мы действительно приходили к таким «отвлечениям, которые включают в себя все богатство частностей», т. е. к теории, оперирующей диалектическими понятиями.
Классическая эмпирическая психология метафизически рассматривала предметы своего изучения как законченные неподвижные образования, подлежащие непосредственному исследованию. Этот метафизический образ мышления нашел свое выражение и в решении проблемы памяти, которая обычно изучалась как некоторая абсолютная функция. К чему приводило такое изучение? Мы остановимся сейчас на анализе способов решения в эмпирической психологии трех отдельных вопросов внутри проблемы памяти. Прежде всего это вопрос о различных формах памяти и об их взаимных отношениях.
Установление отдельных форм памяти как сосуществующих абсолютно приводило эмпирическую психологию к двум возможным способам решения этого вопроса, которые сводились либо к попыткам свести высшие формы памяти к низшим формам, т. е. фактически к отрицанию своеобразия этих высших форм и их игнорированию, либо к построению идеалистических концепций, объясняющих эти высшие формы из моментов, лежащих вне непосредственного предмета изучения, не вытекающих из самого процесса исследования.
«…По существу своему память – факт биологический, а психологическим фактом она бывает только случайно»[23]. «Органическая память по способу усвоения, сохранения и воспроизведения совершенно тождественна с памятью психологической, и все различие между ними заключается в отсутствии у первой сознания»[24]. Если такое, получившее свое дальнейшее и специальное развитие в русской рефлексологии и у американских бихевиористов[25], понимание отношения, существующего между простейшими органическими (физиологическими) формами памяти и высшими ее формами – так называемой «психологической памятью», – встречает серьезные возражения с точки зрения психологии человека, то равным образом оно подвергалось справедливой критике и с точки зрения биопсихологии: «Отождествляя явления так называемой органической памяти, к которой с равным правом могут быть отнесены и память железы, и память мышцы, и даже память березы или рябины, с теми, которые мы разумеем под термином память, авторы делают очевидную ошибку огромного значения, называя без оговорок памятью и функцию ганглий, и деятельность нервно-мышечного механизма, усваивающего навыки или приспособляющегося к действию электрического тока, и память протоплазмы в явлениях возбуждения одноклеточных организмов; авторы вносят в решение вопроса бесконечную путаницу, тем более нежелательную, что явления “органической памяти” не всегда легко обнаруживают свои характерные особенности, которыми отличаются от памяти в психологическом смысле этого слова»[26].
С другой стороны, мы встречаем в психологии воззрения на различные формы памяти, усматривающие в них «две теоретически самостоятельные и независимые друг от друга памяти: “память-привычку”, “память повторяющую” и “память воображающую”, которая предполагается интуицией духа, которая лежит вне материи и от нее не зависит» (Бергсон).
Оба эти способа решения вопроса не могут не приводить – по крайней мере в принципе – к дуализму. Вся разница между ними заключается лишь в том, что в первом случае, когда простейшие физиологические законы объявлялись достаточными для объяснения всех явлений и форм памяти, этот дуализм оказывался лишь потенциальным или выступал в форме агностицизма, в то время как во втором случае философский идеализм открыто давал материализму бой на этом блестящем для его целей плацдарме, созданном метафизической постановкой вопроса. И справедливость требует здесь заметить, что в этом столкновении на долю механистического материализма не всегда выпадала роль победителя… Благодаря своей метафизической сущности механистическая материалистическая психология не видела в сосуществующих различных формах памяти продукты различных ступеней развития, качественно отличающиеся друг от друга и хотя переходящие в этом процессе развития одна в другую – низшие в более высокие формы, – но тем не менее механически не сводимые друг к другу – высшие формы к элементарным первичным формам.
А. Бергсон, ведя борьбу с материализмом, неслучайно именно вокруг этого вопроса о существовании различных и не сводимых друг к другу форм памяти, совершенно правильно, с нашей точки зрения, пишет: «В действительности существует только одно единственное средство отвергнуть материализм, а именно: установить, что материя совершенно такова, какою она кажется. Этим путем у материи отнимается все потенциальное, всякие скрытые способности, и явления духа приобретают независимую реальность». Это утверждение Бергсона прямо говорит о том, что наиболее желательная для идеалиста форма материализма есть материализм метафизический. Материя может обладать только физическими свойствами[27] – эта предпосылка обязательна для идеалиста Бергсона, ибо только при этом условии ему действительно удастся показать «иллюзорность всяких попыток выводить воспоминание из мозгового процесса» и объявить память независимой от материи.
А. Бергсон поставил перед научной психологией свою проблему о «двух памятях». Задача современной материалистической психологии заключается в том, чтобы разрешить ее, но не в метафизическом отрицании высших форм памяти путем механического сведения их к элементарному свойству органической материи – пластичности – или к еще более элементарному и общему свойству решительно всякой материи – гистерезису, а разрешить ее диалектически на основе изучения процесса развития памяти и перехода одних, низших форм ее в другие – высшие формы. Разумеется, однако, что само решение возможно только при условии разрешения в положительном смысле основного для психологии гносеологического вопроса: можем ли мы «противопоставлять себя своим переживаниям не в качестве духовно действующей личности, а в качестве простого зрителя»[28], т. е. могут ли служить для нас психологические явления таким же объектом изучения, как и явления вне нас лежащие, ибо именно решение этого вопроса в противоположном смысле приводит к гносеологической концепции Бергсона, составляющей неразрывное единство с его учением в целом.
Второй вопрос в психологии памяти, который непосредственно связан с господствовавшим в психологии воззрением на память как на некоторую абсолютную функцию или свойство, – это проблема специфического в памяти человека.
Всякая наука ставит себе задачу не только изучения того общего, что объединяет или сближает между собой явления, но и изучение того, что составляет их специфические особенности. Особенно большое значение вопрос изучения специфического приобретает в психологии, где мы встречаемся с одной и той же психологической функцией у животного и у человека, у ребенка и у взрослого, наконец у различных индивидуумов (дифференциальная психология). Вопрос этот в изучении памяти стоит в двух плоскостях: с одной стороны, поскольку мы имеем дело с вопросом о преобладании в каждом отдельном случае той или другой формы памяти, это – вопрос о взаимоотношении и сущности различных форм ее, который непосредственно связан с общим решением этой проблемы. С другой стороны, это – вопрос метода исследования, вопрос, неизбежно упирающийся в свою очередь в широкие, принципиально методологические предпосылки.
С помощью измерения общей величины тела можно, конечно, усмотреть особенности в этом отношении той или другой группы животных, но, разумеется, из этого еще нельзя вывести особенных черт, например, неполнозубых млекопитающих. Теоретические основы современной биологии предполагают исследования в совершенно другом направлении, которые только и могут привести к действительному установлению существенных, т. е. искомых особенностей. В этом смысле теория и общая методология той или другой науки целиком определяют coбoй не только интерпретацию и оценку материалов, имеющихся в ее распоряжении, но прежде всего определяют собой пути конкретного исследования.
Методы исследования памяти, созданные в эмпирической психологии и сделавшиеся в ней классическими, оказываются чрезвычайно характерными именно в этом отношении. В поисках таких приемов изучения, которые могли бы привести к установлению абсолютных законов памяти, эмпирическая психология обратилась к лабораторному ее исследованию на бессмысленном материале (Эббингауз, Мюллер). Запоминание бессмысленных слогов – вот та деятельность, исследование которой должно было привести к изучению памяти человека. Является ли функция, которая обнаруживает себя в этой деятельности, сколько-нибудь характерной для человека? Мы склонны утверждать, что она не только не характерна, но и в значительной степени лишена того значения для психологии памяти, которое ей приписывалось.
И если исследование памяти, построенное на изучении запоминания бессмысленного материала, представляет собой определенный интерес, то главным образом не потому ли, что, несмотря на все усилия изучать «чистую память», несмотря на создание для этой цели специальных аппаратов, детальнейшим образом разработанной методики и особого материала, подлежащего запоминанию, которому посвящались даже специальные издания[29], – несмотря на все это, фактически все же изучалась не абстрактная «простая функция», а сложное человеческое запоминание. О том, что это действительно так, убедительно говорит одно из новейших исследований памяти[30], в котором устанавливается, что даже при запоминании бессмысленного материала взрослые испытуемые обнаруживают подлинно человеческую черту, а именно обычно пользуются вспомогательными средствами, т. е. опосредствуют процесс запоминания и тем самым превращают его в сложную деятельность.
Допустим, однако, что с помощью известных приемов нам действительно удается изучить «чистое запоминание», и обратимся к тем общим положениям, которые оказываются установленными в результате такого изучения. «Чем больше число повторений, тем больше при равном промежуточном времени (Zwischenzeit) и число правильных воспроизведений (попаданий – Treffer)», – так говорит одно из положений, взятое наудачу, к которому приходят в результате своего исследования Мюллер и Пильцекер[31], работы которых несомненно должны быть признаны классическими в психологии памяти. Нас не интересует сейчас его общее значение, которое мы меньше всего склонны отрицать. Нас интересует сейчас другой вопрос: какое значение могут иметь подобные положения для изучения особенностей человеческой памяти. Не отражается ли в них только то общее, что сближает память человека и животных, и в самой тенденции изучать это общее не заключается ли отрицание принципиальной возможности для эмпирической психологии научного исследования специфического в человеческой памяти, которое вместе с тем является и конкретным, практическим?
«Исследованиями роли повторений, – говорит П. Жане в одной из своих последних книг, – психология оказалась перенасыщенной; эти исследования претендуют на то, что они изучают память человека, и они действительно делают известные усилия в этом направлении, но как малы и ограничены эти усилия! Только неловкий ребенок прибегает для запоминания к одним повторениям; взрослый разумный человек располагает для этого еще целым рядом других приемов…»[32]. Эта ограниченность классических исследований памяти может казаться на первый взгляд лишь естественным результатом необходимого в лаборатории рабочего сужения проблемы. Однако в действительности оно непосредственно зависит, как мы уже говорили, от тех принципиальных методологических предпосылок, которые лежат в основе эмпирической психологии. Сближая между собой аналитически выделенные внутри определенной группы «простые» явления, эмпирическая психология рассматривала эти явления наряду с другими, ставя их в прямые отношения тождества, соподчинения или сосуществования и исключая тем самым для себя возможность изучения этих явлений в их естественной взаимной связи. В действительности же одни явления, наслаиваясь на другие, не образуют простой цепи, но вступают в сложные взаимные отношения. Таким образом задача исследователя всегда двойственна: с одной стороны, это задача, обращенная к общей причине явления, задача изучения основы этого явления; с другой стороны, это задача изучения своеобразного в явлении, т. е. задача исследования его «специфической причины». Законы основания явления обнаруживают себя в специальных законах самого этого явления; причина основания есть часть причин специфического явления; однако само это явление возможно лишь при действии того добавочного фактора («специфической причины явления»), устранение которого ничего не изменяет в основании явления, но ведет к прекращению специфичности явления. Таким образом, исследование законов основы явления еще не есть изучение «общих законов» этого явления.
«Общие законы памяти у человека и у низкоорганизованных животных, как, например, у моллюсков, идентичны»[33]; подобное положение в сущности не может не вытекать из данных традиционно-психологического исследования, ибо оно содержится уже в самой его постановке, предполагающей подмену одного, более высокого ряда явлений другим рядом, составляющим условие первого, но, тем не менее, не распространяющим на этот первый ряд свои законы.
До какой степени велико различие между теми выводами, к которым приводит в изучении памяти старую эмпирическую психологию ее методология и которые, с другой стороны, устанавливаются некоторыми новейшими исследованиями, можно видеть из сопоставления следующих двух «законов памяти». «С удлинением запоминаемого ряда время, приходящееся на изучение одного элемента ряда, возрастает», – так говорит одно из положений, установленных с помощью классических методов исследования памяти (Эббингауз). «Время, приходящееся на запоминание одного элемента ряда (коэффициент фиксации), с увеличением длины серии уменьшается» – это прямо противоположное первому положение вытекает из исследования, проведенного равным образом как на бессмысленном, так и на осмысленном материале[34], но с той, однако, разницей, что данное исследование, не ставя себе задачи изучения абстрактного «чистого» запоминания, тем самым искусственно не обессмысливало поведения испытуемых во время опыта в погоне за условиями, при которых запоминание перестает в сущности быть специфически человеческим.
Эмпирическая психология так организует свой опыт, что те обобщения, к которым она приходит, отрываются от конкретности в силу той метафизической сущности, которая присуща ее общим понятиям, и ее абстрактно-верные «общие» законы постоянно отменяются реальной действительностью.
В другом месте[35] мы имели случай показать на частном примере, к каким противоречащим практике результатам приводит иногда исследование памяти с помощью традиционных методов эмпирической психологии и у отдельных индивидуумов. Эту противоречивость между данными научного исследования и показаниями реальной действительности современная психология может преодолеть только на основе изучения тех особенностей, характеризующих память человека, которые обусловлены социально-историческим развитием его психологических функций и которые, действуя, опрокидывают абсолютные законы, лежащие в их собственной основе.
До тех пор пока современная психология не положит эту мысль об изменяемости психологических функций под влиянием социально-культурного опыта человека в основу своего изучения и не предпримет исследования законов этих изменений, их роли и значения, т. е. до тех пор пока она останется в плоскости изучения психологических функций как законченных неподвижных образований, способных изменяться только в количественном отношении, до тех пор не удастся ей вскрыть в исследовании подлинно специфические законы человеческого поведения и до тех пор – именно поэтому – останутся глубоко справедливыми все притязания рефлексологии заменить собой психологику, так как стирается принципиальное различие в их предмете, а понятия души, психической активности и т. п. – все то, к чему приводит эмпирическую психологию результат ее метафизического образа мышления, – конечно, не смогут ей служить цитаделью. В поисках абсолютных законов памяти эмпирическая психология не могла уйти в своих исследованиях – по крайней мере принципиально – много дальше от тех центральных своих положений, которые впоследствии были вновь установлены и подтверждены данными рефлексологического изучения животных. «То, что устанавливается И.П. Павловым без всякой ссылки на самонаблюдение, оказывается сходным с тем, что дается в результате научно-обставленного самонаблюдения»[36]. В этом, разумеется, можно усматривать только одну сильную сторону традиционных психологических исследований, которая в них – безотносительно к методу самонаблюдения – действительно заключается, но мы не можем в этом не видеть также и их недостаточности как исследований, долженствующих вскрыть специфические черты человеческой памяти.
Здесь мы снова приходим к проблеме форм памяти, которая стоит перед нами как проблема специфических форм человеческой памяти, и тем самым снова оказываемся стоящими перед задачей научного разрешения положения Бергсона о «двух памятях». С другой стороны, мы подходим к новому, третьему вопросу, решение которого столь же неразрывно связано с решением общей проблемы памяти в метафизической психологии, как и решение первых двух вопросов, – к вопросу об отношении памяти к другим психологическим функциям.
Позиция, которую занимает в этом вопросе эмпирическая психология, в значительной мере двойственна. Как мы уже пытались показать, преувеличенное значение, которое придавалось в эмпирической психологии абстрактно-элементарным функциям памяти, приводило к необходимости искать последних объяснений своеобразия человеческой памяти в моментах, лежащих вне самой этой функции, которые, подчиняя ее себе, находили в ней свое выражение.
Такую роль в учении Вундта выполняет апперцепция, у Гефдинга – воля. «Как и Вундт, Гефдинг сам далек от того, чтобы видеть в этих категориальных отношениях вторую бессознательно-психическую причину, которая сопутствует первой физиологической, материальной… Подобно Вундту, он пытается преодолеть пассивную, механическую, физиологическую, ассоциационную психологию с помощью психологии, направленной к конечной цели волевой деятельности, но, подобно Вундту, он также не замечает того, что эта целесообразная волевая деятельность есть наивысшая категориальная функция, вершина категориальной системы и абсолютная бессознательная духовная деятельность, пользующаяся, правда, физиологическими расположениями, как механическим вспомогательным средством, но которая привходит к ним, как нечто принципиально другое и высшее…»[37].
С другой стороны, эмпирическая психология, – и в этом-то и заключалась двойственность ее позиции, – рассматривая отдельные психологические функции в их абстракции, изолированно, решала вопрос об отношении между ними в значительной степени механически, как вопрос о соучастии, о «совместном действии», которое лишь указывалось[38]; совершенно так же становился и чрезвычайно важный вопрос о роли в запоминании вспомогательных средств («вспомогательные ассоциации» – «Hilfen», «representation auxiliиre»), констатирование которых не вело дальше возможности формулирования таких общих принципов, как принцип «поддержки низших функций высшими»[39].
Черты, характеризующие учение о памяти в эмпирической психологии, во многом определяются метафизической сущностью самого понятия памяти. Рассматривая память как абсолютную функцию, субстанционально, психология метафизически сближала между собой такие явления, как явления следов на земле от колес проехавшей телеги, явление предрасположения в нервной клетке, явления упражнения, запечатления образа, логического запоминания, воображения. Это в свою очередь, с одной стороны, определяло собой такое направление изучения памяти человека, при котором искомыми оказывались прежде всего всеобщие черты этой функции, что, в частности, оправдывало и введение метода бессмысленных слогов, которое, как указывает уже Титченер, «…хотя и привело нас от логического значения обратно к психологическому факту, но при всем том оказало психологии плохую услугу. Исследование направилось больше на вопрос о том, что происходит в нервной системе, чем на вопрос о том, каковы процессы памяти в сознании»[40], и, с другой стороны, что самое важное, привело к тому, что понятие памяти при таком его расширении оказалось, как всякое метафизическое понятие, подчиненным формально логическому правилу: чем больше становился его объем, тем меньше оказывалось его содержание, и тем меньше могло оно служить средством познания. И действительно, уже Мейман в своей специальной монографии приходит к выводу, что «общей памяти не существует»[41]. Мы видим, как метафизически оторванная, стоящая вне связи с конкретным абстракция – «память» – испаряется и превращается в «чистое ничто». Нужно заметить, что это происходило не только с одним понятием памяти, но и с другими психологическими понятиями, в частности и с понятием внимания, которого постигла та же участь – участь всякого метафизически вырванного из связи с конкретным, рассматриваемого в его застывшей неподвижной сущности общего понятия.
Разумеется, что такое слишком широкое понятие, как понятие памяти, должно было аналитически разлагаться в процессе изучения. И здесь эмпирическая психология обнаруживает свою метафизическую сущность, разрушая единство естественного акта памяти искусственным выделением отдельных моментов запечатления, удержания, воспроизведения и т. п. Как бы условно ни было такое расчленение, оно принципиально разрушает основной принцип современной психологии – принцип целостности актов поведения личности, что в свою очередь приводит к ряду фактически неверных положений, например к положению о том, что воспоминание тождественно повторению впечатления и отличается от него только в количественном отношении. «Вспомнить о красном цвете – значит видеть его в слабой степени» – с распространением этого положения Спенсера на широкий круг явлений памяти мы встречаемся как у новейших ассоциационистов, так и у представителей классической ассоциационной психологии. А. Бэн[42], дающий именно такое определение воспоминанию, в дальнейшем развитии этого определения основывает его на данных лабораторного изучения восприятия, которое для него тождественно запечатлению, составляющему начальный момент акта запоминания. Сближение образов памяти с «последовательными образами», совершенно закономерное в плане генетического анализа, приводит, как это мы видим в психологии Бэна, к результатам, явно противоречащим действительности, когда оно проводится в системе искусственных расчленений.
В связи с критикой понятия памяти в эмпирической психологии естественно возникает вопрос о сохранении его в системе понятий современной психологии и о возможности замены его другими понятиями, в частности понятием «репродукции». Именно это последнее понятие чаще всего фигурировало в качестве заменяющего понятие «память». Однако едва ли такое замещение одного понятия другим может сколько-нибудь служить решению вопроса о вкладываемом в них содержании, особенно в том случае, если мы понятие репродукции будем употреблять наряду с понятием памяти. Термин «репродукция», употребленный в смысле «или память», т. е. охватывающий то же многообразие явлений, конечно, не вносит ничего нового в систему психологических понятий и представляет собой простую замену одного слова другим – и при этом худшим – словом, худшим потому, что его прямой и точный смысл фактически не соответствует тому, что оно собой выражает. В действительности же решение вопроса здесь заключается не в отрицании самого понятия памяти, а в понимании этого понятия как процесса, т. е. в его диалектическом раскрывании.
Говоря о научной несостоятельности чистой эмпирики, мы, конечно, меньше всего имеем в виду отказ от эмпирического метода и переход к построению и внесению в психологию «сверху» априорных конструкций. Мы хотим лишь выразить ту мысль, что «познание, желающее брать вещи так, как они есть, впадает при этом в противоречие с самим собой» и что эмпирия не может не быть проникнута и обусловлена теорией, но сама эта теория в свою очередь порождается из эмпирии, из объективных фактов. Таким образом, конкретный опыт дается нам дважды: опыт как неорганизованная, «хаотическая» конкретность, из которой мы извлекаем, говоря языком К. Маркса, первые «тощие абстракции», и опыт как конкретность, стоящая в конце познавательного процесса, им организованная и воссозданная и наполняющая своим содержанием систему абстрактных понятий – теорию. Изучая факты, т. е. конкретность, мы извлекаем из них те первоначальные теоретические концепции, с точки зрения которых мы вновь и вновь обращаемся к этой конкретности, к фактам, изучение которых подтверждает или опрокидывает и, главное, развивает, расширяет и вместе с тем углубляет их. Это не суть два изолированных друг от друга процесса; они представляют собой единый процесс исследования, единый познавательный процесс.
То исходное теоретическое положение, которое полагается нами, в частности, и в основу изучения памяти и которое – с нашей точки зрения – необходимо следует из всего того громадного фактического материала, которым располагает современная психология, – это теория исторического развития высших психологических функций, выдвинутая Л.С. Выготским[43], теория, распространяющая ту, по выражению Гегеля, «великую хитрость человеческого ума», которая составляет специфическую особенность человека – его способность овладевать явлениями природы, «заставляя действовать одни естественные силы против других», – на поведение самого человека, который овладевает им в процессе своего культурно-исторического развития.
Перед нами стоят два методологических приема, два пути к изучению памяти: первый из них – это путь к изучению развития памяти человека через исследование и сопоставление различных ее форм, т. е. различных моментов развития. С другой стороны, это путь изучения самого процесса развития, т. е. изучения процесса перехода одной формы в другую, в ней потенциально содержащуюся, и изучение тех условий, которые обусловливают этот переход, это приобретение процессом нового качества.
От генетического изучения различных форм памяти и процесса превращения одной формы в другую к изучению ее структурных механизмов и к анализу памяти человека из ее развития – таково то общее направление исследования, которое непосредственно вытекает как из опыта решения проблемы памяти в эмпирической психологии, так и из общих принципиально-методологических предпосылок, лежащих в основе современной научной психологии.
Отказ от господствовавшего в эмпирической психологии метафизического образа мышления, его преодоление есть необходимое условие дальнейшего развития психологии; вместе с тем это не обозначает собой отрицания ее реальных научных завоеваний. А старый метод исследования и мышления, который Гегель назвал метафизическим и который имел дело преимущественно с предметами как с чем-то совершенно готовым и законченным и остатки которого до сих пор еще глубоко сидят в головах, имел в свое время великое историческое оправдание. Надо было исследовать предметы, прежде чем можно было приступить к исследованию процессов. Надо было сперва узнать, что такое данный предмет, а потом уже изучать те изменения, которые в нем происходят.
«Из естествознания, рассматривавшего все предметы – мертвые и живые – как готовые и раз навсегда законченные, выросла старая метафизика… Естествознание было преимущественно собирающей наукой… Оно стало наукой о происхождении и развитии предметов и о связи, соединяющей явления в одно великое целое»[44].
2.
Ни одна психологическая проблема не вызывала такого огромного количества экспериментальных и теоретических исследований, как проблема памяти; казалось бы, в посвященных ей многочисленных работах она должна была найти свое полное окончательное разрешение. Однако, несмотря на совместные усилия физиологического и психологического изучения, которые действительно пролили яркий свет на простейшие механизмы, лежащие в физиологической основе этой функции, психология высших форм памяти, психология памяти человека до сих пор еще представляет собой область, где наивные, упрощенно-физиологические концепции нередко стоят рядом со сложнейшими, далеко уводящими психологию от предмета ее непосредственного изучения, метафизическими построениями философов.
Господствовавшая когда-то в этой области старая система понятий силой своего исторического прошлого, силой научной традиции и научного консерватизма, а иногда благодаря своей обманчивой простоте и стройности еще продолжает держаться в психологии. Эти понятия, образуя своеобразный заколдованный круг, который вновь и вновь смыкается за каждым прорвавшим его исследованием, за каждой преодолевшей его мыслью, еще воскрешают собой старые представления о мозге то как о механическом фортепьяно, могущем воспроизвести бесчисленное множество арий (Спенсер), то как о типографии, непрерывно печатающей и при этом сохраняющей свои клише (Тэн), то как о складе фотографических пластинок или дисков для фонографа (Дельбеф).
С одной стороны, целый ряд физиологических или физико-химических теорий, как, например, химическая теория памяти В. Оствальда[45] или теория Э. Маха[46], сводящая память к проявлению физического принципа необратимости, несомненно обозначают собой тенденцию рассматривать память как единую и всеобщую функцию всякой органической и даже неорганической материи. С другой стороны, мы встречаем в современной психологии утверждение, «что нет таких объектов запоминания, которым не соответствовали бы также и отдельные функции памяти»[47], – утверждение, находящее свою поддержку в психологии, исходящей из практических задач, и выразившееся даже в создании соответствующих методик для изучения этих различных «памятей»[48]. Не показывает ли это с полной очевидностью, что понятие памяти еще не нашло в психологии своего последнего определения, что память как свойство всякой материи еще нередко смешивается с памятью как психологической функцией, с актами меморизации, которые, как всякое поведение человека, являются прежде всего некоторым сложным структурным процессом. Мы должны, конечно, изучать то, что называется ретенцией, как определенное, может быть, действительно всеобщее свойство, но это не будет еще изучением памяти, ибо акт памяти представляет собой прежде всего психологическую операцию, только имеющую в своей основе это свойство, которое, будучи взято само по себе, еще не составляет, разумеется, никакой операции. Такое смешение встречается, однако, гораздо чаще и идет гораздо глубже, чем это может представиться на первый взгляд. Именно ему мы обязаны теориями, идентифицирующими память в психологическом смысле этого слова, с воспитанием простейших условно-рефлекторных связей, образующих двигательные привычки.
«Подобные теории, – говорит McDougall, – так хорошо комбинируются между собой, создавая сложную теорию, по которой память и привычка суть идентичные функции, что эта сложная теория с небольшими изменениями широко принимается часто совершенно без критики и без всяких попыток продумать ее трудности (difficulties). Только независимые и оригинальные умы оспаривают эту теорию, так хорошо объединяющую множество фактов, на которых она основывается»[49]. Мы еще вернемся к этому специальному вопросу о памяти и привычке в нашем дальнейшем изложении; сейчас мы хотим только подчеркнуть, с одной стороны, распространенность этого воззрения, с другой – ту постановку вопроса, которая в нем содержится. Лучше всего эта постановка вопроса выражена Т. Рибо. «Память, – говорит это автор, – заключается в различных степенях процесса организации, заключенных между двумя крайними пределами: новым состоянием организма и органическим запечатлением (органическим прочным усвоением прежних состояний)»[50]. Именно от этой постановки вопроса мы отталкиваемся, формулируя принципиальный вопрос нашего исследования; изучение памяти должно быть направлено не на вопрос «о различных степенях процесса организации», а на вопрос о способах, о формах этой организации; тем самым взамен количественной точки зрения на процесс развития, которая заключается в положении Рибо, выдвигается диалектическое понимание развития.
«Эта форма умственной деятельности, – говорит дальше этот автор, – наиболее ясно свидетельствует в пользу теории постепенного развития. Только смотря с такой точки зрения, мы можем понять природу памяти…». Методологическое положение, которое отсюда вытекает, сводится к двоякому требованию: с одной стороны, физиологического, с другой стороны, морфологического изучения памяти. В то время как первое требование, предполагающее сведение высших форм памяти к ее элементарным формам, непосредственно приводит к представлению о памяти, как о единой «простой» функции, а вместе с тем толкает к созданию той «мозговой мифологии», которая нередко содержится в построениях классической физиологической психологии, второе требование ведет в своем крайнем выражении к чисто описательному изучению явлений памяти, порождающему в свою очередь представление об ее «отдельных функциях».
«То, что мы обыкновенно называем собирательным именем памяти, представляет собой ряд состояний, обладающих всеми степенями организаций, от состояния зарождающегося до состояния совершенного. Происходит постоянный переход от неустойчивого к прочному, от состояния сознательного, представляющего шаткое приобретение, к состоянию органическому, которое является приобретением укрепившимся»[51]. Непрочное, неустойчивое воспоминание, уверенное знание чего-нибудь, память ремесла у опытного работника или память танцевальных приемов у балерины, наконец безусловные рефлексы – таковы примеры тех различных «степеней организации», которые приводит Рибо. Как мы видим, вопрос стоит таким образом, что проблема своеобразия соответствующих форм памяти в сущности почти совершенно исчезает: много раз повторенное сознательное воспоминание создает автоматические привычки, которые в свою очередь способны при известных условиях превратиться в наследуемые механизмы, т. е. способны биологически запечатлеться. Однако в действительности между этими формами существует огромное принципиальное различие, и если можно считать доказанным превращение актов, совершаемых по сознательному воспоминанию, в акты автоматические, то это еще ни в какой мере не указывает на их общие механизмы. Животное может быть выдрессировано на чрезвычайно сложные действия, которые у него будут совершенно автоматическими; соответствующая интеллектуальная операция человека, обладая совершенно другим механизмом, может привести его к тому же действию, которое, будучи много раз повторено, также может сделаться автоматическим; можно ли, однако, говорить на этом основании об общих механизмах этих действий? Автоматизация движения по мере его повторения, повторение как способ запечатления есть особое явление, которое еще не представляет собой явление памяти человека в психологическом смысле этого слова, как не представляют собой интеллектуальных операций те «арифметические» действия, которые производят цирковые животные.
Память человека является чрезвычайно сложной функцией, обусловленной не только его биологическим, но и историческим развитием, которое вызывает к жизни совершенно новые, специфически человеческие формы поведения. Существует громадное различие между теми способами включения в поведение предшествующего опыта, который присущ, с одной стороны, простейшим животным и который, с другой стороны, мы встречаем у животных с достаточно развитой нервной системой: если в первом случае является необходимым действие соответствующих факторов в течение целого ряда поколений, во втором случае для этого необходимо лишь многократное повторение одной и той же связи раздражителей. Еще большее различие мы можем констатировать между памятью животных и памятью человека. Для человека иногда достаточно всего единократного и мгновенного действия того или другого раздражителя, той или другой ситуации, чтобы эта ситуация запечатлелась и определила собой будущее поведение. Это обстоятельство ставит перед исследованием новую двойную проблему: проблему изучения механизмов этой формы запечатления и проблему изучения способов того отбора в запечатлении, и в этом смысле той активности, которая при этих условиях несомненно представляет собой весьма сложную деятельность.
В поведении человека мы можем, разумеется, открыть все эти различные формы усвоения опыта, все эти различные формы памяти. Однако, исследуя у человека только образование условных рефлексов, нам никогда не удастся изучить его память, ибо специфической для человека формой памяти является не эта механическая память, а ее высшие, возникшие в историческом развитии человечества, формы. Через исследование упражнения в стрельбе из лука, в писании на машинке или в механическом заучивании бессмысленного материала мы меньше всего можем приблизиться к пониманию этих высших форм памяти, хотя именно этот путь настойчиво диктуется современными «максималистами» в объективной психологии, определяющими память как «общее понятие для выражения того факта, что после периода неупражнения в некоторых навыках функция их не утрачивается, но сохраняется как часть организации индивидуума»[52]. Это определение в сущности только повторяет старые воззрения Рибо и других представителей эмпирической психологии и отличается от них лишь большей решительностью и безоговорочностью своих формулировок. С точки зрения автора, оно «вполне соответствует таким наружным навыкам или функциям, как отесывание или рубка деревьев, игра в теннис или плавание; таким сочетаниям наружной и внутренней деятельности, как прием телеграмм, печатание на машинке, заучивание правил, повторение вслух заученных в детстве стихов; таким чисто внутренним навыкам, как («мысленный») счет про себя или повторение ряда бессмысленных слов, заученных про себя 24 часа назад; или таким действиям, как называние предметов, лиц, мест или дат после долгого перерыва»[53]. Однако то, что понимается под таким определением памяти, хотя и может, конечно, соответствовать перечисленным действиям, но лишь в совершенно искусственных условиях лаборатории; конечно, можно добиться в эксперименте от испытуемого, чтобы, например, его запоминание бессмысленного материала представляло бы собой такой же процесс, как совершенствование в рубке деревьев или в игре в теннис, чтобы оно было «schrecklich sinnlos», но это – путь скорее к созданию «психологии» лабораторного испытуемого, чем к созданию психологии современного человека, живущего в реальных жизненных условиях.
В процессе общего развития поведения память коренным образом изменяет формы своего функционирования. Подобно развитию других психологических функций развитие памяти человека не сводится только к количественным изменениям, не ограничивается только развитием ее как естественно-биологического свойства. Под влиянием исторического характера своего развития, под влиянием своего социально-культурного опыта человек приобретает ряд новых и высших форм поведения, в том числе и новые формы памяти, которые не являются простым усложнением ее первичных форм, но которые имеют свои собственные глубоко своеобразные законы и механизмы; обнаруживая себя, эти новые формы памяти не повторяют собой, а скорее отрицают те элементарные формы, которые составляют их биологическую основу.
Задача, которую мы ставим перед нашим исследованием, и заключается в том, чтобы, прослеживая развитие памяти у ребенка и взрослого человека, приблизиться к пониманию своеобразия механизмов и общих законов развития и деятельности ее высших, специфически человеческих форм. Вместе с тем эта задача является и задачей гораздо более общего значения: анализируя развитие и природу человеческой памяти и ее отношение к некоторым другим психологическим функциям, мы тем самым делаем известные шаги к научному пониманию всей системы высшего, социально и культурно обусловленного поведения человека в целом.