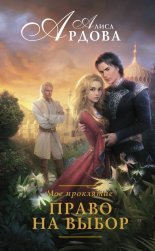Плексус Миллер Генри

– Зато здесь тепло и уютно, не правда ли? – пожал плечами я.
– Слушай, – вновь заговорил О’Мара с самым серьезным видом, – если б здесь можно было застрять на год или два, я бы сказал: слава тебе господи. Уж мне ль не понимать, что мы тут как сыр в масле катаемся! Да у меня много лет не было такого расслабона! Но самое занятное – мне тут все время кажется, что я от кого-то прячусь. Будто совершил преступление и не помню какое. Ничуть не удивлюсь, если в один прекрасный день сюда нагрянет полиция.
И тут мы все трое, не сговариваясь, прыснули. Полиция! Ей-ей, смешнее ничего не придумаешь.
– Делил я как-то комнату с одним парнем, – затянул О’Мара очередную из своих бесконечных историй, – и он был совсем чокнутый. Я узнал это, только когда по его душу заявились из сумасшедшего дома. Богом клянусь, на вид – нормальнейший из людей: говорит нормально, делает все нормально. Пожалуй, только это и обращало на себя внимание: слишком уж он был нормальный. Я тогда без гроша сидел и в таком раздрае, что даже на поиски работы сил не было. А он работал водителем – в трамвайном парке на Рейд-авеню. В пересменок приходил домой, отсыпался. Бывало, принесет с собой кулек с пирожками и, только разденется, поставит на плиту кофейник. Говорил мало. По большей части сядет у окна и знай шлифует себе ногти. Иногда примет душ, разотрется как следует. В хорошем настроении предложит сыграть в пинокль. Мы играли по мелочи, и он не мешал мне выигрывать, хотя порой и замечал, что я жульничаю. Я никогда не расспрашивал, кто он, что он, а сам он не рассказывал. С каждым днем жизнь будто заново начиналась: было холодно, он говорил о том, как холодно; тепло было – о том, как тепло. Никогда ни на что не жаловался, даже когда ему зарплату урезали. Тут бы мне и насторожиться, да я как-то не обратил внимания. Он был такой добрый, участливый, тактичный, непритязательный; пожалуй, худшее, что я мог о нем сказать, – занудноват был. Ну а мог ли я на него дуться, раз он так хорошо со мной обходился? Ни разу не сказал: пора тебе, дескать, оторвать зад от койки и начать шевелить руками и мозгами. Нет, все, что ему хотелось знать, – это хорошо ли мне, а если нет, то почему. Я понял: он во мне нуждается – наверное, жить один не может; но и тут ничего не заподозрил. В конце концов, куча людей не переносит одиночества. Как бы то ни было – не знаю уж, зачем я вам все это рассказываю, – как бы то ни было, однажды, как я уже говорил, раздается стук в дверь, и снаружи оказывается человек из сумасшедшего дома. Тоже, замечу, на вид вполне здравомыслящий. Вошел этак спокойненько, поглядел по сторонам, сел и начал говорить с моим соседом. Легко так, непринужденно, без нажима: «Ну что, Икинс, будем собираться?» Икинс, так этого парня звали, отвечает: «Ну конечно», тоже легко, непринужденно, без нажима. А пару минут спустя выходит из комнаты, сказав, что ему надо зайти в ванную да вещи собрать. Служащий, или кто там он был, ничего такого не заподозрил и позволил ему выйти. А потом принялся со мной разговаривать. (Собственно, только сейчас он со мной и заговорил.) До меня не сразу дошло, что он и меня за чокнутого держит. Смекнул, лишь когда он стал задавать мне этакие странные, непривычные вопросы: «Вам здесь нравится? А кормит он вас хорошо? Вы уверены, что вам тут удобно?» И так далее в том же роде. Я настолько не уловил подвоха, что вполне вошел в роль, которую будто для меня и придумали. А Икинс – тот уже проторчал в ванной добрых четверть часа. Я уж начал ерзать на месте, думая о том, как буду доказывать, что никакой я не псих, приди служащему охота в придачу и меня с собой прихватить. Вдруг дверь в ванную мягко отворяется. Поднимаю глаза и вижу: стоит там Икинс в чем мать родила, с наголо выбритым черепом, а на шею повесил шланг от душа. И ухмыляется – так, как я никогда прежде не видывал. Ну, я враз и похолодел.
– Готов, сэр, – рапортует он по-военному.
– Икинс, – говорит служащий, – что это тебе вздумалось так разодеться?
– Но я не одет, – мягко возражает Икинс.
– Вот это я и хотел сказать, – невозмутимо отвечает служащий. – Так что поди оденься. Будь паинькой.
Икинс не шевельнулся, ни один мускул не дрогнул.
– Какой костюм вы хотите, чтоб я надел? – спрашивает.
– Тот, что у тебя с собой был, – отвечает служащий, начиная ерепениться.
– Но он весь рваный, – жалобно говорит Икинс и опять ступает вглубь ванной. А через секунду возникает, держа в руках костюм. Весь исполосованный.
– Ничего страшного, – отвечает служащий, делая вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит, – я уверен, твой друг одолжит тебе костюм.
И оборачивается ко мне. Я объясняю, что мой единственный костюм – тот, что на мне.
– Подойдет, – талдычит служащий.
– Что?! – кричу я дурным голосом. – А я – что я буду носить?
– Фиговый листок, – отвечает тот, – и смотри, чтоб он на тебе не скукожился!
В этот момент по оконному переплету кто-то постучал.
– Держу пари, полиция! – закричал О’Мара.
Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном стоял Осецки, глуповато ухмыляясь и нелепо шевеля кончиками пальцев.
– Это Осецки, – сказал я, направляясь к двери. – Судя по всему, под градусом. А где же ваши друзья-приятели? – осведомился я, пожимая ему руку.
– Разбежались, – грустно констатировал он. – Полагаю, не выдержали нашествия блох… К вам можно? – Он остановился в холле, как бы не испытывая особой уверенности в том, что его примут с распростертыми объятиями.
– Входи! – закричал О’Мара изнутри.
– Я вам помешал? – Он смотрел на Мону, не догадываясь, кем она мне приходится.
– Это моя жена Мона. Мона, это наш новый друг Осецки. У него сейчас кое-какие проблемы. Не возражаешь, если он у нас немного побудет?
Мона тут же протянула ему бокал бенедиктина и ломтик кекса.
– Что это такое? – спросил он, принюхиваясь к густой жидкости. – Откуда это у вас? – Он переводил взгляд с одного на другого, словно присутствующие таили от него какой-то страшный секрет.
– Как вы себя чувствуете? – спросил я.
– В данный момент хорошо, – ответил он. – Возможно, даже слишком. Чувствуете? – Он дыхнул мне в лицо, ухмыляясь еще шире и окончательно уподобляясь рододендрону в цвету.
– А как блохи поживают? – осведомился О’Мара светским тоном.
Мона сначала хихикнула, затем громко рассмеялась.
– Дело в том, что… – начал объяснять я.
– Можете ничего не скрывать, – успокоил меня Осецки. – Это уже не секрет. Скоро доберемся до сути. – Он поднялся. – Извините, не могу это пить. Слишком пахнет терпентином. А кофе у вас не найдется?
– Разумеется, – ответила Мона. – Может быть, сделать вам сэндвич?
– Нет, только чашку черного кофе… – Краснея, он опустил голову. – Я, знаете ли, только что хлебнул с друзьями. Боюсь, я им поднадоел. И я их не виню. Им в последние месяцы порядком досталось. Знаете, временами мне кажется, что я и впрямь сошел с катушек. – Он помолчал, изучая, какое впечатление произведет на нас его признание.
– Ну, не расстраивайтесь, – сказал я, – все мы немножко того. Вот О’Мара только что рассказывал нам про психа, с которым вместе жил. Сходите с катушек сколько вашей душе угодно, только мебель не ломайте.
– Да вы бы и сами свихнулись, – вновь заговорил Осецки, – если б эти твари всю ночь напролет сосали у вас кровь. И весь день тоже. – Он приподнял брючину – продемонстрировать оставленные тварями кровавые следы. Икры Осецки были сплошь испещрены царапинами и ссадинами. Мне вдруг стало чертовски жаль его. Зря я в тот раз поднял его на смех.
– Может, вам переехать в другую квартиру?.. – предложил я неуверенно.
– Не поможет, – буркнул он, обреченно глядя на пол. – Они от меня не отстанут, пока я не уволюсь – или не поймаю их с поличным.
– По-моему, ты собирался как-нибудь прийти к нам на обед вместе со своей девушкой, – напомнил О’Мара.
– Да, конечно, – подтвердил Осецки. – Просто в данный момент она занята.
– Занята чем? – не отставал О’Мара.
– Не знаю. Я приучил себя не задавать лишних вопросов. – Он еще раз во весь рот ухмыльнулся. Мне показалось, его зубы чуть зашатались. Во рту у него блеснуло несколько металлических обручей.
– Я к вам заскочил, – продолжал он, – увидев у вас свет. Знаете, мне что-то не хочется идти домой. – Очередная ухмылка. Читай: блохи, мол, так и этак. – Не возражаете, если я еще чуть-чуть посижу? У вас такой хороший дом. Светлый.
– А как же иначе? – съязвил О’Мара. – У нас тут все бархатом обито.
– Увы, не могу сказать того же о своем, – грустно вымолвил Осецкий. – Весь день чертить, а по ночам крутить пластинки – не слишком-то это весело.
– Ну, девушка-то у тебя есть? – не унимался О’Мара. – С ней и повеселиться можно. – И фыркнул.
Хорьковые глазки Осецки еще больше сузились. Он остро, почти враждебно вглядывался в О’Мару.
– Ты к чему клонишь? – спросил он неприязненно.
О’Мара добродушно улыбнулся и покачал головой. Не успел он открыть рот, как Осецки снова заговорил.
– С ней одна мука, – выдавил он из себя.
– Прошу вас, – вмешалась Мона, – нет никакой необходимости все нам рассказывать. Мне кажется, вам и так задали слишком много вопросов.
– Да я не против, пусть допрашивает. Просто интересно, что он прознал про мою девушку.
– Не знаю я ничего ровным счетом, – ответил О’Мара. – Просто ляпнул по глупости. Выкинь из головы!
– Не хочу я ничего выкидывать, – запротестовал Осецки. – По мне, лучше уж расстаться с этим грузом, чем в себе носить. – И умолк, опустив голову, не забывая, впрочем, уминать сэндвич. А спустя несколько секунд прикончил его, поднял голову, улыбнулся улыбкой херувима, встал и потянулся за пальто и шляпой. – В другой раз расскажу, – сказал он. – Уже поздно. – У самой двери, прощаясь, он еще раз ухмыльнулся и заметил: – Кстати, если окажетесь на мели, дайте мне знать. Немного всегда готов вам одолжить, если понадобится.
– Хочешь, домой тебя провожу? – вызвался О’Мара, не находя лучшего способа выразить признательность за эту нежданную доброту.
– Спасибо, сейчас мне лучше побыть одному. Никогда не знаешь…
И Осецки затрусил по улице.
– Да, так чем кончилось с этим малым Икинсом, о котором ты нам рассказывал? – спросил я, когда за Осецки закрылась дверь.
– В другой раз расскажу, – пробурчал О’Мара, одаряя нас одной из неповторимых ухмылок Осецки.
– Нет в этой истории ни слова правды, – констатировала Мона, направляясь в ванную.
– Ты права, сестрица, – сказал О’Мара. – Я все выдумал.
– Брось, – не отставал я, – мне-то ты можешь рассказать.
– Ну ладно, – согласился он, – хочешь знать правду, потом не жалуйся. Итак, не было никакого Икинса – был мой брат. Он тогда скрывался от полиции. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы вместе удрали из сиротского приюта? Так вот, с тех пор прошло десять лет – а может, и больше, – прежде чем мы встретились. Он двинул в Техас, где нанялся ковбоем на ранчо. Эх, хороший был парень. А потом с кем-то крепко повздорил – должно быть, пьян был – и по нечаянности пристукнул. – Он сделал глоток бенедиктина, затем продолжал: – В общем, все было как я рассказывал, только никакой он был не чокнутый. И явился за ним не служащий из сумасшедшего дома, а мужик из полиции. Ну, тут я наделал в штаны, доложу тебе. В общем, разделся я, как он велел, и отдал все свое тряпье брату. Тот был и шире меня, и ростом выше; словом, я знал, что ему ни в жизнь не влезть в этот костюм. Ну, сказано – сделано, пошел он в ванную одеваться. Я надеялся, что ему хватит ума вылезти через окно ванной наружу. Мне невдомек было, с чего это тот офицер не надел на него наручники; ну, подумал, у них в Техасе на этот счет свои правила. И тут меня осенило: вот выскочу сейчас в чем мать родила на улицу и завоплю благим матом: «Режут! Режут!» Добрался я только до лестницы: о ковер споткнулся. И вот уже оседлал меня этот детина, пасть рукой зажал и обратно в комнату тащит.
– Ну и прыть у вас, а, мистер? – спрашивает. И этак легонько врезает мне кулаком по челюсти. – А брат ваш, если и вылезет из окна, далеко не уйдет. У меня снаружи люди стоят, его дожидаются.
И в этот момент выходит мой брат из ванной, легко и непринужденно, как всегда. А вид у него в этом костюме – что у клоуна в цирке, да еще голова обрита.
– Брось, Тед, – говорит, – они меня заарканили.
– А что с моим тряпьем будет? – хнычу я.
– Отошлю тебе почтой, как на место прибудем, – отвечает. Опускает руку в карман и достает несколько мятых бумажек. – Вот, поможет тебе продержаться, – говорит. – Что ж, рад был с тобой повидаться. Ну, бывай здоров.
И его увели.
– И что было дальше?
– Дали ему пожизненное.
– Что ты говоришь!
– Правда-правда. И за это тоже можешь сказать спасибо сукину сыну нашему отчиму. Не отправь он нас тогда в сиротский приют, ничего бы этого не случилось.
– Господи боже мой, нельзя же все на свете валить на этот злосчастный приют.
– Еще как можно! Все, все плохое, что со мной приключилось, берет начало оттуда.
– Но, черт тебя возьми, не так уж плохо у тебя все сложилось. Посмотри вокруг: сплошь и рядом людям приходилось и потяжелее. И все-таки они выныривали. Так что кончай валить на отчима все свои грехи и неудачи. Окочурится он, что тогда будешь делать?
– И когда окочурится, клясть не перестану. Он так передо мной виноват, что я его и на том свете достану.
– Ладно, а как насчет твоей матери? Ведь и она приложила к этому руку, разве нет? А на нее ты зла не держишь.
– Она у меня полоумная, – сказал О’Мара горько. – Нет, ее мне просто жаль. Ей сказали – она сделала. Нет, к ней у меня нет ненависти. Простодушная дуреха, вот она кто. Слушай, Генри, – продолжал он, резко меняя тактику, – тебе этого не понять. Ты в сорочке родился. По тебе жизнь не прошлась колесом. Ты везучий. И у тебя способности. А кто я? Изгой. Отвергнутый всем миром. Из меня, может, тоже получился бы писатель, сложись жизнь иначе. А так я даже пишу с ошибками.
– Зато считать наверняка умеешь.
– Нет уж, не пытайся меня успокоить. Конченый я человек. Все от меня стонут. Ты единственный, к кому я всегда хорошо относился, ты хоть понимаешь это?
– Оставь, – сказал я, – ты становишься сентиментальным. Лучше выпей еще!
– Я ложусь, – объявил он. – Займусь снолечением.
– Снолечением?
– Ну да, разве ты никогда этого не делал – не лечился сном? Закрываешь глаза и представляешь себе все таким, каким хотел бы увидеть. Потом засыпаешь, и тебе снится, что все так и есть. Утром чувствуешь себя не так погано… тыщу раз такое проделывал. Научился в сиротском приюте.
– Сиротском приюте! Забудешь ты о нем когда-нибудь? С ним покончено… это было сто лет назад. Неужели не можешь уразуметь этого своей башкой?
– Ты хочешь сказать, никогда не прекращалось.
Мы замолчали. Потом О’Мара спокойно разделся и юркнул под одеяло. Я выключил верхний свет и зажег свечу. Стоя у стола и раздумывая над тем, что произошло между нами, я услышал тихое:
– Послушай…
– В чем дело? – Одно мгновение я думал, что он сейчас разрыдается.
– Ты и половины всего не знаешь, Генри. Самым ужасным было ждать, когда мать придет навестить меня. Проходили недели, месяцы, годы. А она не появлялась. В кои веки придет письмо или посылочка. Всегда одни обещания. Приедет, мол, на Рождество, День благодарения или еще какой праздник. Но так ни разу не приехала. Не забывай, мне ведь было всего три года, когда я туда попал. Мне нужна была материнская нежность. Монахини были добры, ничего не могу сказать. Некоторые так очень. Но одно дело – целовать монахинь, а другое – собственную мать. Я все время ломал голову, придумывая, как бы сбежать. Только об одном мечтал: оказаться дома и обнять мамочку. Знаешь, она у меня была хорошей, только слабовольной. Как все ирландцы, как я. Ничего ее не волновало. Как нажито, так и прожито. Но я ее любил. И чем дальше, тем любил все больше. Когда я сбежал, я был как дикий жеребенок. Инстинкт влек меня домой, но я тогда подумал: а если они отошлют меня обратно в приют? И почесал не останавливаясь, покуда не добрался до Виргинии, где познакомился с доктором Маккини… есть такой орнитолог.
– Знаешь, Тед, – сказал я, – лучше займись снолечением. Извини, если кажусь не слишком чутким. Я, наверно, чувствовал бы то же самое, окажись на твоем месте. Черт возьми, завтра будет новый день. Думай о том, в какую передрягу попал Осецки!
– Это я и делаю. Он тоже сирота, одинокий. А еще хочет одолжить нам денег! Господи, как ему должно быть погано!
Я лег спать с твердым намерением выбить из О’Мары все мысли о чертовом сиротском приюте. Однако всю ночь я гонял как сумасшедший на своем старом велосипеде или играл на рояле. Вообще-то, иногда я слезал с велосипеда и играл какую-нибудь пьеску прямо посреди улицы. Во сне совсем не трудно ехать на велосипеде, имея при себе рояль, – это только наяву подобные вещи затруднительны. Самые восхитительные ощущения я испытывал в Бедфорд-Рест, куда переносился во сне. Это было место на полпути от Проспект-парка до Кони-Айленда по знаменитой дорожке для велосипедистов, где все, ехавшие в Кони-Айленд и обратно, останавливались на короткий отдых. Здесь, на площадке, окруженной деревьями и шпалерами вьющихся растений, мы и располагались: демонстрировали свои велосипеды, хвастались мускулатурой, растирали друг друга. Велосипеды стояли, прислоненные к деревьям и ограде, – красавцы, сверкающие хромом, лоснящиеся от смазки. Папа Браун, как мы звали его, был за арбитра. Чуть ли не вдвое старше, он не уступал лучшим из нас. Всегда в толстом черном свитере и вязаной шапочке. Лицо худое, в резких морщинах и такое обветренное и загорелое, что казалось черным. Про себя я называл его «Черным всадником». Он работал механиком, и велогонки были его страстью. Все мы любили этого простого, не особо речистого человека. Это он подал мне мысль пойти в милицию, чтобы иметь возможность гонять в их учебном манеже. По субботам и воскресеньям я неизменно встречал Папу на велосипедной дорожке. В гонках он был мне как отец родной.
Думаю, самым восхитительным в тех сборищах на площадке была страсть к велосипедам, объединявшая нас. Я не помню, чтобы мы с теми ребятами говорили о чем-то, кроме велосипедов. Мы могли есть, пить и спать в седле. Много раз в неподходящее время дня или ночи я встречал одинокого велосипедиста, которому, как мне, удавалось улучить часок-другой, чтобы пролететь по гладкой, посыпанной песком дорожке. Иногда мы обгоняли какого-нибудь всадника. (У конных была своя отдельная дорожка, параллельная нашей.) Эти видения из иного мира не существовали для нас, как и придурки на автомобилях. Что до мотоциклистов, то их мы считали просто non compos mentis[51].
Как я говорил, я вновь переживал все это во сне. С самого начала и вплоть до тех не менее восхитительных моментов в конце катания, когда, как заправский гонщик, переворачивал велик вверх колесами, обтирал его, смазывал. Каждая спица должна была сверкать чистотой; на цепь нужно было положить смазку, закапать масло во втулки. Если колеса выписывали восьмерку, их следовало выровнять. Тогда машина была в любой момент готова к поездке. Возился с велосипедом я всегда во дворе, прямо под нашим окном. При этом приходилось стелить газеты, чтобы успокоить мать, которая ругалась, обнаружив масляные пятна на каменных плитах.
Во сне я изящно и легко качу рядом с Папой Брауном. У нас была привычка милю или две ехать медленно, чтобы можно было поболтать и сберечь дыхание для последующего бешеного рывка. Папа рассказывает о работе, на которую хочет меня устроить. Я стану механиком. Он обещает научить меня всему, что нужно. Я радуюсь, потому что единственный инструмент, которым пока умею пользоваться, – это велосипедный ключ. Папа говорит, что в последнее время присматривался ко мне и решил, что я смышленый парень. Его беспокоит, что я постоянно болтаюсь без дела. Я пытаюсь объяснить: это хорошо, что я не работаю, можно чаще кататься на велосипеде, но он отвергает мой довод как несостоятельный. Он полон решимости сделать из меня первоклассного механика. Это лучше, чем работать в бойлерной, убеждает он. Я не имею ни малейшего понятия, что делают в бойлерной. «Ты должен быть в форме к гонкам в следующем месяце, – предупреждает он. – Пей больше жидкости – сколько влезет». Я узнаю, что в последнее время его беспокоит сердце. Доктор считает, что следует на время оставить велосипед. «Я скорей умру, чем послушаюсь его», – говорит Папа Браун. Мы болтаем о всяких пустяках, о каких только и можно болтать во время велосипедной прогулки. Неугомонный ветерок; начало листопада. Под колесами шуршит бурая, золотая, багряная листва. Мы уже хорошо разогрелись, размялись. Неожиданно Папа резко жмет на педали и пристраивается в хвост велосипедисту, мчащемуся мимо нас на бешеной скорости. Обернувшись на ходу, кричит мне: «Это Джо Фолджер!» Я пускаюсь вдогонку. Джо Фолджер! Он же из тех, кто участвует в шестидневных гонках. Интересно, думаю, какую он сейчас задаст скорость? К моему удивлению, Папа скоро вырывается вперед, увлекая за собой меня, и Джо Фолджер пристраивается за мной. Сердце неистово бьется. Три великих гонщика: Генри Вэл Миллер, Папа Браун и Джо Фолджер. Где Эдди Рут и Фрэнк Крамер? Где Оскар Эгг, доблестный швейцарский чемпион? Подайте-ка их сюда! Пригнувшись к рулю, не чувствуя ног, несусь я – только сердце грохочет в ушах. Ноги и руки, в сложном взаимодействии, работают четко и слаженно, как часовой механизм.
Внезапно мы вылетаем к океану. Страшная жара. Мы дышим часто, как собаки, но в то же время свежи, как маргаритки. Великие ветераны гонок. Я слезаю с велосипеда, и Папа знакомит меня с великим Джо Фолджером. «Лихой паренек, – говорит Джо Фолджер, оглядывая меня. – Готовится к большой гонке?» Неожиданно он наклоняется, ощупывает мои бедра и икры, мнет предплечья и бицепсы. «Подъемы ему нипочем будут – прекрасные данные». Я до того взволнован, что краснею, как школьник. Теперь бы встретить как-нибудь утром Фрэнка Крамера; то-то удивлю его.
Мы неторопливо идем; каждый ведет свой велосипед одной рукой. Как ровно он катится, послушный уверенной руке! Потом усаживаемся выпить пива. Я неожиданно начинаю играть на рояле, просто чтобы доставить удовольствие Джо Фолджеру. Оказывается, Джо Фолджер сентиментален; я ломаю голову, что бы такое сыграть, что ему наверняка понравится. В то время как мои пальцы нежно касаются клавиш, мы переносимс, как бывает только во сне, на стадион где-то в Нью-Джерси. Тут же расположился на зиму цирк. Не успеваем мы опомниться, как Джо Фолджер принимается крутить на велосипеде мертвую петлю. Зрелище не для слабонервных, особенно когда сидишь так близко к вертикальному треку. Тут же расхаживают клоуны, одетые и раскрашенные, как им полагается; одни играют на губных гармошках, другие прыгают через скакалку или отрабатывают падение.
Вскоре вся труппа собирается вокруг нас, наши велосипеды отставляют в сторону и принимаются проделывать фокусы а-ля Джо Джексон. Разыгрывая, конечно, при этом пантомиму. Я чуть не плачу, потому что мне никогда не собрать велосипед – на такое множество частей они разделили его. «Не тужи, малыш, – говорит великий Джо Фолджер, – я отдам тебе свой. На нем ты выиграешь все гонки!»
Каким образом там оказался Хайми, этого я не помню, но он вдруг вырастает передо мной, и вид у него ужасно подавленный. Он хочет сообщить, что у нас забастовка. Я должен вернуться в контору. Курьеры собираются завладеть всеми нью-йоркскими такси, чтобы на них доставлять телеграммы. Я прошу Папу Брауна и Джо Фолджера извинить меня за то, что так бесцеремонно покидаю их, и прыгаю в поджидающую машину. Пока мы едем в Голландском туннеле, я засыпаю, а когда открываю глаза, вновь вижу себя на велосипедной дорожке. Сбоку от меня Хайми – крутит педали крохотного велосипедика. Он похож на толстячка с рекламы покрышек «Мишлен». Сжавшись в седле, он едва поспевает за мной. Мне ничего не стоит схватить его за шкирку и поднять вместе с велосипедом и так ехать, держа его на вытянутой руке. Теперь его колеса крутятся в воздухе. Он ужасно доволен. Хочет гамбургер и молочный коктейль с солодом. Легко сказать. Проезжая мимо деревянного помоста на пляже, хватаю гамбургер и коктейль, другой рукой кидаю монетку продавцу. Мы едем по пляжу – гонка с препятствиями, – выскакиваем на деревянный настил и словно взмываем в синеву. У Хайми вид малость ошарашенный, но не испуганный. Только ошарашенный.
– Не забудь утром отослать путевые листы, – напоминаю я.
– Осторожней, мистер М., – умоляет он, – в прошлый раз мы чуть не въехали в океан.
И тут на кого, вы думаете, мы натыкаемся? На моего старого приятеля Стасю, пьяного в дым. Приехал на побывку. Ноги колесом, как положено кавалеристу.
– Это что за огрызок с тобой? – угрюмо интересуется он.
Как это похоже на Стасю – с ходу начинать браниться. Вечно его приходится сперва успокаивать, а уж потом разговаривать.
– Вечером уезжаю в Чаттанугу, – говорит Стасю. – Надо возвращаться в казармы. – И машет на прощанье.
– Это ваш друг, мистер М.? – с невинным видом спрашивает Хайми.
– Он-то? Да это просто чокнутый поляк, – отвечаю.
– Не нравятся мне эти польские иммигранты, мистер М. Пугают они меня.
– Что ты хочешь сказать? Мы в Соединенных Штатах, не забывай!
– Так-то оно так, – говорит Хайми. – Да только поляк везде поляк. Нельзя им доверять. – И он начинает выбивать зубами дробь. – Пора мне домой, – добавляет он несчастным голосом, – жена будет беспокоиться. Вы не торопитесь?
– Так и быть. Тогда поедем на метро. Это будет немного быстрей.
– Только не для вас, мистер М.! – говорит Хайми с дрожащей ухмылкой.
– Хорошо сказано, малыш. Я чемпион, это верно. Посмотри на мой рывок…
И с этими словами я рванул как ракета, а Хайми остался стоять, воздев руки и вопя, чтобы я вернулся.
Потом, помню, я, не слезая с седла, руковожу потоком такси. На мне свитер в яркую полоску, в руке мегафон, и я управляю движением. Город словно исчез, растворился в тумане. Еду как сквозь облако. С верхнего этажа здания «Американ тел энд тел» президент с вице-президентом шлют послания; в воздухе парят хвосты телеграфных лент. Словно опять Линдберг[52] возвращается домой. Легкости, с которой я объезжаю такси, проскакиваю между ними, обгоняю, я обязан старому велику Джо Фолджера. Этот парень умел управляться с велосипедом. Тренировка? Это самая лучшая тренировка, какая только может быть. Сам Фрэнк Крамер не смог бы выдать такое.
Наилучшая часть сна – возвращение в Бедфорд-Рест. Все ребята снова там, кто на чем, велосипеды вычищены и сияют, седла подогнаны, а у самих важный вид – задирают носы, словно ловят, откуда ветер. Как хорошо опять оказаться с ними, трогать их мускулы, осматривать их велосипеды. Листва стала гуще, и нет той жары. Папа собирает их вокруг себя, обещает на сей раз погонять как следует…
Когда я появился вечером дома – это все тот же вечер, не важно, сколько времени прошло, – мать поджидала меня.
– Сегодня ты был хорошим мальчиком, – сказала она, – разрешаю взять велосипед с собой в кровать.
– Правда? – воскликнул я, не веря собственным ушам.
– Да, Генри, – ответила она, – Джо Фолджер был у нас и только что ушел. Он говорит, что следующим чемпионом мира будешь ты.
– Неужели так и сказал, мама? Нет, правда?
– Да, Генри, слово в слово. Он сказал, что нужно получше тебя кормить. А то ты худенький.
– Мамочка, я самый счастливый человек на свете. Дай я тебя расцелую.
– Не глупи, ты знаешь, что я не люблю этого.
– Ну и что, мамочка, все равно поцелую. – И я так крепко стиснул ее в объятиях, что чуть не задушил.
– Ты и в самом деле разрешаешь, мамочка? Взять с собой в кровать велосипед?
– Да, Генри. Но только не запачкай простыней!
– Не волнуйся, – завопил я, не помня себя от восторга. – Я проложу старые газеты. Хорошо я придумал?
Я проснулся и стал шарить вокруг себя в поисках велосипеда.
– Чего ты пытаешься найти? – закричала Мона. – Последние полчаса ты постоянно хватаешь меня.
– Я искал велосипед.
– Велосипед? Какой велосипед? Ты, должно быть, еще спишь.
– Спал, – улыбнулся я, – и видел восхитительный сон. Про свой велик.
Она прыснула со смеху.
– Знаю, что звучит глупо, но сон был потрясающий. Как мне было хорошо!
– Эй, Тед, – позвал я, – ты здесь?
Нет ответа. Я позвал снова.
– Ушел, наверно, – пробормотал я. – Который теперь час?
Была середина дня.
– Хотел сказать ему кое-что. Жаль, что он уже ушел. – Я перевернулся на спину и уставился в потолок. Перед глазами плыли обрывки сновидения. Я испытывал неземное блаженство. И голод. – Знаешь что, – проговорил я, еще не вполне проснувшись, – стоит, пожалуй, сходить к двоюродному братцу. Может, одолжит на время свой велосипед. Как думаешь?
– Думаю, что ты впадаешь в детство.
– Может быть, но мне очень хотелось бы снова покататься на том велике. Он принадлежал гонщику-профессионалу; он продал мне его на треке, помнишь?
– Ты мне уже несколько раз рассказывал об этом.
– И что с того, разве тебе не интересно? Ты, наверно, никогда не каталась на велосипеде, да?
– Никогда, зато каталась на лошади.
– Это ничего не значит. Жокеем быть – другое дело. А, черт, глупо, наверно, думать о том велосипеде. Столько лет прошло.
Я резко сел в постели и уставился на нее:
– Что с тобой сегодня? Что тебя гложет?
– Ничего, Вэл, ничего. – Она слабо улыбнулась.
– Это уже слишком, – не отставал я. – Ты на себя не похожа.
Она спрыгнула с кровати, сказала:
– Одевайся, а то скоро стемнеет. Я приготовлю завтрак.
– Отлично. Можно яичницу с беконом?
– Все что хочешь. Только поторопись!
Я повиновался, хотя не видел причин торопиться. Настроение у меня было отличное, и я был голоден как волк. В ожидании завтрака я раздумывал, что ее мучит. Может, наступают ее дни?
Очень жаль, что О’Мара удрал так рано. Хотелось бы рассказать ему кое-что пришедшее мне в голову, когда я просыпался. Ладно, думаю, что не забуду.
Я раздвигаю шторы, и солнце затопляет комнату. Мне кажется, что этим утром на улице особенно красиво. На другой стороне, у тротуара, стоит лимузин, ожидающий миледи, которая делает покупки. На заднем сиденье – две борзые, сидят спокойно и с достоинством. Цветочница вручает миледи огромный букет. Вот это жизнь! Однако мне нравится моя. Если б только у меня снова был тот велосипед, больше ничего не было б нужно. Сон не выходит у меня из головы. Чемпион! Что за странная идея!
Едва мы кончаем завтракать, Мона объявляет, что ей нужно побывать в одном месте. Уверяет, что к обеду вернется.
– Пожалуйста, – говорю, – иди, раз надо. Ничего не могу с собой поделать, но я чувствую себя до того чудесно, что не выразить словами. Что бы ни случилось сегодня, все равно мне будет хорошо.
– Прекрати! – говорит она умоляющим голосом.
– Прости, детка, но тебе тоже станет лучше, как только выйдешь на улицу. День прямо-таки весенний.
Спустя несколько минут она уходит. Я ощущаю такой прилив энергии, что не могу решить, за что взяться. Наконец решаю не делать ничего – просто нырну в подземку и поеду на Таймс-сквер.
По ошибке я вышел на Центральном вокзале. На Мэдисон-авеню мне приходит мысль заглянуть к моему старому приятелю Неду. Я не видел его целую вечность. (Он опять занялся рекламой и проталкиванием всяческого товара.) Зайду, поздороваюсь и тут же уйду.
– Генри! – вопит он. – Сам Бог тебя послал. Я горю! Раскручивается большое дело, а у нас все больны, сидят по домам. Вот это, – он помахал листом бумаги, – нужно кончить к вечеру, пропади оно пропадом. Вопрос жизни и смерти. Не смейся! Я говорю серьезно. Погоди, дай объяснить…
Я уселся и стал слушать. Если коротко, он пытался написать о новом журнале, который они проталкивали на рынок. Пока у него была только голая идея, и ничего больше.
– У тебя получится, уверен, – умолял он. – Напиши что угодно и сколько угодно, в пределах разумного. Мне ничего не приходит в голову, говорю тебе. За этим делом стоит старик Макфарланд – ты знаешь его, так ведь? Мечется у себя в кабинете, как тигр в клетке. Грозит всех поувольнять, если немедленно не сдвинем дело с мертвой точки.
Ничего не оставалось, как согласиться. Я взял его листок и сел за машинку. Вскоре я уже строчил как из пулемета. Должно быть, я написал три или четыре страницы, когда он на цыпочках подошел, чтобы проверить, как продвигается дело, и начал читать, заглядывая мне через плечо. Минуту спустя он уже аплодировал и кричал: «Браво! Браво!»
– Сойдет? – спросил я, оглядываясь на него.
– Сойдет? Да это просто грандиозно! Слушай, ты лучше того парня, который сидит на этом. Макфарланд с ума сойдет, когда прочитает… – Он замолчал, довольно потер руки и хрюкнул. – Знаешь что? У меня есть идея. Хочу представить тебя как нового сотрудника, которого я нанял. Скажу Макфарланду, что уговорил тебя взяться за эту работу…
– Но я не хочу работать!
– Тебе и не обязательно это делать. Конечно не обязательно. Я просто хочу его успокоить, только и всего. Кроме того, главное, что я хочу, – это чтобы ты поговорил с ним. Ты знаешь, кто он и все, что он сделал. Можешь ты малость польстить ему? Умасли его! А потом начни легкий треп – понимаешь, о чем я. Намекни, что знаешь, как сделать, чтобы журнал расхватывали, чем завлечь читателя и прочую подобную муру. Не стесняйся заливать. Он в таком состоянии, что проглотит что угодно.
– Но я ни черта не смыслю в журнальном деле, – запротестовал я. – Лучше ты сам говори. А я, если хочешь, сзади постою.
– Нет уж, говорить будешь ты. Неси что придет в голову. Поверь, когда он прочтет, что ты написал, он выслушает все, чего бы ты ни сказал. Я не зря сижу на этом деле. Сразу вижу, если что стоящее.
Делать было нечего, пришлось согласиться.
– Но не вини меня, если все запорю, – шепнул я, когда мы на цыпочках направились в святая святых.
– Мистер Макфарланд, – сказал Нед как мог учтивей, – тут мой старый друг, которого я недавно нанял. Он был в Северной Каролине, работал над книгой. Я упросил его приехать и помочь нам. Мистер Миллер, мистер Макфарланд.
Когда мы жали друг другу руку, я бессознательно отвесил почтительный поклон этому столпу журнального мира. Секунду-другую мы молчали. Макфарланд изучал меня. Должен сказать, он мне сразу понравился. Человек действия. Но чувствовалось, что есть в нем поэтическая жилка, это было видно по всему его поведению. «Этот уж точно свое дело знает», – подумал я про себя, удивляясь в то же время, как это он терпит вокруг себя всяческих недоумков и чокнутых.
Нед тут же объяснил, что я появился несколько минут назад и за это короткое время, почти ничего не зная о проекте, написал вот эти заметки, на которые он предлагает обратить внимание.
– Вы писатель? – спросил Макфарланд, глядя на меня и одновременно пытаясь читать протянутые ему листы.
– Вам лучше судить, – дипломатично ответил я.
Последовало несколько минут молчания, в течение которых Макфарланд внимательно читал мой опус. Я чувствовал себя как на иголках. Так просто такого, как Макфарланд, не проведешь. У меня мгновенно выветрилось из головы, что я там написал. Ни одной строчки не мог вспомнить.
Неожиданно Макфарланд поднял глаза, тепло улыбнулся и сказал, что мои заметки выглядят обещающе. Я почувствовал, что он удерживает себя от еще большей похвалы. Теперь он внушал мне почти что любовь. Обманывать такого человека – последнее дело. На него я работал бы с радостью – если бы вообще стал на кого-нибудь работать. Уголком глаза я заметил, что Нед одобрительно кивает.
На мгновение, собираясь со словами, представляю, что сказала бы Мона, стань она свидетелем этой сцены («И не забудь сказать О’Маре об отцах!» – шепчу я про себя).
Макфарланд заговорил. Он начал так спокойно и плавно, что я не сразу осознал это, а когда осознал, то опять убедился, что он не такой простак. Болтали, что он человек конченый, что его идеи устарели. В свои семьдесят пять он был куда как крепок. Человека такой закваски никогда не выбьешь из седла. Я внимал ему с сияющим лицом, время от времени согласно кивая. Этот человек был мне по душе. Начиненный грандиозными идеями. Игрок и сорвиголова… Я спрашивал себя: может, серьезно подумать о том, чтобы работать на него?
Старикан говорил и говорил, не думая останавливаться. Несмотря на все сигналы, подаваемые Недом, я не мог улучить момент и вклиниться в его речь. Макфарланд явно был рад нашему вторжению; его распирали идеи, он мерил шагами комнату да так и рвался в бой. С нашим появлением у него появилась возможность выплеснуть все, что в нем накопилось. Я был всецело за то, чтобы дать ему выговориться. Время от времени я энергично кивал или восклицал, удивленно или согласно. К тому же чем дольше он будет витийствовать, тем уверенней я буду, когда придет моя очередь говорить.
Макфарланд кружил по комнате, то и дело тыча рукой в развешенные по стенам схемы, графики и карты. В любом уголке мира он чувствовал себя как дома, он пересек земной шар не один раз, так что мог говорить со знанием дела. Насколько я понял, он хотел поразить меня глобальностью замысла: охватить народонаселение всей земли, богатых и бедных, невежественных и образованных. Журнал должен был выходить на нескольких языках, в разных форматах. Ему предстояло совершить революцию в журнальном деле.
Наконец Макфарланд выдохся и замолчал. Уселся за громадный письменный стол и налил себе воды из красивого серебряного кувшина.
Вместо того чтобы попытаться показать, какой я умный, я, после почтительной паузы, сказал, что всегда восхищался им и его идеями. Я говорил искренне и был совершенно уверен, что именно это и требовалось в тот момент. Я чувствовал, что Нед все больше нервничает. Он думал только о том, чтобы я толкнул речь, показал товар лицом. В конце концов он не утерпел:
– Мистер Миллер хотел бы поделиться мыслями относительно…
– Нет-нет! – воскликнул я, вскакивая. Нед озадаченно взглянул на меня. – Я хочу сказать, мистер Макфарланд, что было бы глупостью с моей стороны предлагать свои скороспелые соображения. Мне кажется, вы знаете предмет гораздо полнее и глубже.
Макфарланд был откровенно доволен. Вспомнив вдруг о том, с чем я явился, он глянул в листки, лежавшие перед ним, и изобразил сосредоточенность.
– Долго вы это писали? – спросил он, изучающе глядя на меня. – Раньше занимались чем-то подобным?
Я признался, что это первая моя попытка такого рода.
– Так я и думал, – проговорил он. – Может, поэтому мне понравилось то, что вы написали. Чувствуется свежий взгляд. И вы прекрасно владеете языком. Над чем сейчас работаете, позвольте узнать?
Своим вопросом он припер меня к стене. Ничего не оставалось, как быть искренним и честным, каким он был со мной.
– Видите ли, – забормотал я, – я только недавно начал писать. Пытаюсь пробовать себя в разных жанрах. Несколько лет назад написал книгу, но думаю, не слишком удачную.
– Это и к лучшему, – заметил Макфарланд. – Не люблю блестящие молодые дарования. Нужно пуд соли съесть, прежде чем сможешь что-то сказать. То есть прежде, чем у тебя будет что сказать людям. – Он в раздумье забарабанил пальцами по столу. Потом заключил: – Мне хотелось бы прочесть какой-нибудь из ваших рассказов. Они у вас из реальной жизни или вымышленные?