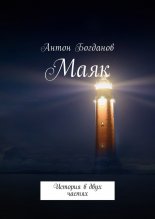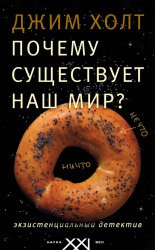Лихие гости Щукин Михаил
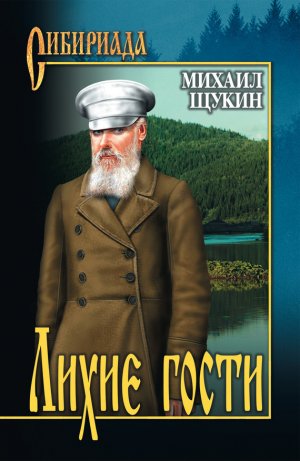
Часть первая
1
В Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а затем, после его упразднения, в департаменте полиции Министерства внутренних дел Российской империи, этого человека никто не называл по фамилии, должности или званию. И первое, и второе, и третье ведомо было лишь очень узкому кругу лиц, в том числе Императору. Для всех остальных он именовался просто и незатейливо – Александр Васильевич.
Низенького роста, лысоватый, с узенькими полосками седых бакенбард на впалых, морщинистых щеках, он был по-юношески подвижен и обладал звонким, сочным голосом, которым любил в минуты хорошего настроения или когда был очень сердит разговаривать сам с собою.
В его распоряжении имелся отдельный кабинет, довольно просторный, но скромный чрезвычайно: стол, покрытый зеленым сукном, три стула и старое деревянное кресло. Вдоль глухой стены громоздился огромный железный сейф, выкрашенный серой, казенной краской. Больше в кабинете ничего не имелось.
За окном тускло занималось сырое петербургское утро.
Александр Васильевич, зябко потирая руки, прибыл на службу и первым делом быстро просмотрел доставленную ему накануне почту. Один конверт сразу же отложил в сторону. Долго вглядывался в него, озабоченно сдвинув лохматые седые брови, затем решительно разорвал конверт цепкими пальцами и вынул из него наполовину согнутый лист бумаги, покрытый мелким, убористым почерком. Продолжая хмуриться, прочитал:
«Милостивый государь, Александр Васильевич!
Настоящим спешу доложить, что окончательно устроился в известном Вам месте и приступил к делу.
Первые выводы таковы: предположения, высказанные Вами, имеют под собой реальную почву. Есть все основания для утверждения следующего: существует факт серьезной угрозы основам государственного строя. Угрозы необычной и до сих пор нам не встречавшейся. Противостоящие враждебные силы обладают четкой организацией и тщательной конспирацией. В своих действиях решительны и одновременно очень осторожны.
Приступил к сбору сведений. Как только появятся первые серьезные результаты, я немедленно о них доложу.
Не исключаю, что в сложившейся обстановке может возникнуть необходимость действовать без согласования с прокурорскими и судебными требованиями, вплоть до физического уничтожения. Прошу Вашего разрешения.
Коршун».
Александр Васильевич осторожно положил лист бумаги на стол, взял с чернильного прибора ручку, обмакнул перо и размашисто, наискосок в свободном углу написал: «Сообщить Коршуну, что разрешение на его просьбу получено. Впредь переписку вести через 3-е делопроизводство[1]». И расписался замысловатым росчерком, похожим на птичий клюв. Затем приколол тонкой иголкой к полученному письму чистый листок бумаги и на нем уже неторопливо, почти каллиграфическим почерком вывел: «Для доклада Его Императорскому Величеству».
Вслух произнес:
– Аппетиты у вас отменные, господа хорошие, да только кормить мы вас не намерены. Слюной захлебнетесь!
2
Ночью во дворе у Клочихиных грозно взлаяли кобели – цепные, злые до невозможности и чуткие в темноте на любой звук. Зазря, без причины, они своих голосов никогда не подавали, а в этот раз взлаяли и соскочили мгновенно на хрипящий рык, будто драли кого-то в ярости, разрывая на куски.
Что за напасть?! Артемий Семеныч взметнулся на теплой постели. Да так стремительно, словно в бок ему шило сунули. Впотьмах, на ощупь, схватил со стены ружье и как был в нижней рубахе и подштанниках, босым выскочил на крыльцо. Сразу спросонья ничего не различил, никого не увидел в темноте, но заорал, срывая голос:
– В-в-вижу, в-в-варнаки[2], в-в-вижу!
И для острастки, вздернув ствол ружья вверх: ж-жах!
Визгнула самодельная картечь, высекая щепу из верхушки глухого заплота[3].
Кобели от выстрела впали в полный раж, как взбесились. Хрипели, рычали, барахтались, сцепясь в один клубок, и не было никакой возможности разглядеть – да кто же там, в середке беснующихся псов?
– Тятя! Кто?! Собаки-то!.. – Двое сыновей, Игнат с Никитой, выскочили на крыльцо следом – тоже с ружьями и в одном исподнем.
Артемий Семеныч дробно состукал по ступеням голыми пятками, соскочил на землю, вгляделся и закричал:
– Вилы! Вилы давай!
Никита бросился к навесу, загремел там, запнувшись, но вилы отыскал. Артемий Семеныч перехватил гладкий черенок, придвинулся еще ближе к рычащим кобелям и, падая вперед всей тяжестью крупного тела, с силой воткнул вилы-тройчатки. Выдохнул:
– Собак оттаскивай!
Кобелей кое-как растащили, посадили на короткие цепи, из дома бегом принесли фонарь и увидели: под вилами, которые все еще держал и не отпускал Артемий Семеныч, лежал на боку матерый волк. Морда его была изваляна в земле, с загривка свисал большой лоскут шкуры, вокруг – клочья вырванной шерсти.
– Ну-ка, погоди, свети сюда, ниже! – Артемий Семеныч согнулся над поверженным зверем, осторожно потрогал его за нос и сообщил: – Неладно, ребята. Не сам он к нам забежал.
– А как? Как он попал? – удивился Игнат и тоже наклонился над волком. – Ты с чего взял, тятя?
– Да вы гляньте, дурни! Драли его кобели, драли, а крови нигде нету, и сам он давным-давно холодный! Поднимай, тащи в сени, там разглядим. Да фонарь еще один запалите!
В сенях волка бросили на пол, оглядели со всех сторон при свете двух фонарей и нашли под правой лопаткой след от пули. А крови действительно не было, только в иных местах сочилась из-под содранной шкуры жиденькая блеклая сукровица.
– Выходит, подбросили его к нам, – снова заудивлялся Игнат. – А зачем?
Артемий Семеныч не ответил. Он и сам не понимал: что за надобность убитого волка в ограду подкидывать? Какой в этом тайный умысел?
Дверь в избу несмело, на ширину ладони, открылась, и Агафья Ивановна испуганным шепотом спросила супруга:
– Артемий Семеныч, чего деется? По какой надобности стрельба была?
– А чтоб жилось тебе веселей! Закрой, мать, дверь, без тебя разберемся! Ступай, спи.
– Да какой тут сон? Коленки трясутся, – прежним испуганным шепотом возразила Агафья Ивановна, но двери послушно прикрыла.
Волка решили оставить в дальнем амбаре – до утра. Завернули в старую рогожу и отнесли. Артемий Семеныч запер амбар на замок, ключ зажал в ладони. Крепко, изо всей силы. Вида он перед сыновьями не подавал, держал себя, как ключ в кулаке, крепко, а на самом деле пребывал в великой растерянности: муторно было на душе, томило недоброе предчувствие. Пошел домой, к крыльцу, и только теперь почуял, что босые ноги на остылой осенней земле совсем замерзли. В избе пошоркал подошвами по половику, сел на лавку, привалился спиной к стене и снова думал, ломал голову: да кто же и по какой такой причине убитого зверя через заплот перекинул?
Никита с Игнатом, оглядев двор, тоже вернулись в избу, поставили фонари на приступку возле печки, и желтый свет вытолкнул темноту, проявились стол, лавка вдоль стены, даже божница в переднем углу, обрамленная домотканым вышитым полотенцем. А под божницей – с круглыми остановившимися глазами замерла, не шевелясь, Агафья Ивановна, и только беззвучно разевала рот, пытаясь что-то сказать. Наконец, от усилия зажмурив глаза, разродилась:
– Анна… Анны нету…
«Вот оно!» – Артемий Семеныч схватил фонарь и кинулся в боковушку, где спала дочь. Створки окна, которое выходило на огород, были наотмашь распахнуты, на постели валялись платки и кофточки, крышка сундука откинута, а в самом сундуке, как домовой баловался, – все перевернуто вверх тормашками. В великой спешке собиралась любимая дочь, убегая из родительского дома.
Артемий Семеныч зачем-то подскочил к открытому окну, уставился в темень, словно хотел кого-то увидеть на огороде. Не увидел. Повернулся, осторожно закрыл крышку сундука и тяжело сел – ноги не держали, будто ахнули его прямо в лоб тяжелым поленом.
«Вот суразенок[4], как обещался, так и сделал – убегом увел!» – у него и малого сомнения не было, он точно знал, с кем сбежала дочь. А раз так – по-молодому вскочил с сундука и грозно крикнул:
– Ребята, седлай коней! Настигнем!
3
А до этого было сватовство, которое закончилось для Данилы Шайдурова громадным и жгучим позором: бедолаге даже на крыльцо взойти не дозволили. Стоял, как оплеванный, смотрел вверх, задирая голову, осевшим голосом бормотал, заикаясь от душевного волнения:
– Анну вашу… За меня выдайте… Любовь промеж нас имеется… Холить, беречь буду…
Насмешливо взирал на него, с высоты семи ступеней резного крыльца, Артемий Семеныч Клочихин – статный, с молодецким разворотом плеч, с горделиво посаженной головой, кудрявый, как парнишка. Никогда и не подумаешь, что годы у мужика за полвека перескочили. Задумчиво шевелил он густыми бровями пшеничного цвета, щурил синие искрящиеся глаза. Молчал. Слушал.
За спиной у него – сыновья, погодки Игнат и Никита. Оба в отца – синеглазые. Рыжие бороды – из кольца в кольцо. И статью родители не обидели: весь дверной проем заслонили широкими плечами, ни щелочки не видать. Весело братчикам – не таясь, зубы скалят, ждут: чем сватовство закончится?
Пробормотал Данила свою невнятицу, сглотнул слюну, обессиленно выдохнул – будто неподъемное бревно с плеча скинул. И продолжал вверх глядеть, по-собачьи голову задирая, весь в тревоге: каков ответ будет?
Артемий Семеныч огладил бороду, приложил широкую ладонь к выпуклой груди и сронил гордую голову в уважительном поклоне. А когда ее поднял, в глазах у него будто яркие костерки вспыхнули, только что синие искры под ноги не просыпались. Заговорил степенно и уважительно:
– Благодарствуем вам, Данила… уж прости, не ведаю, как по батюшке… Такую честь великую нам оказали, снизошли до нас, сирых да убогих. Согласны мы, полной душой согласные Анну нашу просватать. Только вот просьбица малая имеется, уж не откажи в любезности, женишок ты наш драгоценный, купи ты, за ради Христа, штаны себе справные. А то у этих, глянь-ка, вся мотня сопрела. Выкатится ненароком твое хозяйство – и свадьба не в радость будет. А теперь ступай и не оглядывайся. Ступай, ступай с миром. А коли снова заявишься, я на тебя кобелей спущу.
И еще раз, на прощанье, сронил в поклоне кудрявую голову.
Ног под собой не чуял Данила, когда уходил с клочихинского двора. Горело лицо от нестерпимого стыда, будто лизнуло по щекам костровое пламя. В груди жар давил, да такой сильный, что пресекалось дыхание. Рвал Данила дрожащей рукой воротник новой рубахи, выдирал с мясом алые пуговицы, и они весело, с костяным стуком сыпались на деревянный настил. У калитки он обернулся, крикнул в отчаянии:
– Не желаете по-хорошему, я убегом ее уведу! Вот попомните!
Вышагнул на улицу и калитку за собой с такой силой шибанул, что могучий заплот, из лиственничных пластин сложенный, загудел.
Больше Данила не оглядывался, частил скорым шагом, а куда – не ведал. Туман стоял в глазах – ни зги не видел. Шел и шел. Запнулся о сухую валежину, рухнул плашмя на землю и тогда только мало-мало себя обрел. В горячке, оказывается, не меньше версты отмахал от деревни и лежал теперь на опушке бора на старой хвое и колючих сосновых шишках.
Как дальше жить? Завтра же разнесут досужие языки новость о его сватовстве по всей деревне, приврут и приукрасят, да так цветисто, что любой встречный будет в глаза посмеиваться, а за спиной пальцем показывать: вон он, жених, в штанах сопрелых! И зря, выходит, потратил он накопленные деньги на праздничный наряд, ведь штаны на нем, и рубаха, и картуз, и сапоги – все новенькое, ненадеванное ни разу до сегодняшнего дня. От бессилия Данила даже зубами скрипнул. Вскочил на ноги и давай обламывать сухие сучья валежины. Хряп! Хряп! Сворачивал, налегая грудью, откидывал далеко в сторону, словно спешную работу торопился закончить. Утихомирился, когда всю валежину до последнего сучка обломал. Поднял картуз, отряхнул штаны от хвоинок и побрел к деревне, на самом краю которой, как на выселках, стояла его избушка.
От древности своей избушка давно вросла в землю, по самые два окошка, на крыше клочьями вызрел зеленый мох, а одна из покосившихся стен подперта была двумя бревнами – вот какими хоромами владел Данила Шайдуров, которого еще в детстве дразнили суразенком. И нынче выдразнили, да как выдразнили! По самому больному месту ударил его Артемий Семеныч, сделав вид, что отчества его не ведает. Есть у него отчество, есть! Андреевич он, Андреевич!
И вспомнилось, как мать, утешая его, прибегавшего в слезах с улицы, говорила:
– А ты их не слушай, неразумных, сами не знают, чего городят. Отец у тебя славный был, добрый, и отчество тебе оставил красивое – Андреевич. Да помер он, болезный, в дороге, когда тебя еще на свете не было. Шли мы с ним место для житья искать, а он простудился, до Успенки нашей я уж одна добрела. Здесь ты и родился…
Обнимала его большими мягкими руками, крепко прижимала к себе и целовала в вихрастую маковку. Матери своей Данилка всегда верил. И жалел ее с малых лет, видя, как колотится она в одиночку, чтобы прокормить себя и сына: в работницы нанималась к справным хозяевам, им же сено косила и молотила хлеб, а зимой со старой шомполкой ходила в тайгу и без добычи возвращалась редко. Данилка, когда чуть подрос, нигде от нее не отставал, тащился, как хвостик, и на поля, и в тайгу, но больше всего любил бывать с ней дома и слушать ее сказки-бывальщины, каждую из которых заканчивала она всегда одними и теми же словами: «Будет душа чиста – и всякая беда, как вода, на землю с тебя скатится…»
Нет нынче матери, вот уж третий год пошел, как тихо угасла Олимпиада Шайдурова. Некому сироту утешить.
Данила рывком отворил дверь в свою избушку, упал на топчан и повернулся лицом к стенке.
Умереть бы хоть, что ли!
4
Вот как в жизни случается: ни светило, ни шаяло, а пришло время – вспыхнуло. Припекло до болячки.
А все малина виновата, ягода лесная, будь она неладна, и провалиться бы ей в тартарары вместе с Медвежьим логом, где вызрела она в нынешнее лето невиданно.
– Да така рясна, така сладка, прямо спасу нет, сама во рту тает, – елейным голосом пела в ухо старая Митрофановна. – Я и тебе на зиму запасу, от любой хвори средствие будет. Сослужи, Даня, я в долгу не останусь…
Данила в тот вечер мордушку[5] из ивовых прутьев ладил, каши уже сварил для прикорма и собирался с утра на озеро: карась, как дурной, стеной ломился. Но притащилась, на закате уже, Митрофановна и принялась уговаривать, чтобы сходил он завтра в Медвежий лог с ягодницами, потому как сильно боязно им одним. Три дня назад пошли – а там медведь хозяйничает, тоже любит сладким полакомиться. Как рыкнул, так иные бабы и девки ведра в логу побросали, а до деревни, с визгом, летели, как весенние ласточки.
– Посидел бы со своим ружьецом, покараулил бы нас, оборонил, коли он, растреклятый, явится, – зудела и зудела Митрофановна – хуже комара, от которого сколько ни отмахивайся, а он всегда рядом, – С нашего околотку все девки пойдут – может, какую выглядишь. На вечерки-то, сказывают, ты не ходишь, оно и понятно дело – какое веселье, когда самого себя поить-кормить надо. Сиротское житье известное – чужие люди не озаботятся…
Старухины причитания Даниле – как острый нож по сердцу. Не любил он, когда ему в душу лезли, когда его сиротство трогали. Что он, убогий какой?! Да он в деревне – самый знатный охотник. И соболя бьет, и белку, и на медведя ходит. К нему вон даже господа из самого города Белоярска на охоту приезжают – хвалят, не нахвалятся. С десяти лет, как мать-покойница занемогла и обезножела, он от тайги кормится и знает ее, как свою махонькую избушку – до последнего закутка. В тайге хорошо: там людей нет. А людей в деревне Данила сторонился – все подвоха от них ожидал, насмешек, потому и не дружил ни с кем, в гости и на вечерки не ходил.
За серьезного, самостоятельного мужика сам себя считал Данила. Вот поэтому не сдержался и буркнул сердито:
– Да отодвинься ты, Митрофановна! Ненароком глаз выколю, прутья-то вон каки гибкие!
– Господь с тобой, Данюшка, куда я без глазу-то!
А сама мостится, мостится на лавке поближе и зудит, зудит про свое: посидел бы с ружьецом, покараулил… Сердитым голосом ее не остановишь, она и не таких сердитых улещала-уговаривала, не зря считается первой свахой в Успенке, а еще она и лекарка, и повитуха…
Да чтоб ты, старая, язык проглотила!
Куда там!
– Я уж скажу всем – пускай тебе ягодок понемногу отсыпят. Сам полакомишься, самому радость будет…
Измором взяла. Да и мордушка получалась кривая-косая – а какой она иной будет, если под руку с уговорами лезут? В конце концов отложил Данила нужное дело в сторону и к великой радости Митрофановны пообещал:
– Ладно, схожу я завтра, только собирайтесь пораньше, ждать никого не стану. Если будете до обеда чухаться…
– Да мы до солнышка все тут, возле тебя, родимый, – снова запела Митрофановна, но Данила ее уже не слышал – ушел в избушку.
Рано утром собралась цветастая и громогласная гурьба молодых баб и девок – все с ведрами, с корзинами. И нарядные – будто их на праздничную гулянку позвали. Гомонят, хохочут, вот-вот песню затянут. Данила исподлобья глянул на них, на Митрофановну и молча, про себя, старой карге все высказал: и день пропал, и рыбалка ахнулась, а теперь еще и топать до Медвежьего лога да торчать там без дела, как одинокому гусаку посреди бабьего стада – вот знатное занятие! Но деваться некуда, назвался груздем – прыгай в кузов! Приладил половчее заплечный мешок, ружье на плечо закинул и молча пошел по дороге, оставлял за собой на песке крупные следы. Ягодницы, не отставая, дружно двинулись за ним, по-прежнему смеясь и гомоня. О чем они там гомонили, Данила не слушал – о своем думал: вечером надо будет мордушку доделать, а уж завтра – на озеро. Порыбалит недельку, а там и в тайгу пора собираться, к зиме готовиться. Прошлым летом Данила срубил избушку на дальней таежной речке, теперь хотел заготовить дров, чтобы они к зиме высохли, и сложить добрую печку, прежняя не удалась: и топилась плохо, и угарная была. Кирпича бы хорошего, да как его доставишь? На себе в такую даль много не унесешь, лошади нет, а идти и просить у кого-то… Да ну ее, канитель эту! Лучше глины накопать побольше да намешать покруче. Но дальше думать про хозяйственные дела Даниле не дозволили. Девки, как с глузду съехали, взялись над ним озорничать и насмехаться, а больше всех – Анна Клочихина. Голос у нее сильный, звонкий – не хочешь, а услышишь:
– Митрофановна, а, Митрофановна! А почему наш караульщик ни с кем не поздоровался? Нашел – молчит и потерял – молчит! Может, он немой у нас?
– Да нет, – бойко подхватила ее подружка, Зинка Осокина, – он важный! У него, говорят, в городе краля имеется, потому и на вечерки не ходит!
– Ой, слыхала я про эту кралю! Красоты, говорят, неописуемой – одно ухо дошшечкой заколочено, из другого белена растет, в каждом глазу по два бельма, а на личике черти горох молотили!
И пошло, и поехало!
Дальше – больше!
Давай Анна частушки отрывать, как лоскуты от рубахи:
- Ты Данила, ты Данила,
- Разве мы тебе не милы?
- Поцелуем в щечку, в нос,
- Городскую свою брось!
Бедный Данила от такого разгульного напора только шагу прибавлял и молчал намертво. А в спину ему неслось:
- Сидит Даня на крыльце
- С выраженьем на лице,
- А симпатичное лицо
- Закрывает все крыльцо!
Уши у Данилы уже в малиновый цвет окрасились. Митрофановна сжалилась над парнем, пошумела на расходившихся девок, и они притихли. Да и дорога пошла не по ровному полю, а по высокому увалу, на макушку которого, чтобы спуститься в лог, еще подняться надо. Хоть и налегке шли, а все равно запыхались, не до частушек стало. Данила, злясь на девок, а больше всего на Анну Клочихину, путь выбирал посреди самого неудобья и кочкарника – пускай здесь веселятся! Припотели ягодницы, пока до Медвежьего лога добрались. Вот он, внизу, неглубокий, извилистый, а склоны густо поросли малиной. Данила спустился, прошел до самого истока и впрямь нашел медвежьи следы – лакомился здесь косолапый. А вон недалеко и ведро валяется. Прихватил с собой, поднялся наверх, выставил ведро перед девками:
– Чья посудина? Забирайте.
Оказалось, что ведро в прошлый раз Анна бросила. Подошла, гибко изогнулась, ухватывая рукой железную дужку, и будто замерла на время, устремив снизу взгляд на Данилу. И столько в этом взгляде ласки было! Но Данила, ожидая новой насмешки или обидной частушки, даже и не глянул на Анну, развернулся молчком и двинулся в тенек высокой сосны, откуда весь Медвежий лог виден был, как на ладони. Ружье скинул, мешок – под голову, чтобы удобней лежать было, и взялся нести свою караульную службу, чтоб ей, вместе с Митрофановной, ни дна и ни покрышки.
Бабы и девки рассыпались по склону лога, начали брать ягоды – сразу двумя руками, будто коров доили. Время от времени перекликались, опасливо оглядываясь по сторонам. Звякали ведра.
А ягоды было – красным-красно!
Данила полежал-полежал, скучно ему стало. Вытащил из мешка ломоть хлеба, ружье – за плечо, спустился вниз и принялся вприкуску наворачивать малину. А она и впрямь, как Митрофановна говорила, сама во рту тает. Обобрал с одного куста, подвинулся к другому и видит – спиной к нему стоит Анна Клочихина. Ягоду берет быстро, сноровисто, только руки мелькают. И что с Данилой сделалось, какая его нелегкая подтолкнула – он и сам не понял. Подкрался неслышно и – ткнул двумя пальцами в крутые бока, а на ухо негромко:
– Гах!
Анна вскинулась, едва не опрокинув ведро, и тяжело обвалилась ему прямо на руки. Данила стиснул ее, чтобы удержать, и ощутил ладонями, будто за горячие угли схватился, трепетные, упругие груди под тонкой кофтой. Перехватил еще крепче, развернул к себе и хотел уже звать на помощь Митрофановну, но Анна распахнула зажмуренные глаза и зашептала, едва слышно:
– Зачем ты, Даня, меня так пугаешь? Меня не надо пугать, меня любить надо… Как я тебя люблю… Думаю про тебя днем и ночью, а ты мимо и мимо – не в тайге, так на озере. Мы с Зинкой на святки на воске гадали – мне ты выпал. Как вылитый, а за спиной – ружье…
Вдруг зашуршали неподалеку кусты, звонкий голос позвал:
– Аня, ты где?
И они отпрянули друг от друга.
Согнувшись, Данила воровато скользнул за кусты и медленно, покачиваясь, как пьяный, вернулся на прежнее место возле сосны. И больше уже не сдвинулся, пока не огрузились ягодницы малиной по самые края своих посудин.
В деревню возвращались медленно, с двумя отдыхами, но гомонили и смеялись по-прежнему. Только Анна Клочихина молчала.
Вот с того дня и завязалась веревочка, затянулась крепким узелком – не развязать.
Два месяца встречались они тайком и украдкой. Льнула Анна к Даниле, как шелковая ленточка к стене льнет, а он, словно опьянев в памятный день в Медвежьем логу, так и не трезвел. В тайгу не ходил, про избушку свою не вспоминал, а недоделанная мордушка, расшаперив высохшие прутья, валялась под лавкой.
Через два месяца Данила пошел на поклон к Митрофановне – помощи просить в сватовстве. Старуха выслушала его и наотрез отказалась:
– Ты уж прости, Даня, да только пособить я тебе ничем не пособлю. Не по себе дерево рубить взялся. Ни за каки коврижки не отдаст Артемий Семеныч за тебя Анну. Не рви зазря сердце, откажись, найди себе другу зазнобу.
Ну, уж нет, другая ему была не нужна. Он твердо знал: без Анны ему не жизнь. И свататься пошел один. Да не в добрый час, видно.
А наступит ли он, добрый час?
Данила поднялся с топчана, попил холодной воды из кадушки и самому себе ответил: нет, не наступит. Значит, по-иному будет, без сватовства.
Не прошло и недели, как ночью во дворе у Клочихиных взлаяли кобели…
5
К утру подморозило. На остылой сентябрьской земле вызрел мохнатый иней. Трава, окованная серебром, заискрилась летучими блестками, и они проредили темноту до зыбкого голубоватого света. Срезая долгий изгиб дороги, Артемий Семеныч гнал коня прямо через луг. Сыновья, не отставая, поспевали следом. Конские копыта раскалывали тишину глухим топотом, сбивали иней с травы и прошивали белое полотно луга тремя темными строчками.
Вот и дорога. Выскочив на нее, Артемий Семеныч пустил коня во весь мах. «Здесь они должны быть, больше некуда. Только бы догнать!» – и сердце обливалось холодной злобой. Он так рассчитал: от Успенки расходится несколько дорог – на пашню, на дальние сенокосные луга, в тайгу, к изножью Кедрового кряжа, и в город Белоярск. Идти в тайгу, на пашню или в луга беглецам никакого резона не было: холодно уже по ночам, под кустом ночевать не станешь. Поэтому оставался им только один путь – в Белоярск, мимо трех деревень, где всегда можно нанять подводу.
Скорей, скорей! Плетка в руке Артемия Семеныча не знала простоя. Конь летел. В ушах свист стоял от встречного воздуха. Но чем дальше продвигались в стремительной скачке, тем меньше у Артемия Семеныча оставалось уверенности – не могли беглецы за столь малое время так далеко уйти.
– Тятя! – подал голос Никита. – погоди, тятя!
Артемий Семеныч придержал коня, перевел его на шаг, обернулся к сыну:
– Ну? Чего?
– Погоди, тятя… Глянь на дорогу, ни единого следа нету. Давай спешимся, а то гоним и гоним – без ума…
Спешились.
Уже начинало светать, и было хорошо видно, что на пустынной дороге, на влажном от заморозка песке, – не тронуто. Ни человечьей ногой, ни звериной лапой. Не было здесь никого ночью. Не проходили, не проезжали и не проскакивали. Ясно стало, что гнать по-пустому, без всякого толку, можно хоть до самого Белоярска. Артемий Семеныч в сердцах даже ногой топнул, ругнулся молчком и легко вскочил в седло. Развернул коня, поехал неспешной рысью. «В округе где-то затаился, гаденыш; смикитил, что на дороге мы его прижмем. Ладно, поглядим…» – мысленно грозился Артемий Семеныч, а сам понимал, что найти беглецов, если по всей округе шарить, дело безнадежное. Не будешь ведь на розыски всю деревню поднимать, а если втроем искать – им этого заделья как раз до морковкиного заговенья хватит.
Восточный склон темного неба светлел. Поднималась вверх от земли легкая просинь, а следом за ней – розовая полоска зари. Кончилась беспокойная ночь, наступал день, и что он с собой принесет – не известно. Покачивался в седле Артемий Семеныч, печально смотрел на зарю, нисколько ей не радуясь, и владела им, одолев разом, безмерная усталость. Хотелось сползти с седла, лечь прямо на землю и уснуть, чтобы ничего не видеть и ни о чем не думать.
Да только рано он спать собрался…
По правую руку потянулась широкая елань[6], огражденная с трех сторон старыми соснами. Хлеб на ней убрали, и теперь густое жнивье стояло в инее. Вдали высилась большая скирда соломы. Артемий Семеныч скользнул взглядом по жнивью, поднял глаза и встрепенулся: над узкой макушкой скирды струился жиденький, едва различимый дым. Взмахнул рукой, подзывая сыновей, молча указал: видите? Никита с Игнатом кивнули, понимая его без слов, разделились и тронулись вперед, один с правой стороны, другой – с левой. Сам Артемий Семеныч, выждав, когда достигнут они краев елани, поехал прямо, целясь на стог, над которым все гуще поднимался дым костра. «Не пахал, не сеял, а жгет чужое, как свое!» – и сердце снова окатило злобой.
Оставалось до скирды совсем немного, шагов тридцать-сорок, когда прогремел навстречу выстрел. Пуля сшибла картуз с кудрявой головы Артемия Семеныча. Сам он кубарем слетел с коня, распластался на белом жнивье. Рвал из-за спины ружье, а оно никак не поддавалось, тогда дернул изо всей силы за ремень, в кровь ободрал ухо, взвел курок и отполз в сторону, в махонькую ложбинку. И снова – выстрел. Гулкий, раскатистый. Мелкой холодной землей брызнуло в лицо – меткий был стрелок. Артемий Семеныч мазнул по глазам ладонью, стирая грязь, и только теперь до него дошло: не Анна это, не Данила Шайдуров, а лихие люди, на которых дуриком наскочили. Чуть приподнял голову, увидел темную фигуру, которая металась меж ближними соснами, прицелился и выстрелил. Протяжный, по-заячьи тонкий крик взвился в ответ. Темная фигура кинулась в глубь старых сосен, но слева уже подлетел Никита, сиганул прямо с седла и подмял под себя.
Артемий Семеныч лихорадочно перезаряжал ружье. И в это самое мгновенье стрелой выкинулся из-за скирды серый конь в яблоках. Густая грива полоскалась в холодном воздухе, как бабья шаль. Не показывая лица, к гриве вплотную прилегал всадник, правую руку держал на отлете, сжимая ружье. Игнат развернул своего коня и кинулся вдогон.
– Стой! Стой, дурак! – закричал Артемий Семеныч. Но Игнат или не услышал его, или не захотел услышать, опаленный азартом погони. Рисковал парень. Спешится сейчас всадник за ближними деревьями, выждет момент да и грохнет в упор. Но поздно было останавливать Игната – уже не докричишься.
Артемий Семеныч вскочил на ноги. Бросился к Никите, который барахтался на земле. Подскочил, выставив ствол ружья, готовый без раздумий нажать на курок. Но стрелять не потребовалось. Никита поднялся и потерянно растопырил руки:
– Тятя, это ж… Это ж – ба-ба…
Круглыми от ужаса глазами смотрела на Артемия Семеныча совсем еще молоденькая девка. Она упиралась руками в землю, скоблила по траве каблучками высоких ботинок с красненькими шнурками, пытаясь отползти. Пальцы правой руки окрашивались кровью. «Выходит, я в плечо ее зацепил, слава Богу, не до смерти!» – успел еще подумать Артемий Семеныч, прежде чем удивился до онемения. Продолжая скоблить по траве каблучками, сверкая темными глазищами, девка вдруг быстро-быстро заговорила:
– Ne me tuez pas, avez piti pour moi, au nom de tous les sacrs! Ne me tuez pas, avez piti piti ma jeunesse! Chez moi rien, que on peut voler! Avez piti, messieurs gentils! Le dieu n'oubliera pas votre misricorde![7]
Крупные слезы скатывались у нее по щекам и пропадали в траве, губы дрожали, под темным платьем с глухим воротом рывками вздымалась грудь. Валялись рядом шляпа с темной вуалью и меховая накидка, измазанная в земле.
– Чего она лопочет, тятя? По-каковски?
– Да уж не по-русски – ясное дело. Придержи ее, рану-то перемотать надо. Погоди, может, поймет, – он шагнул ближе, наклонился: – Ты чья, девка? Откуда?
– Il ne me faut pas tuer! Il ne faut pas![8]
– Не понимает она, тятя, по-нашему – вот чудеса-то в решете!
– Чудеса не чудеса, а вляпались мы обеими ногами, как в коровью лепеху. Держи ее.
Артемий Семеныч потянул из самодельных ножен на ремне охотничий нож – длинный, острый, на ловкой костяной ручке. Шагнул еще ближе к девке. Увидев нож, она коротко визгнула и медленно, запрокидывая назад голову, обвалилась на спину. Никита замер, не зная, что делать.
– Обмороком ее стукнуло, оклемается. Держи, чтоб не трепыхалась.
Артемий Семеныч ловко распорол рукав платья, обнажил нежное девичье плечо, разглядел: три картечины саданули. Одна навылет, а две – застряли. Слава тебе, Господи, дело не смертельное. Выпростал свою нижнюю рубаху, отпластнул ножом лоскут от подола, перемотал рану. Скинул с себя шабур[9], свернул его и сунул девке под голову – пускай полежит, в себя придет. А сам, в тревоге, выскочил на край елани, выглядывая Игната – как бы беды с парнем не приключилось. И вздохнул облегченно, когда увидел сына невредимым. Игнат подъехал, соскочил с седла и с досадой известил:
– Ушел, варнак! Ну, конь у него, зверь, а не конь!
– А если б он за деревом тебя подождал да шмякнул?! Куда без ума полетел?!
– Не, тятя, я ж его видел. А как он с глаз канул, я и повернул обратно. Чего тут у вас?
– У нас тут, братчик, ого-го! – с натужным смешком отозвался Никита. – Иди полюбуйся, какую я добычу стреножил.
Сыновья еще о чем-т переговаривались, стоя над девкой и разглядывая ее, но Артемий Семеныч не слушал. Его теперь не сама девка беспокоила, а иное: чего с ней делать? Это ж по властям рассказывать-объяснять придется, а что она за птица и какого полета – не известно. Здесь оставить, чтоб докуки не было? А с другой стороны – жалко, не зверек же. Совсем еще молоденькая…
И каким дурным ветром занесло ее сюда из чужих земель, и кто такой лихой всадник, ловко ускользнувший от них?
Долго думать Артемий Семеныч не любил. Вскочил в седло, уселся удобней, расправил поводья и сурово прикрикнул на сыновей:
– Хватит лясы разводить! Подавай ее ко мне, домой повезем, там разберемся!
Когда Агафья Ивановна открыла ворота и тихонько ойкнула, увидя девку, Артемий Семеныч, опережая ненужные расспросы, известил:
– Нову дочь тебе привез, сменял без доплаты…
Он и над самим собой мог иногда усмехнуться.
6
Митрофановна с утра хлопотала у печки, гремела чугунками и стук в двери не расслышала, а когда они распахнулись и на пороге встал Артемий Семеныч, у старухи ухват из рук вывалился, сама она вздрогнула и попятилась в угол, прижимая к груди морщинистые руки, будто хотела оборониться.
– Как, хозяйка, спала-почивала? – Артемий Семеныч вышагнул из дверного проема, выпрямился во весь свой рост. – По твою душу пришел…
Митрофановна, рук от груди не отнимая, тихо села на лавку; видно было, что ноги ее не держат. Дряблые щеки дрожали, как плохо застывший холодец.
– Никак напугалась? – добродушно спросил Артемий Семеныч. – А я стучал. Глуховата, однако, стала – не слышишь. Я по делу, Митрофановна, по твоему делу, по лекарскому. Собирайся, пойдем, попользовать надо одного человека. Давай-давай, поживей, я тебя за оградой подожду.
Он вышел, а Митрофановна, разомкнув руки, истово перекрестилась, мухой слетела с лавки, схватила кошелку со своими лекарскими принадлежностями и выскочила на улицу, словно молодуха, которую кликнули на свиданье.
– Напужал ты меня, Семеныч, – тараторила старая, пытаясь мелким, семенящим прискоком попасть в лад широкому шагу Клочихина. – Загорюнилась про свое житье вдовье, а ты раз – на пороге, аж жилочки все вздрогнули…
– Ты, Митрофановна, про жилочки бабе моей расскажешь, а теперь меня слушай: чего увидишь в моем дому, по деревне про это не звони. Я сам скажу. Уразумела? А то знаю вас, языкастых, – по всей округе разнесете. Не видела, не слышала, не знаю, ни сном ни духом – вот весь сказ.
– Да ты о чем говоришь-то, Семеныч? Я в ум не возьму!
– Придем – увидишь. А наказ мой – помни. Два раза втолковывать не стану.
Артемий Семеныч, ошарашенный событиями, которые свалились на него за сегодняшнюю ночь и сегодняшнее утро, был рассеян и утратил свою обычную наблюдательность. Иначе бы он задумался: по какой это причине Митрофановна перепугалась? Задрожала, как последний листок на осине. Подумаешь, невидаль – стук она не расслышала, хитрая, битая баба! Но было ему сейчас совсем не до тонкостей. А Митрофановна, стараясь не отстать от него, мысленно молилась: «Царица Небесная, помилуй меня, грешную, отведи ему взгляд от моей избенки, пусть бы и дальше не ведал!»
Не зря молилась Митрофановна. Узнай сейчас про ее тайну Артемий Семеныч – быть бы ей битой прямо посреди улицы. Уж волосенки на голове он бы точно ей проредил.
Тайна же заключалась в том, что с нынешней ночи в избе у Митрофановны, на второй половине, появились новые жильцы – Данила Шайдуров с Анной Клочихиной. Уж как она отнекивалась-отбивалась и не желала приютить у себя убеглых жениха с невестой, ссылаясь на сотню самых разных причин, а больше всего – на суровый нрав Артемия Семеныча, – ничего не помогло. Уговорил ее Данила; правда, не только словами уговаривал, но и денежками. А денежки Митрофановна любила. Вот и не устояла. Ночью открыла двери молодым и провела их на вторую половину, где с вечера еще застелила широкую деревянную кровать.
И досталось же этой кровати! До самого утра скрипела она и охала, без перерыва, словно живая. У Митрофановны сон пропал, она лишь мелко крестилась и приговаривала:
– Да тише вы, оглашенные, всю деревню перебулгачите!
Утихомирились молодые и затихли, когда уже солнышко поднялось. Митрофановна затопила печь, принялась хозяйничать, а нелегкая и принесла Артемия Семеныча – как тут не взмолишься со страху Царице Небесной, испрашивая милости и заступничества!
Вот и дом клочихинский – крепкий, ладный, как и сам хозяин. Двор широкий, просторный. К амбарам, к конюшне, к скотному двору и крыльцу ведут деревянные настилы – не надо грязь месить в гиблую непогоду. Вся усадьба обнесена глухим заплотом. За ним – рослые лохматые кобели, которые днем сидят на коротких железных цепях, а по ночам отпускаются на волю. Непрошеных гостей здесь не жалуют.
На окне отдернулась цветастая занавеска, мелькнуло испуганное лицо Агафьи Ивановны.
– Ступай в дом, – Артемий Семеныч показал Митрофановне рукой на крыльцо, словно боялся, что она заблудится и пойдет не туда, куда надобно. – Баба моя все тебе расскажет. А что я говорил – помни накрепко.
Охая, Митрофановна начала взбираться на высокое крыльцо. Артемий Семеныч проводил ее взглядом, подождал, когда она войдет в сени, и лишь после этого направился к конюшне. Пробыл он там недолго. Скоро вывел двух коней, на которых были только одни хомуты, в руке держал два мотка толстых веревок. Опять мелькнуло в окне по-прежнему испуганное лицо Агафьи Ивановны, она попыталась даже какой-то знак подать супругу, но Артемий Семеныч лишь головой мотнул, отвернулся от окна и вышел, ведя за собой коней под уздцы, на улицу.
Твердо шагая по пыльной дороге, не глядя по сторонам, он миновал деревню и остановился возле избушки Данилы Шайдурова. Похмыкал, оглядывая ее, затем откинул палочку, которая подпирала дверь, вошел внутрь, низко сгибая голову, чтобы не удариться о притолоку. Солнце к этому времени поднялось на полную высоту и весело ломилось в два низеньких оконца. В избушке было светло, и хорошо виделось ее бедное убранство: деревянный топчан, застеленный лоскутным одеялом, шкафчик на стене, широкая лавка, кадушка с водой, давно не беленая печь в трещинах, а в переднем углу – божница с одной-единственной иконой Николы-угодника. Артемий Семеныч степенно перекрестился, бережно снял икону с божницы и вынес ее на улицу, положил в пожухлую траву. Вернулся в избушку, легко подхватил с пола широкую лавку и в два замаха высадил стекла в окошках вместе со старыми рамами. Также неспешно и сноровисто, как делал он любую работу по хозяйству, Артемий Семеныч вышиб подпорки у стены, завел веревки, цепляя простенок между окнами, концы веревок привязал к хомутам, понужнул коней. Кони грудью навалились на хомуты, веревки натянулись, и простенок выскочил, рассыпаясь на отдельные бревна, взметнул густую пыль. Избушка, оставшаяся без подпорок и почти без одной стены, по-стариковски покряхтела и медленно завалилась на один бок. Крыша съехала и развалилась. Груда старого черного дерева лежала теперь на месте бывшего жилья строптивого суразенка.
Артемий Семеныч смотал веревки, поднял с травы икону Николы-угодника и направился домой, ведя следом за собой коней, которые послушно стукали копытами в пыльную землю и недоуменно поматывали головами: да зачем они такую работу сделали, совсем необычную? Словно отвечая им, Артемий Семеныч едва слышно высказался:
– Вот и ладно. Хоть так душу отвел.
7
Данила с Анной еще ничего не знали. Да и знать не желали. У них иная была забота, одна-разъединственная: любить друг друга, ничего не видя и не слыша, до полного беспамятства. Решившись на побег и свершив его, они одним махом все перегородки, какие раньше их сдерживали, напрочь переломали. Даже в коротком сне, сморившем их под утро, не размыкали рук, не желая и на малое время разъединиться горячими телами.
Проснулись же они одновременно. Долго смотрели друг на друга слегка ошалелыми глазами, затем засмеялись, счастливые, и Данила еще неловко, но уже по-хозяйски подгреб под себя Анну, и она послушно поддалась ему, распластываясь на широком ложе, ощущая томительную истому, которая скатывалась жарким клубком по спине – вниз. И вздрагивала, распахиваясь навстречу, выгибалась, выпуская на волю сладкий и долгий стон – опустошала себя до самого донышка. Ничего не жаль было, все полной мерой, без краев и без берегов.
А после лежала, остывая, вольно раскинув руки по матрасу, набитому свежей соломой, смотрела вверх остановившимися глазами и ничего не видела, кроме зыбкого марева. Данила запаленно дышал и прижимался щекой к мягкому плечу Анны, не в силах вымолвить и одного слова.
В эту сладкую минуту стукнула в двери, закрытые изнутри на крючок, Митрофановна и тревожным голосом окликнула:
– Эй вы, сизы голуби, живые?
– Случилось чего? – отозвался Данила, отрывая голову от теплой подушки.
– Случилось. Вылезайте, хватит беса тешить. Орете, как под ножом, на дальних покосах слышно…
Анна заалела стыдливым румянцем, вскочила с кровати, начала одеваться и причесывать волосы. По привычке взялась заплетать косу и руки опустила: не по обычаю. Прощай, коса девичья, одна лишь память о тебе осталась. Волосы прибрала по-бабьи и сверху платок повязала – новую жизнь начала, замужнюю.
Митрофановна между тем все двери на крючки позакрывала, занавески на окнах задернула и лишь после этого принялась подавать на стол. За поздним завтраком, время от времени испуганно оглядываясь, она выложила молодым все новости: как Артемий Семеныч к ней приходил, напугав ее до дрожи в коленках; как он избушку Данилы развалил, а дома грозился Агафье Ивановне, что от дочери он теперь напрочь отказывается и знать ее не желает. Про девку-чужестранку, которой она выковыряла картечины из плеча, а рану смазала лечебной мазью и перевязала, Митрофановна ни слова не промолвила, крепко помня суровый наказ старшего Клочихина. Помолчала после длинной речи, пошлепала сизыми старческими губами, оглядела молодых, словно впервые их перед собой видела, и дальше заговорила совсем иным тоном:
– Боязно, ребятки, мне прятать вас. Я вдова сирая, бесправная, заступиться за меня некому. Проведает Артемий Семеныч, где вы укрываетесь, он и вам вязы посворачиват, и меня достанет-приголубит. А мне, грешной, на белый свет любоваться не надоело. Не обессудьте, ребятки, а вот мое условие: денек еще поживите, а ночью ступайте с Богом.
Анна сникла над чашкой, и одинокая слеза беззвучно капнула в пшенную кашу, заправленную топленым молоком. Надеялась все-таки отчаянная девка, убегом покидая родительский дом, на иную судьбу, более складную: отсидеться у Митрофановны недельку-другую, а после бухнуться на колени перед родителями и вымаливать прощенье, пока не оттает отцовское сердце. Построжатся, как водится, постегают плеткой для порядка, а все равно – простят, родная же кровь. Не вышло. Если уж сказал отец, что напрочь отказывается от дочери, слово свое будет держать твердо: характер тятин Анна распрекрасно знала. Потому и пригорюнилась.
Данила, наоборот, был готов к такому раскладу – даже и не мечтал в скором времени помириться со своим суровым и неуступчивым тестем. Он покидал родную избушку, собрав небогатый скарб в заплечный мешок, ясно понимая, что вернется сюда не скоро, а может так статься, что не вернется никогда. Поэтому сильно не горевал. Быстро доел кашу, облизал деревянную ложку и со стуком положил ее на стол. Не глядя на Митрофановну, глухо буркнул:
– Да не трясись ты, старая, уйдем седни ночью.
Ухватил Анну за руку и повел ее за собой, послушную, на вторую половину. Прихлопнул за собой дверь, крючок накинул и еще раз повторил:
– Седни ночью уйдем.
Помолчал, вглядываясь в лицо Анны, спросил:
– Не боишься?
Она подняла чудные свои глаза, в которых уже высохли слезы, и блеснули в них озорство и отчаянность первой деревенской певуньи и плясуньи в девичьем хороводе:
– Я, Даня, за тобой – хоть в омут головой! Только покажи, где омут. Утоплюсь и не поморщусь!
Приятно было Даниле слышать эти слова, будто теплой волной окатывало сердце, но вида он не показывал, хмурил брови:
– Погоди топиться-то, рано… Я так решил: в Белоярск тронемся, есть у меня там знакомец. На охоту приезжал, зазывал к себе, да я тогда отнекался. Вот, погляди…
Он развязал свой заплечный мешок, пошарился в нем и вытащил твердую лощеную бумажку, махонькую, на половину ладони. Протянул ее Анне. Шевеля губами, складывая по слогам золотом тисненные буквы, она прочитала вслух:
– Луканин Захар Евграфович, купец первой гильдии. Имеет казенные и частные подряды, а также операции: транспортные, пароходные, комиссионные и вообще всякого рода коммерческих предприятий. Главная контора в Белоярске. Вознесенская гора, в собственном доме. Для телеграмм: Белоярск, Луканину.