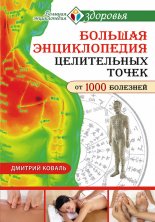Язык Адама. Как люди создали язык, как язык создал людей Бикертон Дерек
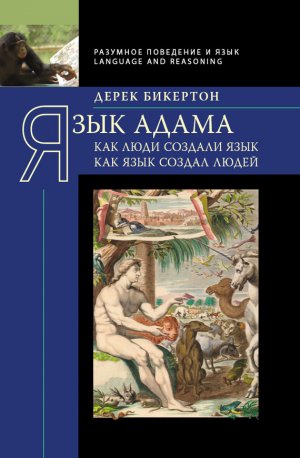
Вступительная статья
Уважаемый читатель! Перед Вами очередная книжка из серии переводов важнейших зарубежных исследований, посвященных происхождению человека. Предыдущая книга Майкла Томаселло «Истоки человеческого общения», известного специалиста по раннему возрасту у детей и общению у приматов, последователя Л. С. Выготского, вышла в 2011 г. В новой книге этой серии Вы познакомитесь с Дереком Бикертоном (Derek Bickerton), всемирно известным ученым, прославившимся изучением пиджинов и креольских языков. Обнаруженные интересные факты позволили ученому выдвинуть ряд существенных гипотез о закономерностях развития языка как в онтогенезе, так и филогенезе.
О том, что такое пиджины и креольские языки, мы поговорим чуть позже, а теперь представим слово самому Бикертону, рассказывающему свою автобиографию в одном из интервью.
Хотя я закончил Кембридж в Англии в 1949 г., я начал свою академическую карьеру только в 60-х и сначала был преподавателем английской литературы в Гане в университете Кейп-Коста, а затем после годовой аспирантуры по лингвистике в Лидсе стал старшим преподавателем по лингвистике в университете Гвианы (1967–1971) – старшим, может быть, потому, что был единственным лингвистом в стране! Это там у меня появился устойчивый интерес к креольским языкам, что после года проведенного в университете Ланкастера в Англии привело меня на Гавайи, где то, что местными называлось «пиджином», было на самом деле креольским языком. Двадцать четыре года я был профессором лингвистики в Гавайском университете, защитив в 1976 г. диссертацию по лингвистике в Кембридже. Моя работа на Гавайях и особенно мое открытие, что креольские языки создаются детьми из неструктурированного инпута в течение одного поколения, привело меня к вопросу, откуда исходно берется язык.
Сейчас Д. Бикертон почетный профессор Г авайского университета, он известен не только как ученый, но и как автор исторических романов. Его перу принадлежат следующие научные издания:
Dynamics of a Creole System («Динамика креольской системы») – Cambridge University Press, 1975;
Roots of Language («Корни языка») – Karoma publishers, 1981;
Language and Species («Язык и вид») – University of Chicago Press, 1990;
Language and Human Behavior («Язык и поведение человека») – University of Washington Press, 1995;
Lingua ex Machina: Reconciling Darwin and Chomsky with the Human Brain («Язык из Машины: Примиряя Дарвина и Хомского с человеческим мозгом») – соавтор W. Calvin, 2000;
Bastard Tongues («Незаконнорожденные языки») – Hill and Wang, 2008;
Adam’s Tongue («Язык Адама») – Hill and Wang, 2009.
Широко известны две статьи Бикертона:
Creole Languages («Креольские языки»), Scientific American 1983, 249 (8): 116–122, doi:10.1038/scientificamerican0783-116, опубликованная на русском языке в журнале «В мире науки», 1983, № 9.
The language bioprogram hypothesis (Гипотеза о языковой биопрограмме), The Behavioral and Brain Sciences 1984, 7: 173–188.
Вернемся теперь к вопросу, что такое пиджины и креольские языки.
Пиджины – это языки-посредники, возникающие в местах многоязычных контактов (например, разноязычных рабов или купцов). Креольский язык возникает, когда пиджин, второй язык для взрослых, становится для их детей родным первым языком (как это происходило, например, с детьми рабов на плантациях). Между пиджинами и креольскими языками имеются существенные различия, тогда как креольские языки, возникавшие в разных местах из разных пиджинов, имеют значительное сходство в грамматике. В ходе дальнейшего развития расширение коммуникативных функций приводит к необходимости конвенционализации креольских языков, которая протекает в разных языках по-разному.
Предложения в пиджинах – это или почти исключительно цепочка существительных с небольшим числом глаголов, или короткие фразы, в них нет определенного порядка слов, нет приставок и суффиксов, нет согласования, временных форм глагола, нет закрепленного способа выражения, кто деятель, а кто/что – объект действия. Приведем пример Бикертона (1983) с описанием на пиджине табло, попеременно указывающим время и температуру: «Building – high place – wall pat – time – nowtime – an’den – a new tempecha – eri time give you» (Здание – высокое место – стена час(т)ь – время – сейчас – и-потом – новая температура – каждый раз дать вы). Бикертон уточняет, что «порядок слов чаще всего не подчиняется какому-то постоянному принципу, кроме прагматического правила, что старая информация сообщается в начале предложения, а новая информация – в конце» (Бикертон 1983). Стивен Пинкер приводит следующий пример фразы на пиджине из работ Бикертона: «Me cape buy, me check make», и это совсем не означает, что я купил кофе, как было бы в креоле, говорящий говорит: мой кофе купить, мой/мне чек делать, т. е. что у него купили кофе и дали чек (Пинкер С. Язык как инстинкт. С. 25).
Существовали пиджины с русской основой: кяхтинский – русско-китайский пиджин и руссенорск – норвежско-русский пиджин. Известная фраза Моя твоя понимай нету взята из кяхтинского пиджина, Moje niet forsto (я тебя не понимаю) – из руссенорска. У писателя В. К. Арсеньева можно найти следующий пример из кяхтинского пиджина: Чего-чего рыба кушай, потом кабан рыба кушай, теперь надо наша кабан кушай (Сначала рыба что-то съедает, потом кабан съедает эту рыбу, а теперь мы будем есть этого кабана). Этот пример приводит Е. В. Перехвальская (2006), исследователь кяхтинского пиджина. Она отмечает следующие особенности сибирского пиджина: отсутствие флективной морфологии, совмещение форм личных и притяжательных местоимений, единая глагольная форма, часто совпадающая с формой императива, тенденция к порядку слов SOV, при этом следующими по частотности будут порядки SVO и OVS, если субъект выражен местоимением. В ранней форме сибирского пиджина нет ни предлогов, ни союзов. Имеется показатель отрицания нету и вопросительные слова: када ‘когда’ и како/какой ‘какой, что, кто, как’.
В отличие от пиджина в креольских языках появляются правила порядка слов: например, имя деятеля ставится перед именем объекта, определение ставится после определяемого слова; появляются семантически значимые грамматические формы: формы числа существительных и система времен глагола (Bickerton 1983, 1984; Бикертон 1983). Приведем пример перевода простой английской фразы I gave him ‘Я ему дал’ в разных вариантах гайянского креола: A giv im; A giv ii; A did giv hii; Mi di gi hii; Mi bin gi ii (O’Donnell, Todd 1980). Для сравнения приведем фразу Мая ходи была (Я уже приходил), типичную для расширенных (креолизованных?) вариантов сибирского пиджина (Перехвальская 2006).
Обнаруженные различия между пиджинами и креольскими языками и сходство креольских языков Д. Бикертон интерпретировал как доказательство «изобретения языка детьми», когда они находятся в ситуации неструктурированного речевого инпута – дети используют свою врожденную языковую способность, трансформируя пиджин в более полноценный язык. Приобретенные общие черты креольских языков, по мнению Бикертона, являются следствием универсальности языковых способностей. Подметив сходство между грамматикой детских высказываний на традиционных языках при переходе от однословных высказываний к первым предложениям и грамматикой креольских языков, Бикертон выдвинул гипотезу о «биопрограмме языка» (1984), а именно что все дети обладают врожденной грамматической способностью. Эта гипотеза совпадала с идеей врожденности «Универсальной Грамматики» Н. Хомского и его сторонников. Для доказательства своей гипотезы Бикертон в конце 70-х предложил даже устроить такой эксперимент: высадить на необитаемый остров 6 пар детей, говорящих на 6 различных языках. Национальный научный фонд США расценил этот эксперимент как неэтичный и отказался финансировать его (The New York Times, 30.03.2008). Важно отметить, что Бикертон считал новую грамматику изобретением детей, которое они делают благодаря генной программе, возникшей в результате мутации. В том же цитированном выше интервью он сказал: «Мое открытие, что креольские языки создавались детьми из неструктурированного инпута в одном поколении, привело меня к вопросу, откуда язык первоначально появился и как развился до теперешней сложности. Это привело к ученичеству…, потребовавшему усиленной борьбы с целым рядом незнакомых наук. Но я преданный делу автодидакт, и я всегда считал границы гнетущими, вне зависимости от того, границы ли это государства, учреждения или академических дисциплин. Пересечение их давало мне наиболее яркие переживания в моей жизни» (интервью Бикертона по поводу выхода книги Lingua ex Machina)
Еще в книге «Корни языка» (1981), Бикертон ставит 3 вопроса, ответам на которые посвящены и эта и последующие книги:
1. Как возникают креольские языки?
2. Как дети овладевают языком?
3. Как возникла языковая способность, ставшая видовым свойством человека?
На эти вопросы Бикертон отвечает, пользуясь сначала лингвистической аргументацией («Язык и виды», 1990), а затем вместе с нейрофизиологом Вильямом Калвином («Язык из Машины», 2000) рассматривает теорию эволюции языка под углом зрения биологической науки, в частности, представлений о филогенетическом развитии мозга. Опора на широкий спектр биологических наук отчетливо видна и в книге «Язык Адама» (2009), которая предлагается вниманию читателя. Междисциплинарность книги, скрещение биологии, археологии, лингвистики, этологии, антропологии и других наук, делает ее интересной для широкого круга читателя. Книга подробно раскрывает полемику вокруг вопросов о происхождении человека и его языка и представляет интересные факты. За всем разнообразием поднимаемых вопросов прослеживается четкая логика. Автор доказывает, что единственное решение проблемы происхождения языка лежит в рассмотрении его коэволюции с поведением проточеловека. А ключ к пониманию эволюции дает «теория формирования ниш». Идея привлечения этой теории возникла после прочтения книги Джона Одлинг-Сми, Кевина Лэланда и Маркуса Фельдмана «Формирование ниш: игнорируемый процесс в эволюции», опубликованной в 2003 г. О своем восхищении этой книгой Бикертон говорит еще в одном из своих интервью.
Почему «теория формирования ниш» так важна для понимания происхождения языка? Бикертон справедливо пишет: «Язык не мог развиться, как считает большинство биологов, из каких-либо средств коммуникации, неких СКЖ (т. е. систем коммуникации животных. – Т. А.) ближайших предков, которые. как-то. постепенно. видоизменялись. или что-то в этом роде. Он должен был произойти от. ну, от чего-то другого». Появление языка предполагает качественное изменение, перерыв, скачок в эволюционном процессе развития средств коммуникации. Вот эту «прерывность» классическая теория эволюции объяснить не могла. В соответствии с классической точкой зрения, выраженной Джорджем Уильямсом: «Приспособление всегда асимметрично; организмы приспосабливаются к окружающей их среде, и никогда – наоборот». Новая теория формирования ниш отводит животным активную роль в их собственном эволюционном развитии. Животные не только занимают ниши, они их формируют и сами формируются, адаптируясь к ним. По мнению Бикертона, «эта теория позволяет объяснить как каскады быстрых преобразований, давших Стивену Джею Гоулду (Stephen Jay Gould) почву для создания теории прерывистого равновесия, так и внезапное возникновение время от времени таких вещей, которые на первый взгляд выглядят как совершенно новые (язык – только один из множества примеров)».
И еще одна цитата из Бикертона: «С высоты теории формирования ниш язык можно рассматривать только как логичное – может быть, даже неизбежное – следствие некоторых довольно специфических выборов наших предков и некоторых очень конкретных их действий. Чтобы быть более точным, они должны были начать делать нечто, что не пытались делать никакие другие виды с более или менее сравнимыми возможностями мозга. И, конечно же, как только этот прорыв был совершен, как только система нового типа была образована, они переместились в новую нишу – в языковую нишу. Не имеет значения, насколько грубой и примитивной была первая такая система, она также подверглась все тому же взаимовлиянию поведения на гены, генов на поведение, и снова поведения на гены, которое возникает во всех процессах формирования ниш. Язык изменялся, рос и развивался, пока не превратился в бесконечно сложный, бесконечно тонкий инструмент».
Что заставило и что позволило предкам человека занять новую нишу? Что потребовало от предков человека занятие новой ниши? На все эти вопросы необходимо ответить, потому что, как показал Бикертон в первой главе, любая адекватная теория эволюции языка должна объяснять, почему появление языка было необходимо (и возможно) именно в этот период. По его мнению, такая теория, в частности, должна объяснить, почему давление отбора было достаточно сильным и уникальным, каким образом самый первый случай использования языка был полностью функциональным; почему члены сообщества верили сигналам других членов сообщества, и почему кто-то захотел делиться важной информацией и, наконец, теория не должна противоречить ничему в экологии предшествующих видов. Таким историческим моментом, предполагает Бикертон, был переход проточеловека от низшего к высшему падальщику.
Предки человека в определенный период истории были «низшими падальщиками», т. е. доедали то, что оставалось от других животных, питавшихся падалью. Затем они становятся «высшими падальщиками», следы на костях съеденных животных свидетельствуют о том, что первыми их едоками были предки людей и уже их объедки доедали другие животные. Занятие новой ниши потребовало изменения системы коммуникации животных – появились призывные сигналы, сообщавшие собратьям, что обнаружен новый труп слона, и что туда нужно бежать. Без возможности передавать сообщения при удаленности предмета сообщения во времени и пространстве от источника сообщения, призывные сигналы издавать нельзя. Конечно, такие сообщения были сначала имитацией животного – иконическим, а не символическим, как в языке, знаком, но они могли сообщать об отдаленном предмете, и со временем звуки и жесты, изображавшие животного, могли сокращаться, деконтекстуализироваться, приближаясь к символу-слову. Таким образом, по Бикертону, появление у системы коммуникации свойства перемещаемости – это прорыв, который ведет к языку.
Появление иконических знаков со свойством перемещаемости способствовало, по мнению Бикертона, формированию концептов (в отличие от перцептивных категорий, присущих животным). Такие знаки стали якорями для запечатления сенсорной информации, которую стало возможным актуализировать без наличия здесь и сейчас соответствующего источника информации. Вот как пишет об этом Бикертон:
Эти категории (перцептивные категории животных. – Т. А.) не выкристаллизовывались в доступные понятия, потому что они действовали лишь тогда, когда обезьяны видели, или слышали, или обоняли, или касались, или пробовали те признаки, на которых эти категории основаны. Это случалось непредсказуемо. Нейронная сеть, которая активировалась, когда это происходило, соединялась только в эти моменты и мгновенно прекращала существовать, когда признаки переставали ощущаться. Не оставалось ничего, что снова связало бы их вместе. Потом обезьяны выучили знаки для своих категорий. Знаки связали воедино все признаки, относящиеся к той или иной категории, и дали им постоянное прибежище, постоянную нишу.
Уточняя разницу между категориями животных и понятиями человека, Бикертон, замечает, что «категории сортируют вещи по классам, но приводятся в действие лишь тогда, когда появляются физические признаки присутствия объектов из этих классов. Понятия тоже сортируют вещи по классам, но вдобавок могут быть приведены в действие другими понятиями, даже в отсутствие объектов из соответствующих классов. Следовательно, они становятся доступными для мышления офлайн».
Итак, появление у знаков свойства перемещаемости (displacement, по Ч. Хоккету) стало, по мнению Д. Бикертона, той песчинкой, попадание которой в процесс развития коммуникативных систем привело к качественному сдвигу, к началу становления человеческого языка. В культурно-исторической психологии, основным принципом которой является социальное происхождение высших психических функций человека, важное отличие знаков человека от сигналов животных – возможность быть использованными офлайн – обозначается понятием обратимость. Л. С. Выготский в статье «Сознание как проблема психологии поведения» (1925/1982а) пишет, что человеческое поведение отличается от поведения животного социальным опытом, который возможен через «удвоение опыта» – под последним Выготский вслед за К. Марксом подразумевает возможность сознательно (в сознании) представить цель и составить в уме (без опоры на наглядную ситуацию) план действия. Объясняя, как рефлекторная реакция, присущая животным, может стать у человека чем-то качественно иным, тем, что позволяет объяснить удвоение опыта, Выготский обращает внимание на то, что механизм рефлекторной реакции может быть иным, особым при оперировании словом/воспроизводимым знаком. Поскольку такой раздражитель может быть воссоздан, т. е. стать реакцией, а реакция – раздражителем, эти рефлексы становятся обратимыми. «Из всей массы раздражителей для меня ясно выделяется одна группа, группа раздражителей социальных, исходящих от людей. Выделяется тем, что я сам могу воссоздать эти раздражители, тем, что очень рано они делаются для меня обратимыми и, следовательно, иным образом определяют мое поведение, чем все прочие. Они уподобляют меня другим, делают мои акты тождественными с собой. В широком смысле слова, в речи и лежит источник социального поведения и сознания» (Выготский 1982а: 95).
Рисуя дальнейшую картинку возникновения языка, Бикертон предполагает, что создание символов на раннем этапе запустило весь дальнейший процесс: как только мозг имеет воспроизводимые знаки со свойством перемещаемости, он может создавать концепты, которые объединяются в протоязык. У протоязыка есть одна важная особенность, отсутствующая в любой системе коммуникации животных – возможность соединять слова. Высказывания в протоязыке похожи на «бусины на нитке», как в пиджине, и только много позже возникнут иерархические синтаксические структуры.
Мы не будем далее пересказывать содержание книги Д. Бикертона, а остановимся на одном его принципиальном утверждении, что «дети создают язык, его грамматику». Утверждение о языковой биопрограмме автор повторяет и в «Языке Адама», хотя и не акцентирует его как в предшествующих исследованиях. Одним из новых доказательств возможностей детей структурировать неструктурированный речевой инпут является факт возникновения никарагуанского жестового языка. Как пишет Джуди Кегл, после прихода к власти сандинистов в 1979 г. они создали школу-интернат для глухих детей, куда свезли детей со всей страны. К 1983 г. в двух школах в окрестности Манагуа было 400 глухих школьников. Языковая программа была нацелена на овладение чтением по губам испанской разговорной речи и дактилологию. Жестовому языку детей не обучали, но каждый из них привез средства пантомимы, которые позволяли им общаться со слышащими родственниками. Дети стали общаться на жестовом пиджине, используя иконические холистические жесты из домашних заготовок. Однако когда в школе появились дети 4–5 лет, произошла «креолизация» языка. Жесты стали более стандартизированными, приобрели дискретность, т. е. вместо целостного обозначения ситуации стали использоваться комбинации жестов. Семантические роли деятеля и объекта действия стали передаваться порядком жестов и пространственными частицами, появились однотипные обозначения множественного числа объектов и т. д. (Kegl, Senghas, Coppola 1999; Kegl 2002).
Итак, изобретают ли дети грамматику, есть ли врожденные грамматические правила, есть ли универсальное грамматическое устройство, которое предлагал Н. Хомский?
Вслед за Джеромом Брунером и Майклом Томаселло нужно ответить на этот вопрос отрицательно. Оба они отстаивают точку зрения, что процесс овладения языком в ситуациях и структурированного инпута (традиционный язык) и не структурированного (пиджин) направляется не-речевой коммуникацией, совместной деятельностью. Дж. Брунер имеет в виду механизмы перцептивного внимания, тесно связанные со структурой высказывания по принципу «топик – коммент», и ролевой структурой действия и семантической (падежной) грамматикой (Брунер 1984). Он же говорит о роли сонаправленного внимания в усвоении языка, что было всесторонне изучено М. Томаселло. В предыдущей книге той же серии, что и книга Бикертона, а именно в «Истоках человеческого общения» Томаселло говорит об установлении рамки совместного внимания и понимании коммуникативных намерений (и, кстати, подробно останавливается на появлении никарагуанского жестового языка) (Томаселло 2011). Тем не менее, читатель вправе задать вопрос, почему взрослые, у которых рамки совместного внимания и понимание коммуникативных намерений значительно лучше развиты, чем у детей, не переходят к структурированной грамматике, годами пользуясь пиджином, а дети делают это.
Мы все знаем, что дети значительно легче и лучше усваивают вторые языки по сравнению с взрослыми. Что же дело в сенситивном периоде развития речи? И в нем тоже, но не только в нем. Мозг ребенка пластичен, что позволяет ребенку осваивать мир движений, эмоций, образов, слов. Все это многообразие требует упорядочивания. В. Кальвин, соавтор Бикертона, по книге «Язык из Машины» (2000), а также С. А. Бурлак (2011) предполагают, что дети действуют по эпигенетическому правилу «Ищи структуру в хаосе». Бикертон в той же книге (2000) возражает своему соавтору, говоря, что обобщение грамматических правил не может быть движущей силой для овладения грамматикой в случае пиджина, где нет правил, доступных обобщению. Вот на этот довод можно возразить. Первое возражение теоретическое: ребенок может воспользоваться некоторым изоморфизмом организации перцептивного внимания, ролевой структуры действия и организации высказывания, о котором говорит Брунер. Второе возражение эмпирическое, взятое из исследования перехода детей от однословных к двусловным высказываниям. Эти дети слышали грамматическую речь, но для того, чтобы вычленить ее структуры они тоже должны были следовать правилу «Ищи структуру в хаосе». Д. Хорган (Horgan1976) исследовала описание картинок детьми, находящимися на стадии перехода от однословных к двусловным высказываниям (длина предложений от 1,08 до 1,59 в морфемах). В своих однословных высказываниях дети следовали принципу перцептивной выделенности, иначе говоря, закономерностям перцептивного внимания – они оречевляли новый, привлекающий внимание (salient) компонент ситуации (воспринимаемая ситуация – топик, а выделяемый оречевляемый элемент – коммент). В своих двусловных высказываниях они по преимуществу следовали правилу упоминания деятеля (имени активно действующего лица, двигающегося предмета) до объекта (цит. по: Greenfield, Zukow 1978). Поскольку деятель (агенс) нередко перцептивно выделен (активный/двигающийся компонент ситуации), членение на семантические роли, возможно, генетически связано с перцептивным вниманием, однако позднее оно, безусловно, отделяется от своего источника. В языках как со сравнительно жестким, так и со сравнительно свободным порядком слов, например, в английском, немецком, русском, финском, венгерском, японском, тагальском 3—4-летним детям легче даются конструкции с препозицией агенса (Slobin 1970; Bowerman 1973; Pleh 1981; Hakuta 1982 – подробнее см.: Ахутина 1989). Не надо скидывать со счетов и тот факт, что дети в отличие от взрослых больше имеют дело с ситуациями здесь и сейчас, что облегчает выявление грамматико-семантических закономерностей.
Однако каков же механизм «борьбы с хаосом»? И в неречевой и в речевой сфере, я думаю, действует механизм схематизации. Введенное Генри Хэдом (Head), классиком нейропсихологии, понятие «схема» активно использовалось Ф. Бартлеттом, а за ним многими когнитивными психологами. Хэд, занимавшийся исследованиями афферентной чувствительности (в частности, с помощью проб на праксис позы руки и пальцев), под «схемой» понимал некий стандарт, относительно которого оцениваются любые изменения позы (в отношении артикуляции такими стандартами являются артикулемы). «Схема» является пластичным образованием, каждое движение «записывается» в ней так, что позволяет отслеживать все последующие изменения. Схемы модифицируют ощущения, вызываемые входящими сенсорными импульсами, таким образом, что, попадая в сознание, они содержат информацию о наличном состоянии в его отношении к состояниям предыдущим. В когнитивной психологии термином «схема» обозначается структура, которая организует конфигурацию данных. Ульрик Найссер (Neisser) полагает, что схема функционирует и как формат действия (он определяет к какому виду должна быть приведена информация, чтобы можно было бы дать ей непротиворечивую интерпретацию) и как план, но также и как исполнитель плана (подробнее см. Найссер «Познание и реальность» (1981) или отрывок из этой книги под названием «Схема» в хрестоматии «Психология памяти», 2000). Итак, дети «схематизируют», генерализуют получаемую информацию – неречевую и речевую, в последнем случае им помогают аналогии с правилами действия и внимания (Брунер) и понимание коммуникативной интенции в условиях общности когнитивного базиса (Томаселло). Все мы слышали или знаем из книжки К.Чуковского «От двух до пяти», что дети в этом возрасте упорядочивают слышимую речь и предпочитают «улиционера» милиционеру. По свидетельству С. Н. Цейтлин (2009), они заменяют уже известное слово пошла на «пошела» или «пойдила». Такие явления называются сверхгенерализацией (или сверхрегуляризацией), но ведь мы замечаем только ошибки детей, тогда как они только издержки процесса регуляризации грамматических явлений, т. е. «поиска структуры в хаосе». Подробнее об этом можно прочитать в почти 600-страничной монографии С. Н. Цейтлин «Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи» (2009).
Недоверчивый читатель может спросить, что же вы нам доказали, говоря о схемах, ведь и не речевые и речевые схемы могут быть врожденными, активно создаваемыми и включаемыми в процедурную память в сенситивные периоды развития ребенка. Ответ на этот вопрос читатель может получить в работах по культурно-исторической психологии, показывающей социальное происхождение всех высших психических функций человека, настраивание и выстраивание всех этих функций в социальном контексте (см., в частности, книгу М. Томаселло).
Если сравнить две книги серии о происхождении человека, а именно книгу М. Томаселло «Истоки человеческого общения» и книгу Д. Бикертона «Язык Адама», то можно сказать, что они взаимодополнительны в основном, хотя могут и не сходиться в частностях. Книга психолога Томаселло – о психологических предпосылках возможности формирования человеческого общения, он показывает, что язык человека вырастает на основе и вместе с развитием «способности участвовать с другими в совместных действиях с разделяемыми целями и интенциями». Книга лингвиста Бикертона, углубившегося в экологические предпосылки возникновения языка, раскрывает в соответствии с «теорией формирования ниш» отношения предков человека и среды, как проточеловек формировал новую нишу и сам формировался, адаптируясь к ней, создавая новые формы коллективного взаимодействия и общения.
Оба ученых разделяют мнение, что язык не рождается готовым, как Афина из головы Зевса. При этом реконструкция этапов становления грамматики у Томаселло совпадает с этапами формирования грамматики языка от пиджина к креольским языкам и далее к более сложным языковым системам у Бикертона. Обратимся к анализу первого этапа.
Первый этап – грамматика просьбы с ее «простым синтаксисом», по Томаселло. Ее коммуникативные средства – указательный жест (для обозначения объектов) и конвенциализированные интенциональные движения (движения намерения) – становящаяся все более условной пантомима (для обозначения событий). Сочетания жестов могли членить ситуацию, обычно это были события и их участники, но при этом без всякого маркирования их роли в высказывании в целом.
У Бикертона это иконические призывные жесты, которые, конвенциализируясь, могли составлять высказывания, организуемые как нанизывание бусин на нитку. Такого типа организация высказывания характерна для пиджина, и он настаивает, что в них нет ничего похожего на иерархическую структуру. При этом подобные «бусины на нитке» встречаются не только в пиджине или в протоязыке – по Бикертону, абзацы, страницы, главы, книги тоже нанизываются на одну нитку. Однако к этим утверждениям Бикертона возникают вопросы. Что, бусины на нитке разве не связаны разными смысловыми отношениями, в том числе иерархическими? Что, разве синтаксис текста не предполагает иерархическую структуру?
Бикертон пишет: «Мое преимущество было в том, что я пришел к проблеме эволюции языка от исследований пиджинов и креольских языков, обладая отчетливым знанием того факта, что носители пиджинов и креольских языков по-разному связывают слова между собой. Носители креольских языков связывают слова так же, как это происходит в полноценном человеческом языке: это иерархическая структура, похожая на дерево». Я пришла к чтению книги об эволюции языка от исследований речи у больных с афазией и интерпретации этих нарушений в свете концепции речемышления Л. С. Выготского (а еще от анализа индивидуально-типологических различий в развитии речи у детей). Мой опыт показывает, что есть наиболее грубая форма аграмматизма, сопоставимая с пиджинами, и есть менее грубая форма, сопоставимая с креольскими языками. Водораздел между ними состоит в появлении формальных правил выражения семантически значимых синтаксических отношений. Приведу примеры. В двух первых больные с грубым аграмматизмом составляют рассказ по серии картинок (в ней изображен дедушка, дарящий внукам шарик, и мальчик-пионер, сидящий рядом на скамейке и читающий книгу, далее шарик улетает и застревает в ветках дерева, а мальчик достает шарик).
Дети и внук… дедушка (больной исправляет лексическую ошибку)… и шар… и пацан… Дедушка! Дедушка! Шар! Шар! Журнал, нет, не журнал, книга… Пионер… скамейка… вот… Деду… увидел… дети… шар… замечательно… замечательно… лавка… шар… солнце.
1. Дедушка дает шар. Мальчик книга скамейка. Ребят(а) два – мальчик, девочка. Маленькие – девочка юбка, мальчик штаны. Дедушка борода. Москву улица. Этаж дома. 2. Ребята – ребята шар. Ребята шли на… на… нет… Мальчик и девочка. Солнце… Лавка. Дерево – два дерева… дом… урна… лес нет. 3. Дети шли. Шар упал, нет нитка… 4. Пионер – пионер шар дерево. Мальчик достал шар ветку. 5. Пионер шар – «На!». Ребята – очень спасибо.
Эти примеры очень похожи на высказывания на пиджине. Первый больной говорит однословными высказываниями и их сериями, второй строит серии из двух – четырех слов и использует остаточные навыки построения предложений. При этом ни одно синтаксическое правило не используется регулярно. Так, он строит несколько атрибутивных конструкций, где определяемое слово может стоять и до и после определения, то же самое с отрицанием (лес нет, нет нитка). Тем не менее, в обоих текстах видна смысловая связь. Больные говорят по правилам смыслового развертывания, выделяя и оречевляя наиболее субъективно значимые компоненты ситуации. При этом они используют структуру «топик – коммент», где топик может быть как выражен, так и подразумеваться (ср. мнение Е. Н. Ширяева (1981: 196) о рематичности конситуативных высказываний в разговорной речи и мнение А. А. Потебни (1958), что появление двусоставных высказываний – позднее приобретение в филогенезе языка).
В отличие от результатов анализа пиджина Бикертоном, в высказываниях больных с самым грубым аграмматизмом можно выделить иерархические структуры: «Ребят два – мальчик, девочка. Маленькие – девочка юбка, мальчик штаны». Это смысловые иерархические структуры, и такие структуры, можно думать, лежат и в основе построения абзацев и текстов. В актах предикации могут участвовать смысловые единицы разного размера, именно это имел в виду Л. С. Выготский, говоря о предикативном – смысловом – синтаксисе внутренней речи (см. собр. соч., т. 2, с. 341 и след.).
Теперь приведем пример речи больного, у которого есть формальные правила выражения семантически значимых синтаксических отношений. Он составляет рассказ по серии картинок Х. Бидструпа.
Мама и ребенок гулять. Мальчик играют пески. Мальчик идет в… на яму. Мальчик идет в лужи. Потом мальчик идет в ящик ящиком ящике. Мальчик сидит на с… скамейка окрашенная. Потом мальчик шел в бочку. Он дег… Он был деготь. Мама бежал в мальчик. Мальчик мылся – нет! – мыться к мальчик. Мама мыл в мальчик. Мальчик идет чистый. Мама удивителась – мальчик грязный.
Все предложения начинаются с выражения роли агенса. Правило «Первое имя в предложении – агенс», которое отмечено при овладении синтаксисом у детей (Слобин 1984) является первым правилом, которое обнаруживается у больных при переходе от смыслового синтаксиса к семантическому. В соответствии с ним больные строят контрастные пары: «Я пошла соседи, соседи пошли… я». Порядок слов используется и для противопоставлений определений и определяемого: отмечается тенденция к постановке определения после определяемого слова (см. выше «скамейка окрашенная»). Затем появляются попытки морфологически маркировать объект, что мы также видим в приведенном примере. Итак, анализ второго вида аграмматизма согласуется с высказанной Л. С. Выготским идеей, что в семантическом синтаксисе действуют «живые» семантически значимые категории.
Перед возвращением к Бикертону и Томаселло еще одно замечание, вытекающее из нейролингвистического анализа детской речи. Давно замечено и описано, что дети по-разному осваивают синтаксис, это разнообразие тяготеет к двум полюсам: одни дети предпочитают аналитический (референциальный) подход к языку, а другие – холистический (экспрессивный) подход (Bates et al. 1988; Ахутина 2005; Доброва 2009). Эти предпочтения связаны с неравномерностью развития высших психических функций у детей, благодаря которой у одних детей может преобладать аналитическая левополушарная стратегия переработки информации, а у других – холистическая правополушарная. Именно у детей с предпочтением первой стратегии в период овладения фразой из 2–3 слов обнаруживается четкое использование правила «Первое имя – агенс», высокая доля случаев сверхгенерализации правил слово– и формообразования, гиперупотребление существительных, появление структур S-O-V (Мама книжка читать). Дети с предпочтением второй стратегии легко копируют речь взрослых, передавая слоговую структуру слов и интонацию фраз. Поскольку они справляются и с повторением незнакомых слов (Доброва 2009), они более точно передают и грамматические элементы речи взрослых, которые могут нести или не нести для них грамматическое значение. В связи с этим освоение грамматических функций этими детьми менее наблюдаемо, оно скрыто готовыми стереотипами поверхностного синтаксиса.
Теперь после экскурсов в патологию речи и детскую речь вернемся к Бикертону и Томаселло и рассмотрим следующий этап становления языка и его грамматики.
Второй этап – грамматика информирования с ее «серьезным синтаксисом», по Томаселло. Высказывания на этом этапе предполагают возможность сообщения об отдаленном событии, поэтому вырабатываются средства идентификации объектов и событий, синтаксическое маркирование как кто кому и что сделал и способы выражения мотивов (информировать/спросить). Томаселло предполагает, что первые синтаксические средства, в частности «деятель на первом месте», возникли из «естественных принципов», использование которых связано с когнитивными предрасположенностями (в реальной жизни каузатор (causal source) обычно движется и проявляет активность ранее тех вещей, на которые он воздействует). Эти синтаксические средства далее были конвенционализированы.
Д. Бикертон раскрывает дальнейшее развитие грамматики, уподобляя его переходу от пиджина к креольскому языку. В книге «Язык Адама» он подчеркивает переход от стадии «нанизывания бусин» к построению иерархических структур. Этот переход мог быть обусловлен стремлением к более быстрой передаче информации. Сравнивая носителей пиджинов и креольских языков на Г авайях, Бикертон выяснил, что иерархически организованная речь может быть в три раза быстрее той, которая построена как бусины на нитке, поэтому, по его мнению, первой суждено было изгнать вторую, как только она приобрела жизнеспособность. Бикертон не раскрывает других особенностей креольских языков, поскольку сделал это в предыдущих книгах. Там он отмечает появление правил порядка слов и семантически значимых грамматических форм. Исследования разнообразных креольских языков, проведенные как Бикертоном, так и другими исследователями свидетельствуют о важном отличии этих языков от традиционных: в креольских языках меньше или нет совсем грамматических флексий и нет семантически не прозрачного (semantically opaque) словообразования (Bickerton 1983; McWhorter 1998). Для читателя не-лингвиста поясню последнее утверждение на примере. В английском языке есть флексия (окончание) – s, обозначающая множественное число существительных (семантически значимая грамматическая категория) и есть флексия – s, обозначающая третье лицо глагола в настоящем времени (формальный признак согласования) – в соответствии с этим утверждением можно предполагать, что флексии первого типа есть в креольских языках, а второго типа отсутствуют. Кстати, омонимичные флексии – s, по-разному ведут себя у англо-говорящих больных с аграмматизмом: форма множественного числа намного проще для больных, чем оформление семантически не прозрачного глагольного согласования, хотя обе эти флексии очень частотны (Goodglass 1976). У русскоязычных больных, находившихся под нашим наблюдением, возможность обнаружить ошибку в числе существительных появлялась при восстановлении значительно раньше, чем в оформлении глаголов (Старик бросал туфли – один). Такие примеры можно продолжить, но мне кажется, что сказанного уже достаточно, чтобы согласиться с мнениями Бикертона и Томаселло, что «простой» и «серьезный» синтаксис (синтаксис пиджинов и возникающих из них креольских языков) различаются наличием семантически значимых грамматических категорий, «живых» категорий семантического синтаксиса, по Выготскому. Однако креольские языки по мере расширения сфер их использования не могут не меняться и не переходить на третий этап.
Третий этап – грамматика нарратива с ее «искусным» синтаксисом, по Томаселло. Раскрывая особенности перехода от «серьезного» к «искусному» синтаксису Томаселло говорит о конвенционализации языковых конструктов. Выготский вслед за современными ему лингвистами Г. Паулем и Г. Фослером говорит, что «грамматические категории представляют до некоторой степени окаменение психологических», т. е. «живых», семантически мотивированных категорий. Это «окаменение» идет в каждом креольском языке по-разному, что позволяет нам вернуться к другим вопросам, поставленным Д. Бикертоном.
Я думаю, что читателю, знакомому с работами Н. Хомского, будут интересны полемические замечания Бикертона, интересны тем более, что оба лингвиста находились долгое время по одну сторону баррикад в спорах по вопросу о врожденности языковой способности.
Подведем итоги. Представляемая читателю книга, написанная лингвистом, представляет междисциплинарное исследование предпосылок возникновения языка. Она вставляет проблему возникновения языка в рамки новой эволюционной теории – теории «возникновения ниш», которая показывает активность животных в построении ниш: животные их формируют и сами формируются, адаптируясь к ним. В рамках именно этой теории можно выдвинуть непротиворечивую гипотезу о том, почему могла возникнуть потребность в языке и как она могла возникнуть, каков был первый шаг от коммуникативных систем животных к «языку Адама». Если Вас, уважаемый читатель, интересуют эти вопросы, я рекомендую Вам прочитать книгу Дерека Бикертона.
Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1989.
Ахутина Т. В. Речевой онтогенез с точки зрения нейропсихологии нормы // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология / Под ред. Л. И. Беляковой. М.: Прометей, 2005. С. 4—11.
БрунерДж. Онтогенез речевых актов // Психолингвистика. М.: Прогресс, 1984. С. 21–49.
Бурлак С. А. Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы. М.: Астрель, 2011.
Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии поведения: Собр. соч. Т. 1. 1982. С. 78–98.
Выготский Л. С. Мышление и речь: Собр. соч. Т. 2. 1982. С. 5—361.
Доброва Г. Р. О вариативности речевого онтогенеза: референциальная и экспрессивная стратегия освоения языка // Вопросы психолингвистики. № 9. 2009. С. 53–70.
Найссер У Познание и реальность. М., 1981.
Найссер У. Схема // Психология памяти / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: ЧеРо, 2000. С. 325–349.
Перехвальская Е. В. Сибирский пиджин (дальневосточный вариант). Формирование. История. Структура // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. СПб., 2006.
Пинкер С. Язык как инстинкт. Пер. с англ. / Общ. ред. В. Д. Мазо. М.: Едиториал УРСС, 2004.
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I, II. М., 1874/1958.
Слобин Д. И. Когнитивные предпосылки развития грамматики // Психолингвистика. М.: Прогресс, 1984. С. 143–207.
Томаселло М. Истоки человеческого общения / Пер. с англ. М. В. Фаликман и др. М.: Языки славянских культур, 2011.
Цейтлин С. Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: Знак, 2009.
Чуковский К. И. «От двух до пяти». 8-е изд. Л.: Советский писатель, 1939.
Ширяев Е. Н. Синтаксис // Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь / Под ред. Е. А. Земской. М.: Наука, 1981.
Bates E., Bretherton I., Snyder L. From first words to grammar. Individual differences and dissociable mechanisms. Cambridge, 1988.
Bowerman M. Early syntactic development: A cross-linguistic study with special reference to Finnish. Cambridge, 1973.
Goodglass H. Agrammatism // H. Whitaker, H. A. Whitaker (eds.). Studies in neurolinguistics. Vol. 1. 1976. P. 237–260.
Greenfield P.M., ZukoffP. Why do children say what they say when they say it? An experimental approach to the psychogenesis of presupposition // K. Nelson (ed.). Children’s language. Vol. 1. N. Y.: Gardner Press, 1978.
Hakuta K. Interaction between particles a word order in the comprehension and production of simple sentences in Japanese children // Developmental Psychology. Vol. 18. 1982.
Kegl J. Language Emergence in a Language-Ready Brain: Acquisition Issues // G. Morgan, B. Woll (eds.). Language Acquisition in Signed Languages. Cambridge University Press, 2002. P. 207–254.
Kegl J., Senghas A., Coppola M. Creation through contact: Sign language emergence and sign language change in Nicaragua // M. DeGraff (ed). Comparative Grammatical Change: The Intersection of Language Acquisition, Creole Genesis, and Diachronic Syntax. Cambridge, MA: MIT Press, 1999. P. 179–237.
McWhorter J. H. Identifying the creole prototype: Vindicating a typological class // Language. Vol. 74. № 4. (1998). P. 788–818.
O’Donnell W. R., ToddL. Variety in contemporary English. London, 1980.
Odling-Smee J., Laland K. N., Feldman M. W. Niche Construction: The Neglected Process in Evolution. Princeton University Press, 2003.
Pleh C. The role of word order in the sentence interpretation of Hungarian children // Folia linguistica. T. XV. Mouton Publishers, 1981. 3–4.
Slobin D. I. Universals of grammatical development in children // Advances of Psycholinguistics / G. B. Flores D’Arcais, W. J. M. Levelt (eds.). Amsterdam; London: North Holland Publishing Company, 1970. P. 174–186.
Т. В. Ахутина
Введение
Это можно попробовать сделать у себя дома.
Для этого не требуется ни специально составленного курса, ни защитного оборудования, ни медицинской помощи.
Это то, что называется мысленным экспериментом. Мысленные эксперименты имеют жизненно важное значение для науки. Без мысленных экспериментов у нас никогда бы не было теории относительности. Если бы Эйнштейн не представил себе, как выглядит полет верхом на луче света или что случилось бы, если бы два гангстера выстрелили друг в друга, когда один находится в движущемся лифте, а другой снаружи, мы бы по сей день жили с Ньютоновской вселенной.
Данный мысленный эксперимент очень прост. Вам только надо на мгновение представить, что ни у вас, ни у кого-либо еще нет языка.
Обратите внимание, не речи. Языка.
Для кого-то это синонимы. У меня падает сердце всякий раз, когда я открываю новую книгу по эволюции человека, листаю до оглавления и нахожу ссылку «язык: см. речь». «Да речь не смотрят, идиот! – так и хочется мне закричать. – Речь слышат». Можно обладать речью, которая не будет иметь ни малейшего смысла – как у многих попугаев. Речь – это всего лишь одно из средств передачи языка. Другим являются мануальные жесты. (Я имею в виду структурно организованные жестовые языки глухих, такие как американский жестовый язык, а не спонтанные жесты слышащих людей.) Именно язык определяет значения слов и жестов и объединяет их в осмысленные фразы, из которых составляются разговоры, публичные выступления, эссе, эпические поэмы. Но на этом язык не останавливается: он делает мысли по-настоящему осмысленными, встраивает идеи в структурированное целое. (Если это вызывает у вас сомнения или вы чувствуете здесь некоторую натяжку, просто дочитайте эту книгу до конца.) Даже если вы думаете, что мыслите образами, именно язык складывает образы вместе и создает осмысленное целое вместо беспорядочной, запутанной массы.
Попробуйте представить, как бы вы делали привычные вещи, не имея языка. Как бы писали письма (электронные или обычные). Отвечали на телефонные звонки. Говорили с близкими. Собирали по инструкции новое устройство, которое только что купили. Читали дорожные знаки (хорошо, некоторые из них являются графическими символами, но их значение не очевидно – сначала надо выучить с помощью языка, что, если рисунок пересечен диагональной линией, значит, того, что он изображает, делать нельзя). Играли бы в игры (перед этим выучив правила, устные или письменные, с помощью языка). Ходили бы в магазин (вы бы даже не смогли прочитать этикетки на банках; на самом деле, не было бы и самих этикеток, если вообще был бы магазин). Заучивали наизусть то, что говорите боссу в свое оправдание, когда опаздываете на работу. Список можно продолжать до бесконечности. А когда вы дойдете до конца, вот что вы обнаружите: все привычные вам действия, всё, что делает вас человеком, каждая из бесчисленного множества вещей, которую вы можете сделать, а особи другого вида не могут, всецело зависят от языка.
Язык – это именно то, что делает нас людьми.
Возможно, это вообще единственное, что делает нас людьми.
Еще это самая великая научная проблема.
Вы не согласны? Тогда что, на ваш взгляд, входит в число самых великих научных проблем? Как возникла жизнь? Как зародилась Вселенная? Есть ли где-либо еще во Вселенной разумная жизнь? Без языка мы не смогли бы задать ни одного из этих вопросов. Как у нас появился язык – вот вопрос, который логически предшествует всем другим научным вопросам, потому что без языка не было бы вообще никаких научных вопросов. Как мы можем знать, насколько ценны наши ответы на эти вопросы, если мы даже не знаем, как у нас так получилось, что мы можем их задавать?
С незапамятных времен люди размышляли над тем, что значит быть человеком. Предлагались все мыслимые ответы, а также некоторые немыслимые. Платон определил человека как двуногое существо без перьев, а Диоген опроверг его, ощипав петуха. В 1758 году Карл Линней, шведский ботаник, предложивший первую классификацию видов, назвал нас Homo sapiens – человек разумный, а позднее, когда было открыто разветвленное древо эволюции человека и нам надо было отделить себя от неандертальцев и «ранних» Homo sapiens (которые считаются нашими общими предками), мы стали Homo sapiens sapiens – разумнейшие из разумных. (Оглядитесь вокруг и скажите мне, считаете ли вы, что это так.) Наберите «человек» в онлайновой Британской энциклопедии и прочтете: «примат, носитель культуры, анатомически схож и генетически родственен с другими высшими приматами, но отличается более высокоразвитым мозгом, вследствие чего способен на членораздельную речь и абстрактное мышление». Вот уж воистину, «вследствие чего»! Это одно из тех замечаний, вроде «солнце встает на востоке», которые кажутся понятными, пока вы не спросите сами себя: а что же там происходит на самом деле?
Дарвин знал уже полтора столетия назад, что в Британской энциклопедии все описано с точностью до наоборот – не «высокоразвитый мозг» привел к возникновению у нас языка (не речи!) и абстрактного мышления, а язык привел к появлению абстрактного мышления и высокоразвитого мозга. «Если бы можно было показать, что известные высшие умственные способности, как, например, самосознание, формирование общих представлений и пр., свойственны исключительно человеку, что крайне сомнительно, то не было бы невероятным допущение, что эти качества являются привходящим результатом других высокоразвитых интеллектуальных способностей, а последние представляют, в свою очередь, результат постоянного употребления совершенной речи».
Никто не пошел по этому пути. И без того перспектива иметь обезьяну в прапрадедушках мало кого могла порадовать, а тут вообще могло бы оказаться, что единственным настоящим различием между ними и нами было то, что мы можем говорить, а они – нет. Гораздо более лестно для собственной самооценки было предположить, что наши необыкновенные мозги и разум просто, взяли и выросли, становились все умнее, а затем из них, как из рога изобилия, полились идеи и изобретения, наука и литература и все то, что подтверждало наш статус разумнейших из разумных. Так что мы бессчетное число раз слышали, что мы, как люди, отличаемся сознанием, самосознанием, способностью к прогнозированию и к ретроспекции, воображением, способностью логически мыслить и планировать и так далее. И ни слова о том, как возникли эти чудесные способности. Это, возможно, заставило бы нас по-настоящему взглянуть на язык и на то, как он возник и что он для нас сделал. И хотя убежденность в том, что язык является лишь одним из продуктов нашего замечательного мозга, не была всеобщей, такое мнение было достаточно распространенным, из-за чего проблема происхождения языка стала казаться изолированной проблемой, которую можно отделить от всей эволюции, даже от всей эволюции человека, и разгадать на досуге, в отсутствие более насущных дел.
Те, кто пишут о происхождении языка, слишком часто игнорируют один важный момент, которому я, напротив, придаю особое значение в этой книге. Суть его в том, что эволюция языка является частью эволюции человека и имеет смысл только тогда, когда рассматривается как часть эволюции человека.
Еще одна причина, по которой люди не решались серьезно взяться за проблему эволюции языка, – то, что это очень сложная проблема. Неразрешимая, как говорили некоторые. В 1967 году психолог Эрик Леннеберг (Eric Lenneberg) опубликовал книгу, почти во всем превосходную, которую назвал «Биологические основания языка» («Biological Foundations of Language»). Вы, конечно, подумаете, что в книге с таким названием где-то должна быть подсказка или хотя бы предположение о том, как эти основания были основаны – как в кузницах биологической эволюции был выкован такой исключительный продукт. Но там ничего нет: Леннеберг заключил (с этим всегда спешат в науке), что перед нами вопрос, ответа на который никогда не будет найдено. Даже два исследователя эволюции языка в своей совсем недавней работе описали возникновение языка как «самую сложную проблему в науке». Язык не оставляет ископаемых следов. С ним невозможно провести эксперимент (по крайней мере, этически приемлемый). Язык существует в единственном роде, это по-настоящему уникальное свойство. А этого опасаются все ученые, так как это значит, что нельзя использовать сравнительные методы, а сравнивать похожие, но слегка отличающиеся друг от друга вещи – одна из наиболее продуктивных процедур в науке.
Поэтому неудивительно, что попытки объяснить, как возник язык – а за последние несколько лет их число возросло – разошлись по десяткам направлений. А также неудивительно, что все эти объяснения избегали касаться сути проблемы. Вы можете прочитать бесконечные описания того, какими навыками и способностями должны были обладать наши предки, чтобы у них появился язык, или какой тип естественного отбора мог поспособствовать возникновению языка; еще вы можете прочитать не такие бесконечные и не такие подробные описания того, как развивался язык после своего возникновения. Но очень мало и очень неясно написано о том, что я однажды назвал «волшебным мигом», – о моменте, когда наши предки впервые отказались от коммуникативной системы, подобной тем, что служили всем другим видам на протяжении более полумиллиарда лет.
Самая большая загвоздка даже не в том, что нужно понять, как, собственно, возник язык.
Особые трудности вызывает необходимость ответить на два вопроса, имеющих, на первый взгляд, весьма далекое отношение к языку, но непременно возникающих, если мы хотим ясно понимать, чем же на самом деле является наш объект исследования (а также – чем он не является). Первый вопрос связан с тем, как эволюция в целом и эволюция человека в частности представлены в неодарвинизме прошлого века. Я остановлюсь на этом немного подробнее. Во-первых, я бы хотел обратиться к проблеме, которая многим, если не большинству, покажется гораздо более важной и требующей срочного решения: к статусу человеческого вида.
Какова его роль в эволюции языка?
Вы правы – никакой. И все же волей-неволей эволюция языка вовлечена в культурные войны, в великую и все еще не оконченную битву между теми, кто желает, чтобы все всегда оставалось неизменным, и теми, для кого события сменяются недостаточно быстро.
До начала прошлого века несогласных с устоявшимся взглядом на «место человека в мире» было немного. Человеческое существо, всегда рассматриваемое только с одной стороны, представляло собой нечто среднее между ангелом и обезьяной, которому дарована бессмертная душа (в отличие от животных) и уготована вечная жизнь (опять-таки в отличие от животных), да и вообще – исключительный статус единственного в своем роде, специально сотворенного любимчика Всевышнего. Не стоит и говорить, что интеллектуальные (и моральные) качества этих помазанников Божьих затмевали скромные возможности простых животных, как солнце затмевает луну.
С распространением идей Дарвина подобное понимание статуса человека становилось все более и более шатким. Зато постепенно нарастало влияние альтернативного взгляда на человеческую природу: человек – это один из приматов, как и все прочие существа, он прошел через жернова естественного отбора, и ничто не делает его значимее других, равно как и нет ничего действительно важного, что существенно отличало бы его от других тварей.
Вначале последняя позиция способствовала значительному оздоровлению утверждения о превосходстве человека. Но вскоре между ними развернулась борьба не на жизнь, а на смерть. А на войне объективность становится второй невинной жертвой – сразу после правды.
Существовал план (хватит уже молоть сверхъестественную чепуху!). И существовала догма (всегда и везде эволюция была медленным и постепенным процессом). С точки зрения рациональной науки (или, если вы по другую сторону баррикад, – с точки зрения безбожного материализма) взаимодействие плана и догмы дало в результате единую программу. Стало необходимым отрицать какие бы то ни было различия между человеком и другими созданиями, если имелась хоть малейшая возможность их интерпретации в пользу превосходства человека. А все факты, которые уже были так проинтерпретированы, теперь должны быть переосмыслены как результат незначительных изменений, проявившихся у предков человека и других близкородственных видов, чьи истории просто-напросто нужно подтянуть с помощью «предшественников» и «мостиков» к любой способности, рассматриваемой как исключительно человеческая. Не может быть ничего похожего на резкий скачок. Отдельные несознательные личности, скрепя сердце, дадут право на существование маленькому скачку в развитии языка, но даже здесь большинство верит в то, что язык каким-то образом последовательно образовался из не-языка – имея предшественников и перекидывая мостики, но отнюдь не пересекая Рубикон.
Было наложено табу на все остальное – на любую поддержку и содействие, даже на молчаливое согласие с теми, кто все больше и больше воспринимался как враг, с теми, кто все еще верил в возникновение человека в результате уникального акта творения. Как я не устаю везде писать, предположение о том, что разрыв между языком и не-языком есть только часть гораздо большего разрыва, находится на шкале политкорректности где-то между отрицанием Холокоста и непризнанием глобального потепления. Несмотря на то, что, по словам бесстрашной тройки исследователей, «человек – и никакое другое животное – использует колесо и приручает огонь, разбирается в болезнях сородичей, общается при помощи символов, ориентируется по карте, рискует своей жизнью во имя идеалов, сотрудничает с другими, описывает мир в терминах вероятных причин, наказывает незнакомцев за нарушение законов, придумывает возможные сценарии и учит всему этому других». Всему этому и многому другому: этот список, созданный Дереком Пенном (Derek Penn) и его коллегами, лишь поверхностно описывает все то, на что способен человек и к чему даже не приближаются никакие другие виды.
Если бы разрыв между человеком и другими животными был настолько невелик, как нам внушают, в чем же могло заключаться это малейшее различие, благодаря которому мы можем столь много, а животные – столь мало? Насколько мне известно, никто из тех, кто убежден в непрерывности развития человека и животных, не только не признавал, но никогда даже не осознавал, что провозглашенное множество человеческих способностей становится еще более загадочным.
Означает ли это, что нам нужно признать некое всесильное божество или какого-то загадочного Всемогущего Творца?
Конечно же, нет. Доказательства существования эволюции слишком сильны, они слишком широко распространились: однажды совершенно нормальные эволюционные процессы каким-то образом создали различие между нами и животными, в чем бы оно ни состояло. Мы просто были слишком ленивы. Мы не проявили должного усердия. А в интересах догмы мы распрощались с объективностью. Разрыв существует, и он не ограничивается языком, а распространяется на все аспекты человеческого мышления. Для начала мы должны признать его существование. Затем нам предстоит понять, как он мог быть порожден в процессе эволюции.
В природе небольшое изменение может привести к переходу вещества в другое состояние. Снижение температуры на несколько градусов превращает воду в лед. Увеличьте ее на несколько градусов – и вода превратится в пар. Пар, вода и лед – субстанции, ведущие себя совершенно разным образом, и несмотря на это, разделяют их лишь несколько делений ртутного столбика.
Или возьмем, к примеру, живых существ – насекомых, способных летать. Никто в точности не знает, как они приобрели такое свойство. Может, в результате изменения перепонок, которые имелись у них в прошлой жизни – в водной стихии, и их роста до тех пор, пока они не обеспечили возможность парить? Может быть, вибрирующие части тела, предназначенные для охлаждения, в один прекрасный момент подняли насекомых в воздух? Что бы ни случилось, эти первые полеты должны были длиться всего лишь мгновения, но преграда была сломлена, и перед ними открылись совершенно новые области, не имеющие пределов. Вот вам и разрыв в континууме.
Развитие человеческого мозга ускорил психический аналог полета.
Пенн и его соавторы предположили, что существовали два разрыва, а не один: частный разрыв, связанный с языком, и более общий, связанный с познанием. Они не могли понять, как первый мог стать причиной второго. Они не показали и то, как второй мог вызвать первый. С чем они не справились – так это с абсолютной невозможностью того, что в одном-единственном, в остальном совершенно неприметном, роду ходящих по земле приматов могли возникнуть два эволюционных разрыва такого масштаба.
Это не имеет никакого смысла. И одного было бы более чем достаточно. В этой книге я впервые собираюсь показать вам не только то, как произошел язык, но также и то, как язык стал причиной развития человеческого мышления.
Но почему все это произошло?
Если предки человека вырвались из оков коммуникативной системы, которая служила верой и правдой всем остальным видам в течение полумиллиарда лет, их к тому вынудила некая необходимость – это должна была быть, безусловно, очень сильная нужда, которая привела к таким радикальным последствиям. Возможно, им удалось развить новый вид поведения, для которого требовалось общение способом, выходящим за пределы существовавших систем коммуникации. Но общепризнанное в неодарвинизме двадцатого века положение, похоже, отрицает любую возможность такого развития.
По словам Джорджа Уильямса (George Williams), иконы современной эволюционной биологии, «приспособление всегда асимметрично; организмы приспосабливаются к окружающей их среде, и никогда – наоборот». В свете имеющихся фактов это звучит неопровержимо: как может окружающая среда – скалы и деревья, ветер, дождь и солнце – приспособиться к вам с нами? Но следствие утверждения Уильямса, поддерживаемое многими эволюционистами, заключается в том, что эволюция приобретает одностороннее движение. «Приспособление» звучит так, как будто организмы делают что-то позитивное, но имеется в виду вовсе не это. Имеется в виду, что животные, и мы в том числе, не творцы своей судьбы, а продукты механического выбрасывания случайных генетических рекомбинаций и время от времени случающихся мутаций, из которых среда отбирает наилучшие. Это и есть естественный отбор. Никакие действия животных не имеют значительных последствий и влияний. Эту точку зрения на эволюцию наиболее радикально сформулировал Ричард Докинз (Richard Dawkins): «эгоистичные гены, гены – это все».
Теперь, если все, что я только что описал, и есть вся суть эволюции, не будет никакого смысла искать в истории человека какое-то особое, уникальное поведение, которое могло привести к появлению языка. Такого просто не могло существовать. Наши предки просто должны были продолжать спариваться, чтобы перекомбинировать свои гены и отсеивать необычные мутации, пока в один прекрасный день они не сорвали бы джекпот и одна из комбинаций не сделала бы возможным появление языка, пусть и в самой простой его форме. А затем, как только они получили бы язык, произошло бы то, что по-французски зовется embarras du choix, бездна выбора, – слишком много вещей, для которых использование языка было бы полезным. Охота, создание орудий, социальные взаимодействия, ритуалы, сплетни, плетение интриг для получения власти, привлечение особей противоположного пола, воспитание детей. Все это и многое другое предлагалось в качестве первоначальной функции языка. Помимо прочего, все эти виды деятельности есть и у других приматов. А поскольку мы также являемся приматами и обладаем генами приматов и поскольку гены приматов определяют поведение, то нет никакого смысла вести поиски за пределами наших ближайших родственников, человекообразных обезьян (преимущество которых перед нашими непосредственными предками в том, что они живы по сей день и доступны для изучения), если мы хотим узнать, как возник язык.
Айрин Пепперберг (Irene Pepperberg), которая показала, что по крайней мере один вид попугаев имеет такие же способности к языку, как и обезьяны, назвала этот подход к эволюции языка «приматоцентризмом».
Давайте присмотримся к утверждению Уильямса более внимательно. «Организмы приспосабливаются к окружающей их среде». Не к среде, заметьте, а к окружающей их среде. Среда как целое никого не отбирает (погода на Аляске не интересует гавайских вьюрков). Биологический вид подвергается воздействию только той среды, которая непосредственно его окружает. Но эта среда тоже, в свою очередь, меняется и порой радикально, благодаря населяющим ее видам. Козлы повреждают деревья. Черви обогащают почву. Бобры затапливают долины. Морские птицы так густо удобрили остров Науру, что теперь, когда жители распродали весь верхний плодородный слой почвы, от острова почти ничего не осталось. Таким образом, обеспечивает естественный отбор не абстрактная «среда» вообще, а часть среды, которая уже подверглась интенсивному преобразованию со стороны своих обитателей. То, что живые организмы сделали с этой средой, затем будет отбирать характерные особенности этих организмов, позволяющие им и дальше преобразовывать среду, что, в свою очередь…
Понятно, к чему я клоню? Таким способом устанавливается постоянное взаимовлияние, постоянная обратная связь.
Поэтому эволюция – это больше не эгоистичные гены, бездумно воспроизводящие себя. Это процесс, в котором действия животных направляют их собственное развитие. Такой взгляд на эволюцию оказывается гораздо более удобным для пользователя, но вы должны принять его не поэтому. А потому, что он ближе к истине.
Только в последние несколько лет начала развиваться эта точка зрения, известная среди биологов как теория формирования ниш, и она все еще плохо известна за пределами биологии. Никто еще не использовал ее для рассмотрения эволюции языка. В пятой главе я расскажу, в чем заключается теория формирования ниш. Все, что нам нужно сейчас, так это радикальное изменение взгляда на эволюцию человека, которое она дает. Эволюция человека и сложная человеческая культура как продукт этой эволюции больше не является аномалией, единственной в своем роде. То, что дает ей толчок, теперь может рассматриваться как процесс, происходящий и у множества других видов, а возможно, и у большинства.
Культура человека – это просто его ниша.
Это способ, которым мы адаптируем окружающую нас среду под себя, точно так же, как сложные постройки муравьев и термитов – их способ адаптировать свою среду под себя. Мы используем для этого научение, они делают это инстинктивно, вот и вся разница. Мы можем обучаться только потому, что у нас есть язык, к настоящему моменту ставший таким же инстинктом, как и строительство муравейника. А язык как таковой – прекрасный пример формирования ниши.
Эта теория предполагает, что до сих пор мы искали истоки языка в неверных местах. Предыдущие попытки попадают в одну из следующих двух категорий. Язык рассматривается либо как некий экзотический подарок, упавший на нас с неба по не вполне понятным причинам, либо как простая и, безусловно, полезная вещь, в отборе которой могли поучаствовать десятки факторов. На следующих страницах мы встретимся с обоими типами объяснений и увидим, что не так с каждым из них.
С высоты теории формирования ниш язык можно рассматривать только как логичное – может быть, даже неизбежное – следствие некоторых довольно специфических выборов наших предков и некоторых очень конкретных их действий. Чтобы быть более точным, они должны были начать делать нечто, что не пытались делать никакие другие виды с более или менее сравнимыми возможностями мозга, нечто, что не могло быть сделано без некоего преодоления ограничений, имеющихся в подавляющем большинстве систем коммуникаций других животных. И, конечно же, как только этот прорыв был совершен, как только система нового типа была образована, они переместились в новую нишу – в языковую нишу. Не имеет значения, насколько грубой и примитивной была первая такая система, она также подверглась все тому же взаимовлиянию поведения на гены, генов на поведение, и снова поведения на гены, которое возникает во всех процессах формирования ниш. Язык изменялся, рос и развивался, пока не превратился в бесконечно сложный, бесконечно тонкий инструмент, который мы все сегодня знаем и используем (практически бесплатно!) в нашей повседневной жизни.
При написании этой книги я преследовал две цели.
Во-первых, я имел непреодолимое желание убедить вас в том, что язык – ключ к тому, что значит быть человеком, и что без понимания того, как сформировался язык, мы никогда не сможем понять самих себя. Я говорю это не потому, что эволюция языка занимала мои мысли на протяжении последних нескольких десятилетий. Как раз наоборот. Главной причиной, по которой я думал об эволюции языка последние лет двадцать, является в основном мое убеждение, что в нем лежит ключ к пониманию человеческой природы. Я не обязан был этим заниматься. Я делал это не из-за денег, да и вряд ли бы я много этим заработал. Я вполне мог бы растянуться в шезлонге у бассейна, потягивая коктейль «Маргарита», и весело провести остаток жизни. Но мое желание убедить вас всего лишь отражает мою собственную страсть к познанию, пониманию того, чем же является человек, – потребность, которая была у меня всю жизнь.
Во-вторых, я хотел избавиться от некоторых из множества факторов, запутывающих и сбивающих с толку исследователей эволюции языка, превративших эту область в хаос противоборствующих теорий, экстравагантных заявлений и непримиримых позиций. Один из этих факторов я уже упоминал: это «приматоцентризм», оказавший влияние на многих ученых, сосредоточенных исключительно на непрерывности связи наших генов с генами человекообразных обезьян и игнорирующих все средовые и экологические различия между нашими и их предками.
Еще один фактор, тесно связанный с предыдущим, это мнение, что системы коммуникации других животных составляют некую иерархию, «пирамиду» с языком человека на вершине. Мнение, что системы коммуникации других животных не более чем серия неудачных попыток создать язык: они делали все, что могли, но были недостаточно способными для этого, и только мы умны настолько, чтобы покорить эту вершину, – такую точку зрения можно назвать «человекоцентризм». Исследователи редко сознаются в этом, но ее можно углядеть во многих теориях. Нужно только присмотреться к людям, говорящим о «предшественниках» того или иного аспекта языка, или к тем, кто ищет «ступеньки, ведущие к языку» в коммуникации других видов: это явные признаки человекоцентризма.