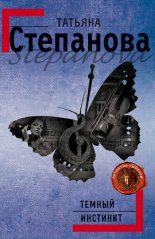Имаго Никитин Юрий
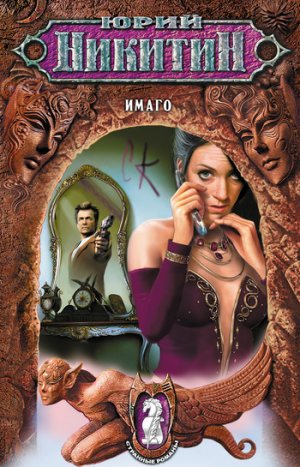
– Не стыдно?
– Батя, теперь ничего не стыдно.
– Я вижу…
– Стыд отменен, – сообщил я. – Свобода уже дошла до… края!
– И что теперь?
– А теперь еще и за край, – сказал я. – Как лемминги.
– Эх ты, – укорил отец. – Ладно, беги, леммингуй… Я тут посуду помою, посмотрю новости да поеду, а то меня уже заждались.
Я поспешно обулся, выскочил на площадку. Оба лифта ходят между этажами, гудят, я не один такой любопытный, наконец дверцы нехотя распахнулись, по дороге втиснулись еще четверо, все радостно возбужденные, на третьем этаже лифт остановился, мы хором закричали, что здесь уже и так перегруз, а с третьего и пешком можно, вон пузы какие, зато похудеете…
Из домов выходил народ, а по проезжей части улицы текла нескончаемая огненная река. Молодые ребята и девушки, одетые как на дискотеку, шли с факелами в руках, что-то весело выкрикивали, смеялись, дурачились. С тротуара им тоже весело кричали, махали руками. В воздухе стоял бодрящий запах древесной смолы.
Факельное шествие двигалось в сторону Центра района. Большинство высыпавших на тротуар осталось на месте. Когда все пройдут, можно вернуться к телевизорам, там сейчас сразу по трем каналам футбольные матчи, еще по одному – бейсбол и соревнования по спитфлаю; я оглянулся на дом; к работе не лежит душа, а заняться особенно нечем: сериалы по жвачнику смотреть – не настолько еще опустился…
Похоже, пока раздумывал, рефлексы решили за меня, я обнаружил себя шагающим по тротуару параллельно факельной молодежи. Странно, совершенно нет машин, чья-то могучая волосатая рука сумела направить автомобильные потоки по другим улицам. Оглянувшись, увидел, что еще несколько человек идут по тротуару, не отдаляясь и не присоединяясь, любопытствуя… Нет, вот один мужчина сошел на проезжую часть, факельщики приветствовали веселыми воплями, сунули в руки целое полено, зажгли от соседних факелов. Ближайшая девушка чмокнула в щеку, и вот он шагает, на одного в факельном шествии стало больше.
Возле «кишки», так по-старому называют гигантский супермаркет, то и дело меняющий названия, на тротуаре среди зевак удобно устроился человечек, которого я не сразу узнал – Легунов, юрист, бывший мой коллега, потом подыскавший себе местечко адвоката, затем что-то еще, уже сомнительное, зато доходное. Я знал его худым и сгорбленным, а сейчас на краю тротуара румяный жизнерадостный толстячок отечески посматривает на факельное шествие, покровительственно помахивает дланью, будто принимает парад. Я ткнул его в бок, он испуганно шарахнулся, будто ощутил между ребер холодный ствол пистолета, потом узнал, засмеялся:
– Бравлин! Сто лет тебя не видел. И ты с ними?
– Не совсем, – ответил я. – Я попутчик вроде бы. Во времена Маяковского были так называемые попутчики…
– А кто такой Маяковский?
Я покачал головой.
– Ого, русская юриспруденция еще не растеряла чувство юмора? Ты идешь или остаешься?
– А ты собираешься провожать до самой площади?
– До площади? Так близко? Тогда я пойду в самом деле.
Он поколебался, махнул рукой:
– Надеюсь, это у них не на всю ночь. Мне завтра вставать рано…
– Завтра выходной!
– Увы, у меня рабочий. Но ты прав, эти правильно выбрали субботу. Чтобы сейчас хоть до утра, а завтра можно отсыпаться всласть.
Мы неспешно шли вровень с серединой колонны. Нет, она все-таки понемногу нас обгоняет, но, оглядываясь, я видел длинный хвост, так что на площадь прибудем даже раньше, чем последние энтузиасты.
– Что за шествие, – спросил я. – Что-то мне смутно знакомо, но никак вспомнить не могу…
Он расхохотался.
– Вот видишь, надо чаще телевизор включать. На площади будет аутодафе!
– Что… людей? Уже?
– Нет, всего лишь книги. Но я бы и людей сжег, которые осмелились напечатать такую мерзость!
Улица закончилась, на каменном просторе площади собралась толпа веселой горланящей молодежи. Почти все с баночками «пепси» в руках, теперь это признак хорошего тона и лояльности. Челюсти двигаются в одном ритме, жуют, жуют, жуют. Когда работают челюсти, кровь отливает от мозга к этим работающим мышцам, наступает то хорошее бездумное состояние, что так ценится ныне: хорошо и ни о чем не надо думать!
Легунов начал энергично протискиваться вперед. Впрочем, толкаться не пришлось, все стоят разрозненными группками, молодняк этого дня не ходит поодиночке, всегда стайками, хотя бы вдвоем, но не в одиночку. В одиночку каждый хотя бы смутно ощущает себя тем, кто он есть, а когда стайкой, то всегда чем-то занят, чтобы не думать о себе, вообще не думать, а только жить и радоваться общению, что, как кто-то сказал и написал большими буквами, – есть самое большое сокровище человека.
Я увидел наконец огромный столб, к которому привязаны три человека… я содрогнулся, на миг показалось, что не куклы вовсе, ревущее пламя, жар, свет, праздничное настроение, багровые и оранжевые отблески огня на лицах восторженных молодых ребят и девушек.
Подъехал самосвал, народ разбегался, давая дорогу с веселыми воплями. Самосвал остановился в десятке шагов от костра, загудел, край кузова начал подниматься. Задний борт под давлением массы книг откинулся, книги хлынули блестящим потоком, словно только что пойманная рыба заскользила из невода, еще живая, еще бьющая хвостами, разевающая рты, тщетно пытающаяся закричать, позвать на помощь…
Ребята и девушки налетали с радостными криками. Началась давка, смех, вопли. Кого-то придавили всерьез, потом один протолкался уже обратно, к груди прижимает целую кипу. Набежал на костер, швырнул и тут же попятился, закрывая лицо от огня обеими ладонями. Потом уже и другие, нахватав книг, бежали к костру, со счастливым смехом швыряли книги в огонь.
Ревущее пламя хватало книги сразу, обложка начинала коричневеть по краям, но еще не читанные страницы держались плотно одна к другой, не давали огню протиснуться вовнутрь, а целыми кирпичиками обугливались медленно. Кто-то из старших, кто не смеялся, а внимательно следил и руководил, принес от стоявших поодаль машин канистру с бензином. Размахнулся, зашвырнул на самую вершину. Там гулко бабахнуло, взвился столб оранжевого огня.
В толпе дружно закричали «ура!». Этот веселый жизнерадостный крик я слышу под окнами всегда, когда под грохот пушек небо расцвечивается огнями салюта. Две девушки, молоденькие и кокетливые, начали танцевать, красиво помахивая руками и блестя ровными пепсодентовыми зубками. Им дали место, тут же к ним присоединился молодой, дурашливого вида парень, из тех, кто не блещет ни в науке, ни в спорте, зато может показать класс на дискотеках. Он плясал быстро, озорно, пародийно, но с таким азартом, что сразу начали хлопать в ладоши, кричать одобрительно.
Я видел, как один парнишка из груды вываленных наземь книг схватил одну и украдкой сунул за пазуху. Друзья его подхватывали по целой стопке и с веселыми воплями неслись к костру, на бегу разворачивались, как хоккеисты у бортика, делали мощный бросок и мчались за новой порцией. На их лицах была жажда справедливой мести всем тем гадам, что заставляют ходить в школу, читать книги, делать уроки, когда можно вот так – книги в огонь, учителей на костер, да привязать покрепче, чтобы не сбежали.
Один парень, красивый, веселый, с хорошим чистым лицом и доброй озорной улыбкой, прокричал шоферу:
– Вези еще!..
Подростки тут же заорали весело:
– Еще!
– Побольше!
– И учебники!
– И таблетки от жадности!
– Make love, not read books!
– Уря-я-я!
Легунов смотрел на них с доброй понимающей улыбкой.
– Вот видишь, – сказал он бархатным интеллигентным голосом, – самое верное решение… С этими книгами надо только так.
– А что с издателями?
– На первый раз отобрали лицензию, конфисковали имущество и по пять лет каждому. Но я бы…
Кулаки стиснулись, даже дыхание стало чаще. Я спросил с интересом:
– Что?
– Да что церемониться? – отрубил он возмущенно. – Я бы и самих издателей на этот костер. Их самих, а не куклы!.. Куклы при чем?.. В нашем демократическом обществе любая подобная пропаганда запрещена, не так ли?
– Точно, – подтвердил я. – Как думаешь, кого бы еще запретить? Раз список составлен, то он должен стремиться к расширению. И уже расширяется…
Он взглянул почти с испугом.
– А ты откуда знаешь?
– Да так… Профессия такая, должен предвидеть.
– Ах да, я что-то слышал, ты теперь в какой-то очень крупной фирме в должности консультанта, почти провидца. Это верно?
Я отмахнулся:
– Это неважно. Так список расширяется? Пока дело дошло до первого сожжения, список пополнили еще с десяток наименований?
Он замялся, взглянул с некоторой нерешительностью, голос упал до шепота:
– Ну, раз уж ты в курсе… Да, я в комиссии по подготовке. На первом этапе рассматриваются двадцать четыре наименования. Потом, конечно, список сократится, но что-то останется. Наверное, как ты и говоришь, с десяток наименований. А потом, конечно, по мере усиления работы нашего Комитета по защите и укреплению демократии, будут и новые книги в списке.
– Только книги?
Он кивнул:
– Пока да.
– А потом?
– Пытаемся продавить подзаконный акт, чтобы вносить и авторов. Не самих авторов, а их книги на сожжение. Не выборочно, а целиком. Если автор в «черном списке», если националист или патриот, то все его книги в огонь, не рассматривая по отдельности…
Вокруг костра танцы разрастались, буйное веселье охватило всю площадь. На самом краю площади в темноте смутно маячат патрульные машины, там тенями проскакивают фигуры в милицейской форме, но сюда ни один не подходил.
– Надо бы как-то увековечить, – пробормотал я. – Ведь сегодня день, который войдет в историю… Да и площадь бы переименовать в… гм… нет, это пусть проработает Комитет по защите демократии.
Легунов оживился.
– А ведь верно! Эти мероприятия теперь станут регулярными. Местом, так сказать, проявления демократичных принципов и демократичного менталитета. Здесь будут сжигать книги недемократичных авторов, а если вовремя оповещать население, то здесь возникнет излюбленное место для молодежи. Кстати, хорошо бы на той стороне поставить лотки с хот-догами и пиццей. И «пепси», конечно.
– А в киосках торговать хотя бы марихуаной, – добавил я.
Он испугался:
– Что ты говоришь?
– Из-под прилавка. – объяснил я.
Он сказал нерешительно:
– Все-таки это нарушение…
– Мелочь, – успокоил я. – Ее вот-вот и так разрешат. Зато будет наглядно: демократы готовы разрешить все наркотики, а проклятые диктаторские режимы всегда жестоко преследовали наркоманию, секс-меньшинства… Молодежь не любит думать, ей надо все наглядно, разжеванно. А побалдеть, оттянуться, расслабиться, поймать кайф, отъехать – здесь как раз такое место.
Он посмотрел на меня с некоторой долей отвращения.
– Ну, знаешь ли, тебе бы в политику. Прирожденный жестокий циничный политик!.. Не собираешься куда-нибудь баллотироваться?
– Куда?
– Ну куда-нибудь?
Я покачал головой.
– Я философ. Мое дело – давать советы.
Он засмеялся:
– Так вроде бы одна Страна Советов уже накрылась медным тазом, как говорит раскованная молодежь…
Костер догорал. Легкий порыв ветра поднял целую тучу пепла. Девчонки с визгом разбежались в стороны, спасая импортную косметику на хорошеньких мордочках, ребята хохотали и отмахивались. Из огромной черной груды выкатилась нам под ноги обгоревшая по краям книга, я с трудом различил на обложке: «Майн Кампф». Адольф Гит…
Легунов с наслаждением наступил на нее подошвой дорогого ботинка. Захрустело. Он оглянулся, мощным пинком отправил книгу обратно в пепел к конфискованному тиражу.
– Пусть хорошенько пропечется, – захохотал он. – Вкусней будет!
И снова мне почудилось, что уже когда-то слышал и даже видел. В горле слегка першит, но чувствую себя бодрым, наполненным энергией, и совсем не хочется спать. Внутри бурлит беспричинное веселье, прыгать бы вокруг огня, бегать с факелом, принадлежать к единому сильному мнению демократического большинства, а кто не в большинстве, тех вот сюда, на костер…
Я вздохнул глубоко несколько раз, очищая легкие. При горении что-то выделяется такое, что все мы немножко дичаем. А так вообще хорошо.
– А все-таки напечатали, – сказал я. – Значит, это еще возможно.
Легунов поморщился, сказал с раздражением:
– Результат недосмотра! Или попытка самоубийства какими-то кретинами. Понятно же, что даже если им как-то удалось протащить эту книгу под другими названиями и бумагами в типографию, то в продажу поступить все равно не удастся! На что они надеются?
Я покачал головой:
– Но все-таки грубо. Они ж до таких методов не опускались, старались делать все рационально. Если кого и уничтожали, то волосы срезали для матрасов, кожу использовали для абажуров и перчаток, из мяса варили превосходное мыло. Естественно, все золотые зубы собирались и переплавлялись в слитки. А здесь – в костер! Это ж сколько леса загублено!.. А труда рабочих? Если уж запретили книги с пропагандой фашизма, с пропагандой войны, с пропагандой расовой и религиозной розни, запретили выпады против секс-меньшинств, запретили… словом, многое запретили, и список все расширяется, как и принято в настоящем демократическом обществе, то надо пресекать все раньше!
– Да, – сказал он, оживляясь, – недавно выделены средства, чтобы камеры фейсконтроля поставить не только на всех перекрестках, но на входах в магазины, у светофоров, на людных улицах, в местах предполагаемых митингов… Тогда можно будет зачинщиков выявлять и наказывать заранее!
– Да, – согласился я, – вот это будет настоящий демократический рай!
Мы уже расставались, я сказал на прощание очень серьезно:
– Вчера по телевизору проскользнула передача про горы. И хотя альпинистов не показывали, но я бы советовал убрать подобные передачи.
Он насторожился.
– Что случилось?
– Альпинисты, – обронил я лаконично. Он смотрел с непониманием, я объяснил: – Альпинисты, скалолазы, даже горные туристы… если честно, весь тот странный народ уж очень не вписывается в картину западного образа жизни. Вместо того чтобы балдеть, оттягиваться, трахать все по дороге, отрываться, кайфовать… они лезут на эти чертовы – бр-р-р! – горы. Я только представлю – меня сразу мороз по коже. А по квартире так вообще холодный ветер…
Он зябко передернул плечами.
– У меня тоже. Сумасшедшие какие-то.
– Вот-вот, – закончил я. – Не надо, чтобы их вообще видели, о них слышали, чтобы подобный образ вообще западал в сознание. А лучше сразу нажать на нужные рычаги, Большой Хозяин за Океаном это сделать может, и закрыть все альпинистские общества. Пусть оттягиваются и расслабляются не только как все, но и все пусть знают, что других занятий вообще нет. Иначе кто-то задумается, а что же это за странное удовольствие: отказываться от балдения и лезть в горы? Ведь умный в гору не пойдет… А потом дальше – больше: решит, что можно получать радость не только от жратвы, но и от воздержания, преодоления, побед! А от подобных альпинизмов всего один шаг до руля самолета, который протаранит Торговый Центр или Пентагон.
Он побледнел, сказал дрожащим голосом:
– Страсти какие рассказываешь… Но что-то смутно чувствую в твоих словах. Ты в самом деле уловил опасность в передачах об этих… ну, которые за туманом и за запахом тайги!
Я попрощался, сказал вдогонку:
– А по книгам надо пройтись, пройтись тщательнее!.. На такой же костер стоит и тех, которые на бригантине поднимают паруса, что, мятежные, просят бури. А еще лучше, ты прав, тщательнее проходиться по списку издаваемых книг с красным карандашом в руке.
Вернулся я за полночь, навстречу попадались группки горланящей молодежи. Прямо по проезжей части валила толпа фанатов футбольного клуба. Я поискал взглядом Бабурина, но это оказались не спартаковцы, что-то пожиже и не такое жизнерадостно напористое, как у Бабурина.
Ребята казались уверенными, сильными, здоровыми. В смысле, красномордыми. И раскованными. У меня даже мелькнула дурацкая мысль, что в самом деле раскованы и не связаны. Чувствовал я себя прескверно, ерничать над собой и другими слишком долго – глупо, я уставился бараньим взглядом на группу болельщиков, спросил громко и радостно:
– Эй, парень, да ты фашист?
На мир обрушилась мертвая тишина. Все застыли, как в немой сцене, потом глаза очень медленно обратились к тому несчастному, к которому я обратился с таким ужасным словом.
Из крупного широкого и красномордого парняги вмиг образовалось нечто бледное, худое, с трясущимися коленями.
– Э-э-э… Я нет, нет, нет!.. Нет, конечно!.. А почему вы так решили?
Я указал на значок на рубашке.
– А у тебя вон орел на ветке. Похожую эмблему носил Рэм, правая рука Гитлера. Значит, ты фашист!
Парень подпрыгнул, поспешно рванул с груди значок. Затрещала материя. Он швырнул под ноги и долго топтал, громко приговаривая, что вот так будет со всем фашизмом, с неонацизмом, с патриотами и прочими врагами общечеловеческих ценностей.
Остальные стояли полукругом, смотрели на своего недавнего одноклубника, как на уже запятнанного, оскверненного, отверженного, изгнанного из их тусовки. Некоторые начали пятиться, исчезать, делая вид, что никогда не принадлежали к обществу, где могут попадаться вот такие типы.
Я посмотрел с укоризной, мол, предатель нашей фашистскости, пошел себе, но когда навстречу повалила еще одна такая же весело горланящая группа, что отрывается на всю катушку, балдеет и чугайстырится, я сказал громко и радостно:
– Привет, ребята!.. Вы правы, да здравствует антисемитизм!
Они сомкнулись на ходу, как одно многоногое существо. И, как одно существо, повернули ко мне все головы. Ошарашенное молчание длилось с минуту. Один, лидер группы, маленький такой бабурин, начал говорить басом, но от ужаса, что на них могли такое подумать, сорвался на козлиный тенорок:
– Вы… это… чего? Какие мы… слово-то какое гадкое! Мы – за общечеловеческие…
Я перебил, указав на их голубые майки с черными вертикальными полосками:
– Ге, а это что?.. Голубой цвет – это ж израильский флаг. А вы его за решетку! Молодцы, ребята. А здорово палестинцы их в прошлую субботу долбанули прямо в Тель-Авиве?
Молча и остервенело они сдирали с себя майки, на которых оказалась такая страшная эмблема, бросали наземь и даже не топтали, а отпрыгивали, как от клубка ядовитых змей.
Я повернулся и пошел домой уже молча, ни к кому не придираясь и ни на что не реагируя. Этих оболванчиков даже дразнить неинтересно, настолько все просто и настолько легко вызвать любую нужную реакцию, умело манипулируя словами «фашист», «антисемит», «патриот»…
В доме уже спали, даже консьержка не заметила, как я прошел мимо. В прихожей привычно сказал: «Свет!.. Комп!», вспыхнули все лампы, я люблю яркий свет, загудел и пошел помигивать огоньками проц, по очереди доложили о готовности сидюк, модем, бластер.
– Отмена, – сказал я. – Всем отмена!.. Спать!
Разделся и сразу завалился в постель. Прежде чем садиться за клаву, надо переварить полученный материал, а это у меня неплохо получается во сне. Когда ложишься спать, о чем-то напряженно думая, утром нередко просыпаешься с готовым решением. Мозг ночью раскован, ищет совсем не там, где привычно ищешь днем, а верные решения обычно лежат там, где и не думаешь искать…
И, засыпая, сразу же увидел тревожное лицо с задумчивыми коричневыми глазами.
Глава 4
Ночью сквозь сон я слышал шум на лестничной площадке, громкие голоса. Показалось даже, что донесся женский плач, но я повернулся на другой бок и натянул край одеяла на ухо. Таня совсем рядом, что-то говорит, но уже не веселое и драчливое, а что-то ласковое, теплое, нежное, я чувствую ее дыхание над ухом и боюсь открыть глаза, чтобы не спугнуть, не рассеять.
Голоса все же доносились всю ночь, а когда утром открыл глаза, сразу ощутил нечто тяжелое, что вползло из коридора даже под плотно подогнанную дверь. Сердце стукнуло тревожно, я спустил ноги на пол, огляделся. В квартире все цело, в щель между неплотно сдвинутыми шторами бьет яркий солнечный луч. Дверь на балкон открыта, слышно, как воркуют голуби.
Пока кофе готовился, я дважды подходил к глазку. Из квартиры Майданова вышел мужчина в белом халате и такой же белой шапочке с красным крестом. За ним шла девушка, типичная медсестра, в руке плоский ящичек с большим красным крестом во всю ширь, длинные ноги, каблучки неимоверно высокие, неустойчивые, ее саму надо поддерживать под руки, как человека со смещенным равновесием.
Двери за ними закрыл Майданов. Даже через глазок с усиленной оптикой не рассмотришь лица, как в реале, но что-то в лице нашего воинствующего демократа было нехорошее. Выждав для приличия минутку, я вышел, позвонил.
Дверь отворилась, Майданов одной рукой держался за ручку, другой суетливо вытирал глаза. Весь он выглядел осунувшимся, с красными глазами, смертельно бледный.
– Что-то случилось? – спросил я. – От вас вышли врачи…
Он судорожно вздохнул, как после долгого-долгого плача. Глаза были воспаленные, как у больного трахомой.
– Да, – прошептал он. – Анна Павловна слегла, у нее с сердцем…
– Ой, – сказал я, – но вы не волнуйтесь, это какой-то пустяк, она ж никогда на сердце не жаловалась…
Он сказал еще тише:
– Дело не в ней. С ней приступ, потому что Марьяна…
Сердце мое застыло, я спросил чужим голосом:
– Что с нею?
– Несчастье, – ответил он и всхлипнул. По щекам поползли две слезинки. Он торопливо вытер их, сказал сдавленным голосом: – Она сейчас в больнице…
– Ох, простите, – сказал я. – Что с нею? Может быть, какое-то лекарство надо?
Он покачал головой.
– Наша девочка…
Голос его прервался. Я ощутил холодок под сердцем. Перед глазами встало ее веселое, всегда смеющееся личико с беспечной улыбкой. Увидел ее ямочки на щеках.
– Что могло с нею случиться?
– Случилось… – прошептал он.
– Но… что?
Он прошептал так тихо, что я едва услышал:
– Я вернулся вчера, захотелось перекусить… А оказалось, что хлеб кончился. Марьяна, добрая душа, вызвалась сбегать в магазин, он у нас открыт все двадцать четыре часа… В подъезде встретила Лену, подругу, сходили вместе. А когда возвращались… их догнал патруль…
Голос его прервался. Я спросил тупо:
– Чей?
– Со… союзников, – ответил он едва слышно.
У меня кулаки сжались сами по себе. Майданов все еще называет юсовцев союзниками, даже негодует, когда слышит, как мы зовем юсовцами, хотя это лишь простое сокращение от US, как сами себя зовем юзерами, гэймерами, байкерами.
– И… что?
Он всхлипнул, плечи затряслись.
– Лена успела убежать… А Марьяна… ее затащили в машину.
– И что? – спросил я тупо, хотя уже чувствовал непоправимое.
– Изнасиловали.
У меня стиснулись и челюсти, но я заставил себя выдохнуть, сказал как можно спокойнее:
– Вы же сторонники половых свобод… Неприятно, конечно, но примите так… как вы и советовали принимать подобные… инциденты. Смириться, расслабиться, получать удовольствие…
Я понимал, что это жестоко, но не удержался, чтоб не вмазать ему в лицо его же сентенции, которыми он доставал нас, соседей. Он закрыл лицо ладонями. Слезы брызнули, будто придавил спринцовку.
– Вы не понимаете… Она в больнице… В больнице!..
Я спросил быстро:
– Ого… настолько?
– Ее… избили…
– За что?
– Она… она…
– Ну что, говорите же!
– Она противилась. Отчаянно противилась.
Челюсти мои сжались так, что заломило в висках. Чистая и добрая, открытая всем, она отчаянно противилась распаленным здоровенным мужикам, в то время как патентованные красотки тут же раздвигают ноги и стараются получить удовольствие… Что за мир, уничтожить бы его весь, уничтожить, стереть на фиг, создать другой и заселить заново…
– Как она сейчас?
Он прошептал раздавленно:
– Не знаю. Но она в плохом состоянии. Еще не пришла в себя… Понимаете, еще не пришла в себя!
Я обнял его за плечи, показавшиеся сразу худыми и костлявыми, отвел обратно в его квартиру.
– Оставайтесь здесь. Примите валидол. Или корвалол. Хотите, я вам накапаю?.. А я сейчас сам съезжу в больницу, разузнаю. Может быть, нужна какая-то помощь. В какую больницу ее отвезли?
Я гнал машину, едва сдерживая себя, чтобы скорость превышать не больше, чем на разрешенные девять километров. Юсовцы, колотилось в виски злое. Юсовцы! Наверное, это началось со времен Петра. Иностранцы, облепившие молодого царя, как голодные мухи свежее дерьмо, были объявлены людьми сортом выше, чем местные русские. Обидеть иностранца – обидеть самого царя, а это уже политическое деяние, восемьдесят восьмая статья, дорога на Лобное место, где ждет, ухмыляясь, палач с большим топором. А то и сам Петр, обожавший собственноручно рубить головы русским стрельцам, но пальцем не задевший ни одного иностранца. Мне самому удалось пожить при Советской власти, сам видел, что обидеть, задеть или оскорбить иностранца – тюрьма на долгие сроки. Неважно, кто прав на самом деле, но перед иностранцем власти извинялись, а русского сразу сажали. Так железом и кровью взрастили в русских страх, ненависть и почтительное уважение к иностранцам. Страх, ненависть, зависть и страстное желание самим стать иностранцами.
Когда пал «железный занавес», народ ломанулся в посольства. Выстаивал ночами в очередях, только бы стать этими самыми иностранцами. А те, которые становились, за океаном работали хоть золотарями, чтобы скопить деньжат и приехать в отпуск, показаться родным и близким уже «иностранцами». И верно, им завидовали, на них смотрели как на существ более высокого порядка. Ниже, конечно, чем настоящие иностранцы, но выше, чем коренные русские.
Так что нечего жаловаться, что сами иностранцы относятся к нам, как к быдлу. Мы их долго приучали к этому, а они споначалу еще стеснялись, пробовали на равных.
И все-таки, как я ни успокаивал себя, черная злость поднималась из глубин души, захлестывала мозг. Все они сволочи! Среди наших хватает сволочей, но иностранцы – сволочи все! Во всяком случае, те, которые понаехали. Правы экстремисты, что уничтожают их. Молодцы ребята из РНЕ, что убивают исподтишка по ночам. Да и не только по ночам, во многие районы Москвы юсовцы даже на своих бронированных джипах не покажутся и среди бела дня. Не говоря уже о России. В Приднестровье и Красноярской области губернаторы сразу объявили, что если на их землях появится хоть одна единица со звездно-полосатым флагом, она будет немедленно уничтожена. Без базаров.
За перекрестком гаишник указал зебристой палочкой в сторону бровки. Я послушно подрулил, выключил мотор. Пока опускал стекло, рядом неспешно выросла фигура в пятнистом комбинезоне, автомат смотрит мне в лицо, ленивый голос пробасил:
– Документы?
Я оглянулся, гаишник подошел, козырнул. Я нехотя протянул водительские права ему, минуя здоровенную лапищу парня в костюме спецназовца. Гаишник проверил документы, заглянул в багажник, даже поводил щупом под днищем, махнул рукой:
– Все в порядке, езжайте.
– Документы отдайте, – напомнил я.
– Ах да…
Какие-то заторможенные, мелькнула мысль. Явно где-то снова рванули колабов, а то даже важного юсовца. На другом конце города, а эти здесь проверяют лишь потому, что приказано проверять всех. Какая-нибудь очередная показательная операция с пышным названием. Единственная организация, что еще оказывает реальное сопротивление «ограниченному контингенту» юсовцев в России, – это РНЕ, остальные либо размахивают кулаками, либо обвиняют друг друга в развале России, а то и вовсе пошли на некое сотрудничество с оккупантами, невнятно объясняя предательство тактикой борьбы.
Больница выплыла из-за угла как белый теплоход. Ворота распахнуты, по обе стороны от асфальтовой дорожки аккуратно подстриженный газон, зеленый настолько, что как будто сегодня покрасили заново. Я воткнул машину между приземистой «Тойотой» и «Рено», охранник кивнул издали, мол, все понял, запомнил, чужого не подпущу, я побежал по широкой, такой же белой лестнице к дверям.
В холле чистота, приветливый персонал, все улыбаются, словно в «Макдоналдсе», но по нервам неприятно ударил заметно уловимый запах лекарств. Мне выдали белый халат. Запах лекарств с каждым этажом становится все сильнее, я чувствовал, как мне начинает передаваться ощущение чужой боли, страданий, мучений. Я начал задыхаться, уже кололо в сердце, в печени, заныли колени.
Наконец на плывущих мимо дверях высветился нужный мне номер. Я с сильно бьющимся сердцем тихо приоткрыл дверь. В лицо ударил настолько сильный запах лекарств, что я застыл на миг в дверях, не в силах втиснуться в это липкое, висящее в воздухе болото.
В чистой комнате четыре кровати, на двух скомканные в беспорядке одеяла. Еще две заняты, на одной молодая женщина со смуглым лицом восточного типа, голова забинтована, но черные глаза полны жизни. На другой накрытая до пояса одеялом, обмотанная бинтами кукла. Бинтов так много, что показалась мне мумией из фильма ужасов. Оставались только две полоски: для глаз и для рта.
У кровати спиной ко мне сидела женщина. Сгорбившаяся, печально опустившая плечи, как олицетворение скорби. Я не сразу ее узнал, и только когда зашел сбоку и увидел ее лицо, сказал тихо:
– Здравствуйте, Анастасия Павловна.
Анастасия Павловна, тетя Марьяны, часто заходит к Майдановым в гости, поговаривают, что у них раньше была любовь, подняла голову. Лицо безобразно распухло, словно это ее жестоко избили. Глаза превратились в щелки, мокрый нос стал втрое шире и блестит, как намазанный маслом.