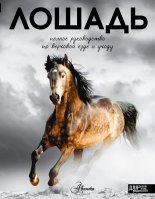Дети свободы Леви Марк
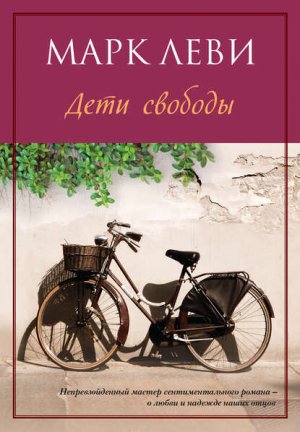
Я полюблю тебя завтра, сегодня я еще с тобой не знаком. Для начала я спустился по лестнице старого дома, в котором живу, спустился, признаюсь тебе, поспешней обычного. Внизу, в подъезде, моя рука, скользившая по перилам, уже пахла пчелиным воском, которым консьержка усердно натирает их вплоть до площадки второго этажа – это по понедельникам, а по четвергам – дальше, до самого верха. Несмотря на свет, золотивший фасады, тротуар был еще в мокрых разводах предутреннего дождя. Подумать только: в тот день, беззаботно сбегая по ступеням, я еще ничего, ровно ничего не знал о тебе – тебе, которая однажды подарит мне самое прекрасное из того, что жизнь дарит людям.
Я вошел в маленькое кафе на улице Сен-Поль, времени у меня было полным-полно. В баре нас оказалось трое; в то весеннее утро мало кому выпал такой досуг. Немного погодя, заложив руки за спину, вошел мой отец в габардиновом плаще; он облокотился на стойку, делая вид, будто не замечает меня, – ему была свойственна какая-то особенная деликатность. Он заказал крепкий черный кофе, и я увидел на его лице улыбку, которую он пытался скрыть от меня, хотя это не очень-то ему удавалось. Наконец он побарабанил пальцами по стойке, давая мне понять этим условным знаком, что в зале «чисто» и я могу подойти. Коснувшись одежды отца, я ощутил его силу и тяжкую, гнетущую печаль. Он спросил, по-прежнему ли я «уверен в своем решении». Я ни в чем не был уверен, но все равно кивнул. Тогда он незаметно для всех отодвинул свою чашку. Под блюдцем лежала пятидесятифранковая купюра. Я отказался, но он сердито сжал зубы и проворчал, что не годится воевать на голодный желудок. Я взял деньги и по его взгляду понял, что мне пора уходить. Поправив каскетку, я открыл дверь кафе и зашагал по улице.
Минуя витрину кафе, я взглянул на отца, стоявшего в глубине бара, взглянул искоса, украдкой; он в последний раз улыбнулся мне и жестом показал, что у меня расстегнут воротник.
В отцовском взгляде светилась какая-то странная решимость, и на ее разгадку мне понадобятся долгие годы, но даже сегодня, стоит мне закрыть глаза и подумать об отце, его лицо возникает передо мной именно таким, каким я запомнил его в ту, последнюю минуту. Я знаю, как ему было горько расставаться, и, думаю, он предчувствовал, что мы больше никогда не увидимся. Но он боялся не своей смерти, а моей.
Я часто вспоминаю нашу встречу в кафе на улице Сен-Поль. Наверное, человеку требуется немало мужества для того, чтобы похоронить сына, пока тот стоит рядом и пьет кофе с цикорием, чтобы смолчать и не сказать ему: «А ну-ка, марш домой и садись за уроки!»
За год до этого моя мать пошла в комиссариат за желтыми звездами. Для нас это стало сигналом к бегству, мы уехали в Тулузу. Отец был портным, но, конечно, он не собирался носить эту мерзость.
А в тот день, 21 марта 1943 года, я сажусь в трамвай и вот уже еду на станцию, которая не указана ни на одном плане города: еду искать подполье.
Десять минут назад меня еще звали Реймон, но с той минуты, как я сошел на конечной остановке 12-го маршрута, мое имя – Жанно. Просто Жанно, никакой фамилии. В этот пока мирный утренний час многие близкие мне люди даже не подозревают, что их ждет. Папе с мамой неведомо, что скоро им вытатуируют номер на руке выше локтя; мама не знает, что на вокзальном перроне ее разлучат с человеком, которого, мне кажется, она любит даже больше, чем нас.
Да и сам я тоже не знаю, что через десять лет увижу в груде очков – груде пятиметровой высоты в музее Освенцима, – те самые очки, которые мой отец сунул в верхний карман пиджака при нашей последней встрече в кафе на улице Сен-Поль. И мой младший брат Клод не знает, что скоро я приду за ним и что, если бы он не сказал «да», если бы нам не довелось пережить эти годы вдвоем, нас давно бы уже не было на свете. Семеро моих товарищей – Жак, Борис, Розина, Эрнест, Франсуа, Марьюс и Энцо – не знают, что им суждено умереть с криком «Да здравствует Франция!», прозвучавшим почти из всех уст с иностранным акцентом.
Слова путаются у меня в голове, мешая думать связно; одно могу сказать наверняка: начиная с того понедельника, с того полудня, и в течение двух лет мое сердце будет биться в ритме, который задал ему страх; целых два года я жил в страхе и до сих пор просыпаюсь по ночам от этого мерзкого ощущения. Но рядом со мной спишь ты, любовь моя, пусть я пока еще об этом и не знаю. Итак, вот маленький кусочек истории Шарля, Клода, Алонсо, Катрин, Софи, Розины, Марка, Эмиля и Робера – моих друзей: испанцев, итальянцев, поляков, венгров, румын – детей свободы.
Часть первая
1
Нужно, чтобы ты поняла исторический контекст, в котором мы тогда жили: контекст вообще очень важен, например для отдельной фразы. Вырванная из контекста, она часто меняет смысл; сколько же фраз будут вырваны из своего контекста в ближайшие годы, и все для того, чтобы мы могли судить пристрастно и легче выносить приговор. Это привычка, которая с годами не исчезает.
В первые дни сентября гитлеровские войска захватили Польшу, Франция вступила в войну, и никто из нас не сомневался, что скоро наша армия отбросит неприятеля к границам страны. Бельгия была раздавлена сокрушительной мощью немецких танковых дивизий, и всего за несколько недель сто тысяч наших солдат погибли на полях сражений – на севере и Сомме.
Во главе правительства встал маршал Петен; спустя два дня один генерал[1], не пожелавший смириться с разгромом, обратился из Лондона к французам с призывом к сопротивлению. Петен избрал другой путь: он подписал пакт о капитуляции, сгубивший все наши надежды. Как же быстро мы проиграли эту войну!
Выказав лояльность нацистской Германии, маршал Петен поверг Францию в один из самых мрачных периодов ее истории. Республика пала, уступив место тому, что отныне стало называться французским государством. Карту рассекла горизонтальная линия, поделившая страну на две зоны – оккупированную на севере и так называемую свободную на юге. Однако свобода эта оказалась весьма относительной. Каждый день появлялся очередной набор декретов, обрекавших на бесправное существование два миллиона иностранных граждан, мужчин, женщин и детей, живших во Франции; отныне им запрещалось работать по специальности, учиться в школах, свободно передвигаться, а вскоре, очень скоро, просто-напросто жить.
Эти иностранцы когда-то приехали сюда из Польши, Румынии, Венгрии, бежали из Испании и Италии – в те времена наша страна, потом вдруг утратившая память, крайне нуждалась в них. Нужно было как-то восполнять население Франции, потерявшей четверть века тому назад полтора миллиона мужчин, которые погибли в окопах Первой мировой войны. Почти все мои товарищи были иностранцами, и каждый подвергался на родине репрессиям, многолетним преследованиям. Немецкие демократы на себе испытали, что представляет собой Гитлер, участники гражданской войны в Испании пережили диктатуру Франко, а беженцы из Италии – фашистский режим Муссолини. Они стали первыми свидетелями всевозможных проявлений ненависти и нетерпимости, этой поразившей Европу пандемии с ее жуткой чередой мертвецов и неисчислимыми бедствиями. Все понимали, что капитуляция – только пролог, худшее еще впереди. Но кто стал бы слушать провозвестников беды? Франция больше не нуждалась в них. И беженцы с востока и с юга были арестованы и отправлены в лагеря.
Маршал Петен не просто отказался от борьбы, он намеревался сотрудничать с новыми диктаторами Европы, и в нашей стране, впавшей в оцепенение под руководством этого старца, уже вовсю засуетились премьер и другие министры, префекты, судьи, жандармы, полицейские, фашиствующие милиционеры, стараясь перещеголять друг друга в своих гнусных преступлениях.
2
Все началось с почти детской игры три года назад, 10 ноября 1940-го. Хмурый маршал Франции в сопровождении нескольких префектов в мундирах, украшенных серебряными лавровыми листьями, начал с Тулузы объезд свободной зоны страны, ставшей по его милости жертвой оккупантов.
Странное, парадоксальное зрелище: толпы растерянных людей, зачарованно взирающих на воздетый жезл маршала, этот скипетр бывшего вождя, вернувшегося к власти, носителя нового порядка. Только новый порядок Петена принес нам одни несчастья: раскол общества, доносительство, ссылки, убийства и варварскую жестокость.
Некоторые из тех, кто скоро вступит в нашу бригаду, уже знали, что представляют собой концлагеря, куда французское правительство сгоняло людей, имевших несчастье быть иностранцами, евреями или коммунистами. Жизнь в таких лагерях на юго-западе страны – в Гюре, Аржелесе, Ноэ, Ривсальте – была сплошным кошмаром. И потому все, у кого находились там арестованные друзья или родственники, воспринимали приезд маршала как посягательство на ту последнюю крошечную частицу свободы, которая у нас еще оставалась.
Однако население готовилось бурно приветствовать маршала, и мы должны были ударить в набат, избавить людей от страха, опасного страха, который, завладевая массами, понуждает людей опускать руки, смиряться, молчать, оправдывая свою трусость только тем, что сосед поступает так же; а если сосед поступает так же, стало быть, нужно следовать его примеру.
Для Косса, одного из самых близких друзей моего младшего брата, как и для Бертрана, Клуэ и Делакура, вопрос стоит иначе, – они не намерены опускать руки и помалкивать; мрачный парад, который готовится на улицах Тулузы, они решили превратить в громкую демонстрацию протеста.
Сегодня наша главная задача – добиться, чтобы слова правды, слова о мужестве и достоинстве разбудили собравшихся. Текст составлен неумело, но при этом ясно выражает все, что должно быть выражено, и потом, так ли уж важно, о чем говорится или не говорится в этом тексте! Остается придумать, каким способом распространить наши листовки с максимальным эффектом, но при этом не угодить сразу же в лапы стражей порядка.
И наши ребята здорово все устроили. За несколько часов до начала шествия они пересекают площадь Эскироль со свертками в руках. Полиция бдительно следит за прохожими, но кого волнует стайка вполне безобидных подростков?! И вот уже они у цели – возле жилого дома на углу улицы Мец. Тут же все четверо бегом взбираются по лестнице до самой крыши, надеясь, что там не посадили снайпера. Слава богу, на крыше пусто, у их ног простирается город.
Косса собирает устройство, изобретенное им и его друзьями. У самого карниза на низкие козлы кладется доска, она может качаться вверх-вниз. На одном конце доски лежит кипа напечатанных на машинке листовок, на другом стоит полный бидон воды. В дне бидона просверлена дырочка, и пока вода тоненькой струйкой сочится из нее в водосточную трубу, парни выбегают на улицу.
Автомобиль с маршалом приближается, Косса поднимает голову и с улыбкой глядит на карниз дома. Лимузин с откинутым верхом медленно ползет по улице. Бидон на крыше почти опорожнился и стал совсем легким, другой конец доски перевешивает, и листовки разлетаются по воздуху. Этот день, 10 ноября 1940 года, станет первым днем осени маршала-предателя. Взгляни в небо: там порхают листки, и несколько таких листков, к великой радости гаврошей, в которых нежданно проснулось мужество, опускаются на кепи маршала Петена. Люди в толпе, нагнувшись, подбирают листовки. Начинается переполох, полиция бестолково мечется во все стороны, и те, кто слышал, как подростки вместе со всеми восторженно приветствуют кортеж, даже не подозревают, что этими криками они знаменуют свою первую победу.
Потом ребята расходятся, каждый к себе. Вернувшись этим вечером домой, Косса даже представить себе не может, что три дня спустя он будет арестован по доносу и проведет два года в камерах центральной тюрьмы Нима. Делакур не знает, что через несколько месяцев будет убит французскими полицейскими в ажанской церкви, где укроется от преследования, а Клуэ неизвестно, что в будущем году его расстреляют в Лионе; что же до Бертрана, никто не отыщет место в поле, где он упокоился навсегда. Косса освободится из тюрьмы с изъеденными туберкулезом легкими и уйдет в партизаны. Его снова арестуют и на этот раз депортируют в Германию. Ему будет всего двадцать два года, когда он умрет в Бухенвальде.
Как видишь, для наших друзей все началось как игра, и играли в нее дети, которые так и не успели стать взрослыми.
И еще я должен рассказать тебе про Марселя Лангера, Яна Герхарда, Жака Энселя, Шарля Мишалака, Хосе Линареса Диаса, Стефана Барсони, про всех тех, кто присоединится к ним в последующие месяцы. Это они – первые дети свободы, это они создали 35-ю бригаду. Зачем? Да чтобы сопротивляться! И важнее всего их история, а не моя; прости, если временами память будет мне изменять, если я в чем-нибудь ошибусь или перепутаю чье-то имя.
«Разве имена так уж важны? – сказал однажды мой друг Урман. – Нас было мало, и по сути дела мы были единым существом. Мы жили в страхе, мы постоянно скрывались, мы никогда не знали, что принесет нам завтрашнее утро, – вот почему так трудно сегодня в точности припомнить хотя бы один из тех, прошедших, дней».
3
Поверь мне на слово, война никогда не походила на фильм, ни один из моих товарищей не выглядел как Роберт Митчем[2], и если бы у Одетты были такие ноги, как у Лорен Бакалл[3], я бы уж наверно рискнул поцеловать ее, вместо того чтобы мяться, как последний дурак, стоя у кинотеатра. Тем более что на другой день двое нацистов застрелили ее на углу улицы Акаций. С тех пор я не люблю акацию.
Я знаю, в это сложно поверить, но самое трудное было найти людей из Сопротивления.
С тех пор как сгинули Косса и его товарищи, мы с моим младшим братом совсем захандрили. Жизнь в лицее, с антисемитскими рассуждениями историка, он же географ, и саркастическими выпадами учеников филологического класса, с которыми мы дрались, была не очень-то веселой. Я проводил вечера возле радиоприемника, в ожидании вестей из Лондона. В начале учебного года мы нашли у себя на партах листочки с заголовком «Комба»[4]. Я заприметил парня, который выскочил из нашего класса, это был беженец из Эльзаса по фамилии Бергольц. Со всех ног я помчался за ним и, нагнав во дворе, сказал, что тоже хочу заниматься этим – распространять листовки для Сопротивления. Он только посмеялся надо мной, но все-таки мне удалось стать его помощником. И в последующие дни после занятий я поджидал его на улице. Едва он выходил из-за угла, я направлялся в другую сторону, и он ускорял шаг, чтобы догнать меня. Вместе мы совали в почтовые ящики голлистские газеты, а иногда бросали их на открытые трамвайные площадки, перед тем как спрыгнуть на ходу и удрать.
Однажды вечером Бергольц не появился у лицея после уроков, и больше я его не видел…
С того времени мы с моим братишкой Клодом садились после занятий в пригородный поезд, идущий на Муассак. Мы тайком ездили в Замок. Это было большое здание, где прятались дети депортированных родителей; девушки-скауты собирали там этих ребят и заботились о них. Мы с Клодом приезжали, чтобы вскопать им огород, а самым маленьким иногда давали уроки арифметики и французского. Каждый раз, приезжая в Замок, я умолял Жозетт, директрису этого заведения, дать мне хоть какую-то зацепку, чтобы вступить в ряды Сопротивления, и каждый раз она смотрела на меня невинными глазами, делая вид, что даже не понимает, о чем идет речь.
Но вот однажды она завела меня к себе в кабинет.
– Кажется, я могу тебе кое-чем помочь. Подходи к дому номер двадцать пять по улице Байяр в два часа дня. Один человек спросит у тебя, который час. Ты ответишь, что у тебя часы не ходят. Если он скажет: «Вы случайно не Жанно?» – значит, это тот, кто тебе нужен.
Вот так это и случилось…
Я взял с собой братишку, и мы отправились к дому № 25 по улице Байяр, в Тулузе.
Он появился в сером пальто и фетровой шляпе, с трубкой в уголке рта. Бросил газету в мусорную корзинку, прикрепленную к уличному фонарю; я никак не отреагировал, потому что это было бы нарушением приказа. Мне велели ждать, когда он спросит время. Он подошел ближе, остановился и смерил нас взглядом; когда я ему ответил, что мои часы не ходят, он назвался Жаком и спросил, кто из нас двоих Жанно. Я поспешно шагнул вперед, ведь Жанно – это был я.
Жак лично набирал людей для подпольной работы. Он никому не доверял и имел для этого веские основания. Я знаю, не очень-то хорошо так говорить, но нужно понимать тогдашнюю обстановку.
В тот момент мне еще не было известно, что через несколько дней один из партизан, Марсель Лангер, будет приговорен к смерти стараниями французского прокурора, который потребовал для него смертной казни и добился своего. Все, кто жил во Франции, в свободной или в оккупированной зоне, были твердо уверены, что, после того как кто-нибудь из наших прикончит этого прокурора возле его дома, скажем, в воскресенье, когда он пойдет на мессу, ни один суд больше не посмеет требовать смертной казни для арестованного партизана.
Не знал я и того, что именно мне прикажут убить одного мерзавца, высокопоставленного милицейского чина, доносчика и убийцу многих молодых участников Сопротивления. Этот гад так никогда и не узнал, что у него был шанс сохранить себе жизнь. Я до того боялся выстрелить в живого человека, что чуть не намочил штаны, чуть не бросил оружие, и если бы эта сволочь не взмолилась «Пощадите!» – а ведь сам-то он никого не щадил, – во мне не вскипел бы праведный гнев, заставивший всадить ему в живот пяток пуль.
Да, мы убивали. Долгие годы я повторял одно и то же: невозможно забыть лицо человека, в которого ты стреляешь. Но мы не убили ни одного невиновного, не трогали даже тех, кто творил зло по глупости. Я знаю, и мои дети тоже будут знать, что это и есть самое главное.
Ну а пока Жак рассматривает меня, изучает со всех сторон, чуть ли не обнюхивает по-звериному, доверяя только своему инстинкту, потом глядит мне прямо в лицо, и то, что он скажет через две минуты, перевернет всю мою жизнь:
– Чего ты конкретно хочешь?
– Попасть в Лондон.
– Тогда я ничем не могу тебе помочь. Лондон далеко, и там у меня нет никаких контактов.
Я ожидал, что он сейчас повернется и уйдет, но Жак не уходил. Он смотрит на меня в упор, и я делаю вторую попытку:
– А вы можете связать меня с макизарами?[5] Я хотел бы сражаться вместе с ними.
– Это тоже невозможно, – отвечает Жак, раскуривая трубку.
– Почему?
– Потому что ты, судя по твоим словам, хочешь сражаться. А в маки не сражаются, самое большее, что можно делать, это передавать посылки или информацию, и сопротивление пока еще очень пассивно. Если хочешь сражаться, иди к нам.
– К кому это – к вам?
– Ты готов к уличным боям?
– Все, что я хочу, это убить нациста, перед тем как умереть. Мне нужен револьвер.
Я выпалил это с таким гордым видом, что Жак расхохотался. А я никак не мог понять, что тут такого смешного, мне-то ситуация казалась скорее трагической! Но именно это и развеселило Жака.
– Ты начитался книжек; теперь придется научить тебя пользоваться мозгами для дела.
Его покровительственный тон слегка уязвил меня, но сейчас не время было демонстрировать свои обиды. Вот уже несколько месяцев я пытался нащупать контакты с Сопротивлением и боялся все испортить.
Я подыскиваю нужные слова, но они не приходят на ум, пытаюсь найти довод, который убедил бы его, что я не кто-нибудь, что на меня вполне можно положиться. Жак угадывает мои мысли, улыбается, и в его взгляде я вдруг замечаю что-то похожее на искорку нежности.
– Мы сражаемся не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы жить, ясно?
Он вроде бы не сказал ничего особенного, но меня точно громом поразило. Это были первые слова надежды, услышанные мной с начала войны, с тех пор, как я стал лишенцем без всяких прав, статуса, документов в стране, которую еще вчера считал своей. Я остался без отца, без родных. Что же произошло? Вокруг меня все замерло в оцепенении, у меня украли жизнь просто потому, что я еврей, и одного этого множеству людей достаточно, чтобы желать мне смерти.
Братишка ждет у меня за спиной. Он угадывает, что происходит что-то важное, и покашливает, желая напомнить о своем присутствии. Жак кладет мне руку на плечо.
– Пошли отсюда, не стоит здесь торчать. Это одна из первых заповедей, которую ты должен усвоить: никогда не стоять на месте, именно так и обращаешь на себя внимание. Парень, который ждет на улице, в наше время неизбежно вызывает подозрение.
И вот мы с ним шагаем по тротуару темной улочки, а Клод идет за нами по пятам.
– Возможно, у меня найдется для вас работенка. Сегодня вечером будете ночевать в доме номер пятнадцать по улице Рюисо, у мамаши Дюблан, она сдает комнаты. Скажете ей, что вы оба студенты. Она наверняка спросит тебя, что стряслось с Жеромом. Ответишь, что пришли на его место, а он вернулся на север, к своей семье.
Из его слов я вывел, что это пароль, который обеспечит нам крышу над головой, а может быть, кто знает, даже натопленную комнату. Решив серьезно войти в роль, я спросил, кто такой Жером, – нужно же быть в курсе на случай, если мамаша Дюблан захочет разузнать побольше о своих новых постояльцах. Но Жак тут же вернул меня к суровой действительности.
– Он погиб позавчера, через две улицы отсюда. И если на мой вопрос «Хочешь ли ты воевать как солдат?», ты твердо решил сказать «да», то знай, что это человек, которого тебе предстоит заменить. Сегодня вечером к тебе кое-кто наведается в гости. Он скажет, что пришел от Жака.
Я понял, что Жак не настоящее его имя, И еще мне стало ясно, что стоит примкнуть к Сопротивлению, как с прошлой жизнью будет покончено, а вместе с ней исчезает и ваше имя. Жак сунул мне в руку конверт.
– Пока будешь платить за жилье, мамаша Дюблан не станет задавать лишних вопросов. И еще: вам нужно сфотографироваться, сходите на вокзал, там делают моментальные снимки. Ну, а теперь сваливайте. Будет случай, еще увидимся.
И Жак ушел. На углу его длинный силуэт растаял в вечерне – и мороси.
– Ну, пошли? – сказал Клод.
Я повел брата в кафе; мы взяли только горячий кофе, чтобы согреться. Сидя у окна, я смотрел на трамвай, ползущий по широкой улице.
– Ты уверен? – спросил Клод, осторожно касаясь губами дымящейся чашки.
– А ты?
– Я уверен лишь в том, что умру, а больше ничего не знаю.
– Если мы вступим в Сопротивление, то для жизни, а не для смерти. Понятно?
– Откуда ты знаешь?
– Мне Жак только что сказал.
– Ну, если Жак сказал…
Мы долго молчали. В зал вошли два милиционера, они уселись за столик, не обращая на нас никакого внимания. Я испугался – вдруг Клод сделает какую-нибудь глупость, но он только пожал плечами. У него бурчало в животе.
– До чего ж есть хочется, – сказал он. – Сил больше нет ходить голодным.
Мне было стыдно смотреть в глаза семнадцатилетнему парню, который жил впроголодь, стыдно за собственное бессилие, но сегодня вечером мы, может быть, вступим наконец в Сопротивление, и тогда многое изменится, я был в этом уверен. К нам снова придет весна, как скажет однажды Жак, и в один прекрасный день я поведу своего младшего братишку в булочную и накуплю ему кучу пирожных, всех, какие только есть на свете, пускай наедается досыта, до отвала, – и эта весна станет самой светлой весной в моей жизни.
Мы вышли из бистро и, забежав ненадолго на вокзал, отправились по адресу, указанному Жаком.
Мамаша Дюблан ни о чем не стала нас расспрашивать. Только сказала, что Жером, видать, не очень-то держится за свои пожитки, если взял да уехал в чем был. Я вручил ей деньги, и она дала мне ключ от комнаты на первом этаже; дверь выходила прямо на улицу.
– Это на одного человека! – предупредила она.
Я объяснил, что Клод – мой младший брат и что он приехал всего на несколько дней. Думаю, мамаша Дюблан не очень-то верила, что мы студенты, но, пока ей платили за квартиру, жизнь постояльцев ее не интересовала. Комната была незавидная: старый тюфяк на кровати, кувшин для воды и таз – вот и вся обстановка. Естественные надобности справлялись в дощатой уборной на задах сада.
Мы прождали до вечера. В сумерках к нам в комнату постучали. Это был не тот звук, от которого испуганно вздрагиваешь – когда, например, милиционеры являются вас арестовать и грубо колотят в дверь, – нет, всего два коротких тихих удара. Клод открыл. Вошел Эмиль, и я сразу почувствовал, что мы с ним подружимся.
Эмиль не вышел ростом, но он терпеть не может, когда его дразнят «мелким». Он начал работать в подполье год назад, и все в его поведении говорит о том, что он прочно освоился со своей ролью. Эмиль всегда спокоен, но улыбка у него странная, как будто его уже ничто на свете не трогает.
В десятилетнем возрасте он бежал из Польши, потому что там травили людей его национальности. Уже в пятнадцать лет, увидев, как гитлеровские войска маршируют по Парижу, Эмиль понял, что те, кто угрожал его жизни в родной стране, теперь явились сюда, чтобы довершить свое грязное дело. И тогда его мальчишеские глаза раскрылись, да так широко, что с тех пор никогда плотно не закрываются. Отсюда, может быть, и взялась эта странная улыбка. Нет, Эмиль не «мелкий», он просто коренастый.
И спасла его, нашего Эмиля, консьержка дома, где он жил. Нужно сказать, что в тогдашней невеселой Франции еще оставались порядочные квартирные хозяйки, которые смотрели на нас иначе, чем другие: они не могли смириться с тем, чтобы нормальных людей убивали лишь за то, что они исповедуют иную веру. Для этих женщин дети, и свои и пришлые, – это святое.
Отец Эмиля получил письмо из префектуры с приказом явиться туда, купить желтые звезды и нашить их на пальто, на уровне груди, чтобы они были хорошо видны, – именно так говорилось в уведомлении. В то время их семья жила в Париже, на улице Святой Марфы, в Х округе. Отец Эмиля пошел в комиссариат на авеню Вельфо; у него было четверо детей, и ему выдали четыре звезды для них и еще по одной – на него и на жену. Он оплатил эти звезды и вернулся домой, понурив голову, как скотина, которую заклеймили раскаленным железом. Эмиль стал носить звезду, а вскоре начались облавы. Тщетно он пытался бунтовать, тщетно уговаривал отца снять с себя эту мерзость, ничто не помогало. Отец Эмиля был законопослушным гражданином и к тому же доверял стране, которая его приняла: уж конечно, порядочным людям, говорил он, здесь ничто не грозит.
Эмиль подыскал себе жилье на чердаке одного дома, в каморке служанки. Однажды, когда он спускался по лестнице, к нему бросилась консьержка.
– Эмиль, беги скорей к себе наверх, полиция рыщет повсюду, они хватают всех евреев на улицах. Совсем, видать, очумели. Быстро беги и спрячься!
Она велела ему запереться у себя и никому не отвечать, пусть ждет, она принесет ему какой-нибудь еды. Несколько дней спустя Эмиль вышел из дома без желтой звезды. Он вернулся на улицу Святой Марфы, но в родительской квартире никого не нашел – ни отца, ни матери, ни двух младших сестренок, шести и пятнадцати лет, ни даже брата, которого он умолял жить с ним, не ходить в квартиру на улице Святой Марфы.
Больше у Эмиля никого не осталось; все его друзья тоже были арестованы; двоим из них, принявшим участие в демонстрации у заставы Сен-Мартен, удалось сбежать, выбравшись на улицу Ланкри, когда немецкие солдаты-мотоциклисты начали поливать шествие пулеметным огнем. Однако этих парней тоже схватили, поставили к стенке и расстреляли. Один из участников Сопротивления, известный под именем Фабьен, решил отомстить за них и на следующий день убил вражеского офицера в метро, на платформе станции Барбес, но двоих друзей Эмиля уже не воскресить.
У Эмиля больше не было никого, кроме Андре, последнего оставшегося в живых товарища; с ним он прежде учился на бухгалтерских курсах. И он решил сходить к этому парню – вдруг тот хоть чем-нибудь поможет. Ему открыла дверь мать Андре. И когда Эмиль рассказал, что его семья сгинула в облаве, что он остался совсем один, она достала свидетельство о рождении своего сына, отдала его Эмилю и посоветовала как можно скорее уехать из Парижа. «Делайте с этим что хотите, – сказала она, – может, вам даже удастся получить по нему удостоверение личности». Андре был чистокровным французом, и его документ с фамилией Берте ценился на вес золота.
Приехав на Аустерлицкий вокзал, Эмиль стал ждать на перроне, когда сформируют состав «Париж – Тулуза». Там, в Тулузе, у него жил дядя. Потом он вошел в вагон и забился под скамейку, стараясь не шевелиться. Сидевшие в купе пассажиры не догадывались, что у их ног затаился насмерть перепуганный мальчишка.
Состав тронулся, Эмиль неподвижно пролежал под скамьей несколько долгих часов. И только когда поезд пересек границу свободной зоны, Эмиль выбрался из своего убежища. Пассажиры разинули рты, увидев паренька, возникшего ниоткуда; он признался, что у него нет документов, и какой-то мужчина велел ему опять спрятаться: он не раз ездил по этому маршруту и знал, что жандармы обязательно пройдут с контролем еще раз. А потом он скажет Эмилю, когда можно будет выйти.
Как видишь, в той, невеселой, Франции были не только сердобольные консьержки и квартирные хозяйки – были еще и участливые матери, и добросердечные пассажиры; эти простые, никому не известные люди сопротивлялись каждый на свой лад, они не желали поступать «как сосед», они нарушали правила, потому что считали их бесчеловечными.
Так Эмиль, со своей историей, со своим прошлым, появился в комнате, которую мамаша Дюблан сдала мне несколько часов назад. И хотя я еще не знаю историю Эмиля, я по одному его взгляду чувствую, что мы прекрасно поладим.
– Значит, это ты новичок? – спрашивает он.
– Это мы, – поправляет мой братишка, которому надоело, что на него никто не обращает внимания.
– Фотографии у вас есть? – осведомляется Эмиль.
Он вынимает из кармана два бланка удостоверения личности, продуктовые талоны и печать. Покончив с «обработкой» документов, он встает, разворачивает стул и садится на него верхом, лицом к спинке.
– Теперь поговорим о твоем первом задании. Пардон, о вашем первом задании, раз уж вас двое.
У брата загораются глаза, и я не знаю, то ли это голодный блеск от постоянного мучительного недоедания, то ли жажда и предвкушение деятельности; как бы то ни было, я вижу только одно: у него горят глаза.
– Вам нужно будет украсть велосипеды, – говорит Эмиль.
Клод с гримасой отвращения поворачивается и идет к кровати.
– Воровать велики? И это вы называете «работать в Сопротивлении»? Неужели я проделал весь этот путь, чтобы стать вором?
– А как ты, интересно, намерен совершать акции – на лимузине, что ли? Велосипед – лучший друг партизана. Поразмысли-ка хоть пару секунд, сделай милость. Человек на велосипеде никого не интересует: просто какой-то тип возвращается со своего завода, если дело к вечеру, или едет на работу, если это утро, вот и все. Велосипедист сливается с толпой, он юркий, он проникнет куда угодно. Проводишь операцию, вскакиваешь на велик, и пока люди кругом соображают, что стряслось, ты уже на другом конце города. Короче, если хочешь, чтобы тебе поручали важные дела, начни с этого – раздобудь себе велосипед!
Так нам преподали первый урок молодого бойца. Оставалось узнать, где их лучше красть, эти велосипеды. Эмиль предварил мой вопрос. Он уже кое-что разведал и указал нам дом, где по ночам в коридоре стоят три велосипеда, которые хозяева никогда не запирают на замки. Действовать нужно немедленно; если все сойдет благополучно, мы должны будем встретиться с Эмилем в начале вечера у одного приятеля, – его адрес он заставил меня выучить наизусть. Приятель жил в нескольких километрах от Тулузы, в предместье Лубер, в здании заброшенного вокзальчика.
– И пошевеливайтесь, – настойчиво повторил Эмиль, – вам надо успеть туда до комендантского часа.
Была весна, до темноты оставалось еще несколько часов, и дом с велосипедами находился не так уж далеко от нас. Эмиль ушел, а мой братишка продолжал дуться.
Я постарался убедить Клода, что Эмиль, в сущности, прав, и потом, может, нас просто испытывают таким образом. Брат поворчал еще немного, но все же согласился пойти со мной.
Мы отлично справились с нашим первым заданием. Клод стоял на стреме снружи: ведь за кражу велосипеда вполне могли припаять пару лет тюрьмы. Коридор оказался пуст, а велосипеды – три штуки, как и обещал Эмиль, – стояли, тесно составленные вместе и без всяких замков.
Эмиль велел брать пару крайних велосипедов, однако меня соблазнил третий, прислоненный к стене, – это была гоночная модель с ярко-красной рамой и красивыми кожаными наконечниками на руле. Я отодвинул ближайший ко мне велосипед, и он с жутким грохотом рухнул на пол. Я уже представил себе, как связываю консьержку и сую ей кляп в рот, но, на мое счастье, ее каморка пустовала, и никто не помешал мне завершить свое черное дело. Велосипед, который мне приглянулся, не так уж легко было вытащить. Когда чего-то боишься, страх связывает руки. Педали двух машин сцепились намертво, и, как я ни тужился, мне не удавалось их разъединить. Наконец, после долгой возни, постаравшись унять сумасшедшее сердцебиение, я достиг своей цели. Мой братишка заглянул в парадное – видно, ему надоело торчать в одиночестве на тротуаре.
– Ну, ты скоро там, черт возьми?
– Чем ругаться, давай бери свой велосипед.
– А почему мне не красный?
– А потому, что он для тебя велик!
Клод продолжал брюзжать, но я ему напомнил, что мы выполняем задание и сейчас не время спорить. Пожав плечами, он сел на свой велосипед. Минут через пятнадцать мы уже вовсю крутили педали, мчась вдоль заброшенной железной дороги к бывшему вокзальчику Лубера.
Эмиль открыл нам дверь.
– Глянь-ка на эти велики, Эмиль!
Эмиль нахмурился, как будто вовсе не рад был нас видеть, но впустил в дом. Ян, высокий стройный парень, с улыбкой оглядел нас. В комнате был и Жак, он поздравил нас обоих, но, взглянув на ярко-красный велосипед, который я выбрал, расхохотался.
– Ладно, Шарль их перекрасит до неузнаваемости, – сказал он, заливаясь смехом.
Я не мог понять, что тут такого забавного, да и Эмиль, судя по его мрачному виду, тоже.
По лестнице спустился человек в майке, это и был обитатель вокзальчика; так я впервые встретился с «умельцем» бригады. Он разбирал и собирал велосипеды, изготавливал бомбы для подрыва поездов, учил товарищей выводить из строя кабины самолетов, которые собирали на местных заводах и перевозили на платформах, объяснял, как подрезать стяжки крыльев у бомбардировщиков, чтобы по прибытии в Германию гитлеровские машины не скоро поднялись в воздух. Я обязательно должен рассказать тебе о Шарле, нашем товарище, который потерял все передние зубы, воюя в Испании, побывал в стольких странах, что спутал все их языки и изобрел свой собственный, такой причудливый, что его никто толком не понимал. Я просто обязан рассказать тебе о Шарле, потому что, если бы не он, мы никогда не совершили бы всего, что нам предстояло совершить в ближайшие месяцы.
А сегодня, в этой комнате старого заброшенного вокзала, нам всем кому семнадцать, кому двадцать лет, мы скоро будем воевать, и Жак, несмотря на его недавний взрыв смеха при виде моего красного велосипеда, выглядит встревоженным. Я очень скоро пойму причину его тревоги.
В дверь стучат, это пришла Катрин. Она очень красивая, Катрин, и, судя по взгляду, которым она обменивается с Яном, могу поклясться, что между ними что-то есть, хоть это и невозможно. Правило номер один: никаких любовных историй, когда работаешь в подполье, в Сопротивлении, – так объяснил нам Ян, инструктируя, как себя вести. Это слишком опасно: если тебя арестуют, есть риск, что ты заговоришь, чтобы спасти того или ту, кого любишь. «Закон бойца Сопротивления – не иметь привязанностей», – сказал Ян. Однако сам он привязан к каждому из нас, уж это-то я сразу почуял. Мой братишка ничего не слушает, он жадно поедает омлет Шарля; мне кажется, если я его не остановлю, он и вилку проглотит. Я вижу, как он косится на сковороду; Шарль тоже это заметил, он встает и с улыбкой подкладывает ему добавку. Что и говорить, омлет у Шарля – просто объедение, особенно для наших, так долго пустовавших желудков. Шарль разводит огород позади своего вокзала, а кроме того, держит трех кур и даже кроликов. Он у нас садовник, иными словами, это его прикрытие, и местные жители очень его любят, несмотря на кошмарный иностранный акцент. Он раздает им выращенный салат. И потом, огород вносит хоть какие-то краски в унылый пейзаж, за что окружающие тоже любят этого самодеятельного колориста, даже с его кошмарным иностранным акцентом.
Ян говорит спокойно и размеренно. Он ненамного старше меня, но уже производит впечатление зрелого мужчины, его невозмутимость вызывает уважение. Все, что он говорит, приводит нас в трепет, у него какая-то необычная аура. Рассказы Яна звучат пугающе, когда он описывает акции, совершенные Марселем Лангером и ведущими членами бригады. Вот уже год, как они действуют в районе Тулузы – Марсель, Ян, Шарль и Хосе Линарес. Двенадцать месяцев борьбы, в течение которых они забросали гранатами пирующих нацистских офицеров, подожгли баржу, битком набитую бочками с бензином, спалили гараж с немецкими грузовиками. На их счету столько подобных операций, что за один вечер и не перечислить; рассказы Яна звучат пугающе, и тем не менее от него веет теплом, которого нам всем, осиротевшим детям, так сейчас не хватает.
Ян умолк: Катрин вернулась из города с новостями о Марселе, командире бригады. Он сидит в тюрьме Сен-Мишель.
Марселя арестовали из-за нелепой случайности. Он поехал на вокзал Сент-Ань, чтобы забрать чемодан, который везла одна из девушек бригады. В чемодане лежала взрывчатка – капсулы аблонита диаметром двадцать четыре миллиметра и брусочки динамита. Эти бруски, по шестьдесят граммов каждый, несколько испанских шахтеров, сочувствующих Сопротивлению, стащили с карьеров Полиль, где они работали.
Операцию по передаче чемодана организовал Хосе Линарес. Он запретил Марселю ехать за посылкой на маленьком поезде, курсировавшем между пиренейскими городками; девушка и один его испанский приятель сами съездили в Люшон за чемоданом, который предстояло передать Марселю в Сент-Ань. Сент-Ань напоминал скорее полустанок, чем настоящую станцию. В этом деревенском захолустье, ничуть не похожем на город, на перроне людей было раз-два и обчелся; Марсель ждал у турникета между платформой и выходом в город. Двое жандармов совершали обход перрона, высматривая пассажиров, везущих съестные припасы для местного черного рынка. Когда девушка вышла из вагона, она встретилась взглядом с жандармом, решила, что он в чем-то ее заподозрил, попятилась и, конечно, привлекла к себе его внимание. Марсель понял, что сейчас ее будут обыскивать, решительно направился в ее сторону, сделал ей знак подойти к дверце, выхватил у нее из рук чемодан и шепотом приказал исчезнуть. Жандарм, пристально наблюдавший за этой сценой, бросился к Марселю. Когда он велел ему открыть чемодан, Марсель ответил, что у него нет ключа. Жандарм велел ему следовать за ним, и тогда Марсель сказал, что это посылка для людей из Сопротивления и что они обязаны его пропустить.
Жандарм ему не поверил, и Марселя доставили в центральный комиссариат полиции. Рапорт, напечатанный на машинке, гласил, что на вокзале Сент-Ань был задержан террорист, имевший при себе шестьдесят брусков динамита.
Это было дело чрезвычайной важности. Им занялся некий комиссар по фамилии Коссье, и в течение нескольких дней Марселя пытали, добиваясь признаний. Он не назвал ни одного имени, ни одного адреса. Усердный комиссар Коссье отправился в Лион для консультации с вышестоящими чинами. Наконец-то французской полиции и гестапо достался показательный случай – иностранец с чемоданом динамита, да еще вдобавок еврей и коммунист – словом, образцовый террорист, наглядный пример, с помощью которого они надеялись подавить у населения всякое желание сопротивляться властям.
Когда обвинение было сформулировано, Марсель предстал перед чрезвычайной судебной комиссией Тулузы. Заместитель генерального прокурора Лепинас, человек крайне правых убеждений, ярый антикоммунист и сторонник вишистского режима, должен был стать идеальным обвинителем, на преданность которого правительство маршала вполне могло рассчитывать. При нем закон будет приведен в действие без всяких поблажек, без учета смягчающих обстоятельств, без ссылок на исторический контекст. Получив это назначение, Лепинас, лопаясь от гордости, поклялся себе, что добьется у суда смертной казни для Марселя.
Тем временем девушка, избежавшая ареста, известила о случившемся бригаду. Товарищи сейчас же связались с Арналем, председателем коллегии адвокатов и одним из лучших судебных защитников. Он считал немцев врагами, и теперь ему представилась возможность заступиться за людей, которых преследовали без веских на то оснований. Бригада лишилась Марселя, но зато привлекла к его делу влиятельного, уважаемого в городе человека. Когда Катрин заговорила с Арналем о гонораре, тот отказался от всякой платы.
Каким же страшным останется то утро – утро 11 июня 1943 года – в памяти партизан! Каждый живет своей жизнью, но скоро судьбы многих людей сойдутся вместе. Марсель смотрит в окошко своей одиночки на занимающийся день, он знает, что сегодня его ждет суд. И что его приговорят к смерти, на этот счет он не питает никаких иллюзий. В своей квартире неподалеку от тюрьмы старый адвокат, который будет его защищать, готовится к процессу. В кабинет входит дом-работница, она спрашивает, не приготовить ли ему завтрак. Но в это утро, 11 июня 1943 года, мэтр Арналь не чувствует голода. Всю ночь ему слышался голос прокурора, требующего головы его подзащитного; всю ночь он ворочался без сна в постели, подбирая самые сильные, самые убедительные доводы, способные опровергнуть обвинения его противника, прокурора Лепинаса.
И пока мэтр Арналь снова и снова продумывает свою речь, грозный Лепинас входит в столовую своего роскошного дома. Он садится за стол, разворачивает газету и пьет утренний кофе, который подает ему супруга в его роскошной столовой.
Марсель, в своей одиночке, тоже пьет – горячее пойло, которое приносит ему тюремщик. Судебный исполнитель только что зачитал ему вызов на заседание чрезвычайной судебной комиссии города Тулузы. Марсель глядит в окошечко: небо стало чуть светлее, чем минуту назад. Он думает о маленькой дочке, о жене; они сейчас где-то в Испании, по другую сторону Пиренеев.
Супруга Лепинаса встает, целует мужа в щеку и уходит на собрание благотворителей. Прокурор надевает пальто, смотрится в зеркало, довольный своим внушительным видом и уверенный в победе. Он затвердил свою речь наизусть – именно затвердил, ибо он будет тверд в своем бессердечии. Перед домом его ждет черный «ситроен», машина отвезет его во Дворец правосудия.
На другом конце города жандарм по фамилии Кабаннак выбирает у себя в шкафу самую красивую рубашку – белую, с накрахмаленным воротничком. Это тот самый молодой жандарм, который доставил арестованного в полицию, и сегодня ему предстоит выступать как свидетелю. Завязывая галстук, он чувствует, что у него взмокли ладони. Предстоящее действо вызывает у него смутное сомнение, что-то в нем не так, он это чувствует, жандарм Кабаннак; если бы можно было прокрутить все назад, уж он бы дал сбежать этому типу с его черным чемоданом. Враги-то ведь немцы, а не такие парни, как этот. Но как же быть с французским государством, с его административной машиной. Он в этой механике не более чем простой винтик, и не ему нарушать ее ход. Уж он-то, жандарм Кабаннак, неплохо в этом разбирается; в свое время отец многому его научил, в том числе и моральным принципам, они всегда идут с ней в паре. По выходным он с удовольствием занимается починкой своего мотоцикла в отцовском сарайчике-мастерской. Ему хорошо известно, что стоит потерять какую-нибудь деталь, как весь механизм дает сбой. Вот почему Кабаннак подтягивает влажными руками узел галстука под накрахмаленным воротничком красивой белой рубашки и направляется к трамвайной остановке.
Вдали показывается черный «ситроен», он обгоняет трамвай. Пожилой человек, сидящий на деревянной скамейке в задней части вагона, перечитывает записи. Мэтр Арналь на миг поднимает голову и снова погружается в чтение. Дело обещает быть очень сложным, но ничто еще не потеряно. Трудно поверить, что французский суд приговорит к смерти патриота своей страны. Лангер – отважный человек, один из тех, кто действует, руководствуясь законами чести. Он понял это с первой же минуты их встречи в камере. У заключенного было страшное, распухшее лицо, синяки на скулах от жестоких ударов, которыми его осыпали тюремщики, разбитые в кровь губы посинели и вздулись. Адвокат пытается представить себе Марселя до того, как его «обработали», изуродовали донельзя, оставив на нем эти отпечатки зверской жестокости. «Черт побери, они же сражаются за нашу свободу, – бурчит себе под нос Арналь, – неужели это так трудно понять?!» Ладно, если наш суд такой непонятливый, он, Арналь, постарается открыть им глаза. Пускай парня приговорят к тюремному заключению, чтоб другим неповадно было, это еще куда ни шло, так они хотя бы «сохранят лицо», но смертный приговор – нет, нет и нет! Это было бы недостойно французского правосудия. И к тому моменту, как трамвай с металлическим скрежетом тормозит на остановке «Дворец правосудия», мэтр Арналь вновь обретает необходимую уверенность в благоприятном воздействии своей защитительной речи на судей. Он выиграет этот процесс, он скрестит шпаги со своим противником, прокурором Лепинасом, и спасет жизнь этого молодого человека, своего подзащитного. «Марсель Лангер», – повторяет он шепотом, поднимаясь по ступеням.
Пока мэтр Арналь шагает по длинному коридору дворца, Марсель, прикованный наручником к жандарму, ждет неподалеку, в тесной комнатушке.
Процесс проходит за закрытыми дверями. Марсель сидит в боксе для подсудимых, Лепинас поднимается с места, не удостоив его ни единым взглядом: ему наплевать на человека, которого он решил осудить, он знать его не желает. Перед ним всего несколько листков. Для начала он воздает должное бдительности жандармерии, которая пресекла на корню деятельность опасного террориста, затем напоминает высокому суду о своем долге, повелевающем ему уважать закон и заставить уважать его других. Далее, ткнув пальцем в сторону подсудимого, на которого он так и не взглянул, прокурор Лепинас приступает к обвинению. Огласив длинный список покушений, жертвами коих стали немцы, он просит присутствующих вспомнить о том, что Франция подписала почетный договор о перемирии и что обвиняемый – кстати, даже не француз! – не имеет никакого права подрывать авторитет государства. И потому говорить в данном случае о смягчающих обстоятельствах означало бы попирать честь самого маршала. «Если господин маршал согласился на перемирие, он сделал это во благо Нации! – напыщенно заявляет Лепинас. – И мы не позволим какому-то иностранному террористу порочить его решение!»
В конце выступления, решив разбавить свой пафос каплей юмора, он напоминает, что Марсель Лангер перевозил отнюдь не петарды для 14 июля, а взрывчатку, предназначенную для подрыва немецкой техники, иными словами, собирался нарушить мирную жизнь французских граждан. Марсель улыбается. Как же они теперь далеки – эти фейерверки 14 июля!
На тот случай, если защита прибегнет к аргументам патриотического порядка, с целью добиться для Лангера смягчающих обстоятельств, Лепинас еще раз напоминает суду, что обвиняемый – человек без родины, что он предпочел бросить жену и малолетнюю дочь в Испании, куда также приехал заниматься подрывной деятельностью, даром что был польским гражданином и не имел никакого отношения к испанскому конфликту. Что Франция, в безграничном своем милосердии, оказала ему гостеприимство, но отнюдь не для того, чтобы он сеял здесь беспорядок и хаос. «Я спрашиваю себя, как этот апатрид смеет утверждать, что он действовал подобным образом во имя патриотических идеалов!» Лепинас усмехается, довольный своим каламбуром, своей патетической фразой. И, опасаясь, что судьи страдают амнезией, он еще раз зачитывает обвинительный акт, напоминает о законах, требующих за такие преступления смертной казни, и выражает удовлетворение тем фактом, что эти законы так строги и неумолимы. Выдержав паузу, Лепинас поворачивается к обвиняемому и наконец-то удостаивает его взглядом. «Вы иностранец, коммунист и подпольщик – вот три преступления, каждое из которых заслуживает того, чтобы я просил суд о смертном приговоре». Затем он поворачивается к судьям и бесстрастным тоном требует для Марселя Лангера смертной казни.
Мэтр Арналь, белый как стена, поднимается в ту самую минуту, когда Лепинас усаживается на место. Старый адвокат стоит, прикрыв глаза, откинув назад голову и прижав руки ко рту. Судьи замерли, смолкли, секретарь бесшумно кладет на стол ручку. Даже жандармы и те затаили дыхание, ожидая начала его речи. Но в эту минуту мэтр Арналь не в силах говорить, он борется с тошнотой.
Только сейчас он – последним из присутствующих – понял, что исход процесса заранее известен и решение давно принято. А ведь Лангер говорил ему об этом еще в своей камере; он-то знал, что уже приговорен. Но старый адвокат свято верил в правосудие и без конца уверял Марселя, что тот ошибается, что он будет защищать его, как повелевает долг, и непременно выиграет дело. А теперь мэтр Арналь спиной чувствует взгляд Марселя, и ему чудится, будто он слышит его голос: «Вот видите, я был прав, но я на вас не сержусь, вы все равно ничего не смогли бы сделать».
И тогда на мэтра Арналя нисходит вдохновение; воздев руки, так что широкие рукава его мантии какое-то мгновение словно парят в воздухе, он приступает к своей защитительной речи. Кто смеет расхваливать работу жандармерии, когда на лице обвиняемого отчетливо видны следы жестоких побоев? Кто смеет шутить по поводу 14 июля в сегодняшней Франции, лишенной права отмечать этот праздник? И что знает об этих иностранцах прокурор, который их обвиняет?
Познакомившись с Лангером в камере свиданий, он, Арналь, понял, как искренне эти, по определению Лепинаса, «апатриды», любят страну, которая их приняла, как все они готовы, подобно Марселю Лангеру, защищать ее, отдать за нее жизнь. Прокурор не пожалел черных красок, описывая обвиняемого. На самом же деле это прямодушный, честный человек, любящий муж и отец. И в Испанию он приехал вовсе не для того, чтобы стрелять и взрывать, а потому, что больше всего на свете ему дороги свобода и человечность. Разве Франция еще вчера не была страной, где главенствовали права человека? Осудить на смерть Марселя Лангера – значит разрушить надежду на жизнь в более справедливом мире.
Выступление Арналя длилось больше часа, он говорил, напрягая последние силы, но его слова не встречали отклика у судей, уже принявших решение. Страшный это был день – 11 июня 1943 года. Приговор прозвучал, Марселя ждала гильотина. Когда Катрин узнает эту новость в кабинете Арналя, она до боли стиснет зубы, но стойко выдержит этот удар. Адвокат клянется, что так этого не оставит, что он поедет в Виши просить о помиловании.
Сегодня вечером в помещении заброшенного вокзальчика, которое служит Шарлю и жилищем и мастерской, за столом больше народу, чем обычно. С момента ареста Марселя командование бригадой принял на себя Ян. Катрин села рядом с ним. По взгляду, которым они обменялись, я окончательно убедился, что они любят друг друга. И все же в глазах Катрин застыла грусть, она с трудом выговаривает слова, сообщая нам страшную новость: Марсель приговорен к смерти французским прокурором. Я не знаком с Марселем, но у меня, как и у всех сидящих за столом, тяжело на сердце, и даже у моего младшего брата пропал аппетит.
Ян ходит по комнате взад-вперед. Все молчат, ждут, что он скажет.
– Если они пойдут до конца, придется убрать Лепинаса, чтобы запугать их; иначе эти сволочи начнут посылать на гильотину всех партизан, которые попадут им в лапы.
– Пока Арналь будет добиваться помилования, можно было бы подготовить акцию, – добавляет Жак.
– Его апеласьон взять гораздо болше времья, – шепчет Шарль на своем невозможном языке.
– А пока мы, значит, так и будем сидеть сложа руки? – спрашивает Катрин; она одна поняла, что хотел сказать Шарль.
Ян в раздумье продолжает мерить шагами комнату.
– Необходимо действовать именно сейчас. Раз они осудили на смерть Марселя, мы казним одного из них. Завтра мы прикончим немецкого офицера прямо на улице, а потом распространим листовки с объяснением причин этой акции.
Я, конечно, не очень-то разбираюсь в политических акциях, но у меня в голове вертится одна идея, и я рискую подать голос:
– Если мы и вправду хотим их запугать, лучше всего сперва распространить листовки, а потом уже убить немецкого офицера.
– И таким образом поднять их всех на ноги? Может, еще что-нибудь умное скажешь, в том же роде? – говорит Эмиль; он, судя по всему, меня невзлюбил.
– Мое предложение не так уж глупо, даже если осуществить эти две акции с разрывом всего в несколько минут, но именно в таком порядке. Сейчас объясню. Если сначала угробить боша, а потом разбросать листовки, мы будем выглядеть трусами в глазах населения. Ведь и Марселя сперва судили и только потом приговорили к смерти.
Я сильно сомневаюсь, что «Депеш» правильно осветит сомнительный приговор, вынесенный герою-партизану. Они просто сообщат, что суд приговорил к смерти какого-то террориста. В таком случае нужно играть по их правилам; город будет на нашей стороне, а не на их.
Эмиль собрался было прервать меня, но Ян сделал ему знак не мешать мне говорить. В моих рассуждениях была логика, оставалось только найти нужные слова, чтобы убедить товарищей в своей правоте.
– Давайте завтра же утром напечатаем объявление о том, что в ответ на смертный приговор Марселю Лангеру Сопротивление осудило на казнь немецкого офицера. И еще напишем, что наш приговор будет приведен в исполнение сегодня же, начиная с полудня. Я займусь офицером, а вы в это время будете всюду разбрасывать листовки. Люди сразу узнают, в чем дело, тогда как новость об уже совершенной акции распространится по городу только спустя какое-то время. Газеты напишут об этом лишь на следующий день, и таким образом видимость нужной очередности событий будет соблюдена.
Ян глядит на каждого из присутствующих; наконец он встречается взглядом и со мной. Я знаю, что он принял мои аргументы – правда, с одной оговоркой: он слегка вздрогнул, услышав мое дерзкое заявление о том, что я беру на себя убийство немца.
В любом случае, если он еще колеблется, у меня припасен неоспоримый довод: эта идея принадлежит мне; кроме того, я украл велосипед и, стало быть, доказал свою готовность выполнить указания бригады.
Ян смотрит на Эмиля, на Алонсо и Робера, потом на Катрин, та кивает. Шарль внимательно следит за этой сценой. Затем встает, уходит в кладовку под лестницей и возвращается с обувной коробкой. Вынимает из нее и протягивает мне револьвер с барабаном.
– Этот вечер лутше твой фратер, и ти спать тут.
Ян подходит ко мне.
– Значит, так: ты будешь стрелять; ты, испанец (он обращается к Алонсо), подашь ему знак, а ты, малыш, будешь держать велосипед наготове, только разверни его в ту сторону, куда будете уходить.
Вот и все. Я понимаю, мой рассказ звучит как-то обыденно; к этому нужно добавить, что Ян и Катрин ближе к ночи ушли, а я остался – с оружием, заряженным шестью пулями, и с моим дурачком-братом, которому во что бы то ни стало хотелось посмотреть, как из него стреляют. Алонсо придвинулся ко мне и спросил, откуда Яну известно, что он испанец, ведь он же за весь вечер ни разу рта не раскрыл.
– А откуда Ян знал, что стрелять назначат меня? – сказал я, пожав плечами. Я не ответил на вопрос Алонсо, однако молчание моего нового друга свидетельствовало о том, что мой вопрос заставил его позабыть о своем собственном.
В тот вечер мы впервые заночевали у Шарля в столовой. Я буквально валился с ног от усталости, но мне пришлось засыпать с тяжестью на груди: во-первых, на меня давила голова братишки, который со времени разлуки с родителями завел противную привычку спать тесно приткнувшись ко мне; во-вторых, я ощущал увесистый револьвер с барабаном, засунутый в левый нагрудный карман куртки. И, хотя сейчас он пока не был заряжен, я даже во сне боялся, как бы не продырявить голову моему младшему брату.
Когда все уснули, я тихонько встал и на цыпочках вышел в сад за домом. Шарль держал там собаку спаниеля, доброго и ужасно глупого.
Я вспоминаю этого пса, потому что в ту ночь мне ужасно хотелось погладить его мохнатую голову. Присев на стул под натянутой бельевой веревкой, я взглянул в небо и вытащил из кармана свой «пугач». Пес подошел и обнюхал ствол, а я гладил его по голове, приговаривая, что он единственное существо, которому я даю понюхать мое оружие. Я говорил так потому, что в тот момент мне очень нужно было почувствовать уверенность в своих силах.
В конце минувшего дня, украв пару велосипедов, я вступил в ряды Сопротивления и только теперь, ночью, слыша простуженное сопение своего братишки, наконец поверил в то, что это произошло. Я превратился в Жанно из бригады Марселя Лангера; в течение многих последующих месяцев я взрывал поезда и опоры электропередач, выводил из строя моторы и крылья самолетов.
Я был членом группы, которой удалось немыслимое – сбивать немецкие бомбардировщики… с велосипеда.
4
Нас разбудил Борис. Еще только начинает светать, голодные спазмы терзают желудок, но я не должен обращать на это внимание, сегодня мы завтракать не будем. И потом, на меня возложена важная миссия. Сильно подозреваю, что у меня крутит кишки больше от страха, чем от голода. Борис садится к столу, Шарль уже за работой: красный велосипед преображается прямо на глазах, он уже лишился своих кожаных наконечников на руле, теперь их сменили другие, непарные – один красный, другой синий. Что ж, как ни жаль раскурочивать эту элегантную машину, я уступаю доводам разума: главное, чтобы краденые велосипеды никто не признал. Пока Шарль проверяет переключатель скоростей, Борис знаком подзывает меня к себе.
– Планы изменились, – говорит он. – Ян не хочет, чтобы вы шли на акцию все втроем. Вы новички, и, если возникнут проблемы, лучше, чтобы вас подстраховывал кто-то из опытных бойцов.
Не знаю, что это значит: может, бригада еще недостаточно мне доверяет. Поэтому я молчу и предоставляю говорить Борису.
– Твой брат останется здесь. А я буду тебя сопровождать и прикрою твой отход. Теперь слушай внимательно, как все должно пройти. Чтобы убить врага, есть особый метод, и нужно следовать ему буквально, это очень важно. Эй, ты меня слушаешь?
Я киваю. Борис, наверное, понял, что на какой-то миг я отвлекся от разговора. Я думал о братишке: вот разобидится-то, когда узнает, что его отстранили от дела. А я даже не смогу его убедить, что мне будет спокойней от сознания, что сегодня утром его жизнь не подвергнется опасности.
И вдвойне спокойней оттого, что Борис студент третьего курса мединститута и, если меня подстрелят во время акции, сможет мне помочь, хотя это совершенно дурацкая мысль, ведь в таких операциях самый большой риск не в том, что тебя ранят, а в том, что ты будешь арестован или попросту убит, а это, в большинстве случаев, почти одно и то же.
Но, как бы то ни было, я признаю, что Борис прав, – наверное, я действительно отвлекся, пока он говорил; могу только сказать в свое оправдание, что всегда отличался этой прискорбной особенностью – грезить наяву, даже мои преподаватели всегда говорили, что я из породы рассеянных. Это было еще до того, как я вздумал сдавать экзамены на бакалавра, а директор лицея отправил меня домой. Ибо с такой фамилией, как моя, о бакалавриате и мечтать не приходилось.
Ну да ладно, я встряхиваюсь и заставляю себя сосредоточиться на плане предстоящей акции, иначе мой товарищ Борис, старательно излагающий мне, шаг за шагом, что нужно делать, в лучшем случае отчитает меня за невнимание, а в худшем попросту лишит возможности участвовать в операции.
– Ты меня слушаешь? – спрашивает он.
– Да-да, конечно!
– Значит, как только мы засечем цель, обязательно проверь, снят ли револьвер с предохранителя. У нас бывали случаи, когда ребята попадали в серьезные переделки, думая, что оружие дало осечку, а на самом деле они попросту забывали снять его с предохранителя.
Я подумал, что это и впрямь дурацкая случайность, но когда тебе страшно, по-настоящему страшно, ты становишься таким неуклюжим, что хоть плачь; это действительно так, можешь поверить мне на слово. Главное было не прерывать Бориса и вникнуть в его указания.
– Нужно, чтобы это был офицер, простых солдат мы не убиваем. Это тебе ясно? Мы пойдем за ним на некотором расстоянии, не слишком далеко и не слишком близко. Я буду вести наблюдение за окружающим сектором. Ты подойдешь к нему и выпустишь несколько пуль, только считай выстрелы, чтобы оставить один про запас. Это очень важно: при отходе он может тебе понадобиться, никогда ведь не знаешь, как все обернется. Я буду прикрывать твой отход. А твое дело – посильней жать на педали. Если кто-то попытается тебя задержать, я тебя защищу. Что бы ни случилось, не оборачивайся, жми на педали и сваливай поскорей, понял?
Я попытался сказать «да», но у меня жутко пересохло во рту, язык будто к нёбу прилип. Борис истолковал мое молчание как согласие и продолжал:
– Когда отъедешь достаточно далеко, сбавь скорость и кати себе спокойненько, как обычный велосипедист. С той лишь разницей, что тебе придется ездить по городу очень долго. Будь внимателен: если заметишь, что за тобой кто-то увязался, ни в коем случае не рискуй, иначе приведешь его к себе на квартиру. Выезжай на набережные, останавливайся почаще и проверяй, нет ли вокруг лиц, которые ты уже где-то видел. Не верь в совпадения, в нашей подпольной жизни их не бывает. И возвращайся только тогда, когда на сто процентов убедишься, что все чисто.