Фартовый Чарли Нетребо Леонид
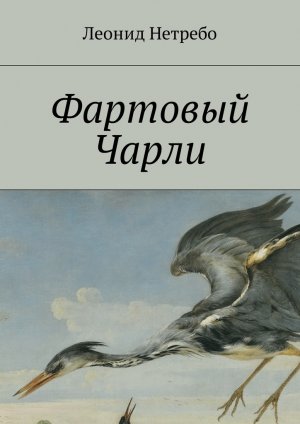
ПРОСТРЕЛЕННЫЙ
…Пуля навылет – ему показалось, что он ее увидел, звякнувшую и покатившуюся по каменному тротуару, побежавшему вниз. И он сам, необычно напрягшись, как бы покатился без сил, на одном ускользающем разуме, на понимании того, что нельзя останавливаться, нельзя показывать тем, кто сейчас смотрит в спину, что его прошило насквозь: пусть думают, что это он просто так на секунду остановился, оттого, что рядом прожужжало что-то, щелкнуло по дувалу, чиркнуло по камням. Нельзя показывать кровь, которая, наверняка, уже залила всю пазуху и спину, и сейчас просочится сквозь гимнастерку, туго обхваченную ремнем, и закапает на камни. Они увидят это в бинокль и сейчас же пойдут следом. А так… дырку в спине, в гимнастерке, издалека вряд ли видно: гимнастерка нова и к тому же великовата, с воздухом, он не успел ее ушить, спина в складках, да и так прохладнее, чем в обтяжку. Пусть думают, что он, завернув за угол, быстро ушел с этого места, спеша по своим делам. Нужно еще сделать какой-нибудь жест, разочаровывающий их напряженное внимание (нет подранка, уходит здоровый зверь, промах, поэтому уйдет, бесполезно догонять, торопиться по следу). Он демонстративно поднимает над головой левую руку, отводит вывернутую ладонь в сторону: «…ах, да, сколько там времени?» Не слишком ли картинно? Удивился, что «как в кино», не чувствует боли, только жжение под правым плечом, а рука безжизненной плетью застряла в кармане брюк, может быть, кстати, – невольная маскировка под непотревоженную беспечность. Что ж, нате еще, последнее: поворачивая за угол, быстро и как бы небрежно, вытянув губы в трубочку, имитирующую простодушный посвист, который наблюдатели просто не могут слышать, как бы машинально оглядывается. Оказалось, двойная польза: убедился, – крови на тротуаре нет.
Вот и спасительный поворот. Дувал – надежная преграда от взглядов тех, кто за ним только что внимательно наблюдал. Всё. Всё ли? Он опустил голову, изображение резко поплыло, прикрыл один глаз, – предметы нехотя приняли привычный вид. Так и есть – темная, мокрая, тяжелая полоса вдоль пояса, кровь… Сейчас она где-нибудь найдет выход, даже через плотную ткань гимнастерки или под тугим поясом, и предательски закапает, прольется на землю гибельным следом. Через несколько минут они обязательно пройдут здесь, не догоняя, прогуляются, – почему нет? – оставив винтовку с глушителем в укрытии, вдвоем или втроем, чтобы осмотреть место, куда так неудачно положили выстрел, чтобы покачать головами, поцокать языками, весело поупрекать друг друга: вах, какой был шурави, наверное, офицер, вай, как жалко, вроде хорошо прицелился, должен был попасть, э-эах, мазила, как не попал? – вот если бы с оптическим прицелом! – жалко, цок-цок-цок… И, завершая неудачную охоту, полоскаясь от быстрого шага длинными одеждами, растворяться в знойном мареве городской окраины, пустынном полуденном царстве узких глинобитных улочек. Но если увидят кровь, то обязательно начнут искать, заходить во дворы, спрашивать жителей…
Силы покидают. А вот и теплая влага щекотливо и быстро побежала по ногам. Он толкает первую попавшуюся калитку и проваливается во двор, оказавшийся ниже уровня тротуара, от неожиданности падает, подламывая ногу, и ударяется головой об утрамбованную, утоптанную, твердую как асфальт землю. Хотя, он и так бы уже упал, пора, силы на исходе. Он знает, видел – все простреленные в это время уже падают, сколько можно… Он лежит на боку и, не пытаясь поднимать голову от земли, прищурив один глаз и, может быть, постанывая, осматривает двор. Словно потерянный собутыльниками пьяница, не удосуживающийся вынуть руку из кармана брюк, под которыми проступает темная лужа. Подходит седой старик с огромным кетменем наперевес и гневно, удивленно спрашивает по-узбекски (это узбекский район в Кабуле): «Сен каердан кельдынг, урус?» – Ты откуда пришел (появился, приперся), русский?..» Ему знаком этот язык, он немного жил в Ташкенте. Впрочем, нет, здесь язык не такой, как в Ташкенте, даже он это чувствует, здесь чужой язык. Старик не смотрит ему в лицо, он смотрит на лужу. Нижняя челюсть, наверняка беззубая, прикрывающая десна завернутой вовнутрь губой, трясется вместе с острой редкой бородой…
…Павел проснулся, потрогал живот – мокрый, хлюпающая складка, это от пота. Шевельнул плечом, нащупал шрам, привычный плотный узелок над правым соском груди. Все на месте… Эти сны страшны ожиданием того, что где-нибудь пойдет не по верному – незнакомому, неожиданному, смертельному пути. Хотя, и «верное» ужасно само по себе, если даже без неожиданностей, – годы не притупляют страха. Да, на этот раз все было почти так, как было. Правда, сейчас, в только что минувшем сновидении, он больше, чем на самом деле, думал, анализировал, с дыркой в теле убегая от «духов»… В действительности же… (Впрочем, что значит «в действительности»? – то, что физически произошло или то, от чего страдаешь?) Многозначность слова определяет панику души… Значит, выход в том, что нужно возвращаться к определенности, однозначности. Итак: если быть точным, то это он потом, много позже, присочинил себе, что сосредоточенно размышлял – тогда. И теперь каждый следующий, один из избитых, с небольшими вариациями, снов прибавляет мыслей тому лейтенанту, пробитому пулей, и плотность ужаса на секунду сна все возрастает. А на самом деле (долой, долой второй смысл!), на самом деле, о чем мог думать простреленный человек?.. Ну, вот, уже лучше.
Почти полдень. Нельзя так долго спать. А что делать, если заснул только под утро.
…Потный, чумной после позднего сна, он вывалился наружу, присел в пустом открытом кафе. Здесь можно сидеть просто так. Если хочется. Если неспроста, то изящный, высокий официант, весь в белом, с черной бабочкой, поэтому безликий, тривиальный, наблюдающий откуда-то изнутри стеклянной веранды с затемненными стеклами, неуловимо поймет это и выйдет наружу: чем я могу?..
Посетителей мало – поздняя осень. Еще тепло, но уже падают листья – в бассейн с рыбками, окруженный столиками открытого кафе, в котором мало посетителей, в основном обитатели дома отдыха. Рыбки плавают под чашей спокойного фонтана, создающей тень. В тени они все серые. На самом деле, на свету, они желтые, красные, огненные. Это самые настоящие золотые рыбки с выпученными глазами и вуалевыми раздвоенными хвостами, которых на лето выпускают из аквариума в бассейн. Здесь они, как в природе, инстинктивно начинают бояться людей, поэтому плавают в тени. В прошлую осень, рассказывают, один «новый» велел выловить их и зажарить. Заплатил большие деньги. Но есть, говорят, не стал, побрезговал, что ли, только поковырялся вилкой. Рядом с бассейном, ближе к веранде с кухней, небольшой водоемчик, метр на полтора: тут плавают, вернее, ползают по мелкому дну, стандартные, с ладонь, усталые форели, их можно потрогать за темные спинки, выбрать. Рыбину тут же ловко извлекут удобным пластмассовым сачком, на глазах посетителя (если угодно) почистят от чешуи, вскроют брюшко, выпотрошат и кинут на сковородку. Подадут на стол с охапкой зелени: милости прошу, пожалуйста, господин, госпожа, форель-с!..
Днем тут, как правило, тихо: обитатели пансионата разбредаются по городу, многие на процедурах. Да и вообще, коридоры дома отдыха полупустые, в любое время суток, – бархатный сезон если и рай, довольно многолюдный, то на море. А здесь, в сотне километров от края земли, в это время царит тишина (хотя, может статься, на оптимистичный взгляд, тоже бархатная…) Даже не видно гор, которые могли бы являться, по меньшей мере, зрительным шумом-гулом, их закрывают дремучие кроны вековых деревьев. Горы лишь угадываются в звуках ближней трассы, доносящихся непременно сверху. Но и шорох шин, усиленный акустикой каменного царства, да изредка нетерпеливые стоны клаксонов, идущих на обгон авто, только подчеркивают отдаленность от цивильного гомона, спутника суеты.
И все же вечером кафе оживает. Выползает из своих келий обитатели дома отдыха, подъезжают такси, подвозя местное население, предпочитающее активный вечерний отдых. До полуночи звучат шлягеры, публика вполне достойно отдыхает, забирая последнее перед надвигающейся зимой, которая на четыре слякотных месяца умертвит курортную бесшабашность южного города.
Напрасно он выбрал это место для отдыха. Горы. На море было бы лучше, хотя и там горы. Прибавилось снов, он совсем перестал высыпаться.
…Вчера опять снился издыхающий ишак, кричащий, весь в крови.
…Душман (скорее всего крестьянин в длинных рубищах, при нем не оказалось оружия, только кетмень и садовый нож) лежит рядом, сраженный первой очередью. Ишак страшно кричит, ерзая в пыли, размазывая черную кровь по дороге. Из засады в него стреляют, вокруг фонтанчики из пыли от пуль. Чтобы заглох. Из засады орут, матерятся, силясь заглушить этот трубный крик. Фонтанчики, пузырится одежда на крестьянине. Потом они покидают засаду и двигаются в сторону кишлака. Разведгруппа из пяти человек. Он, которому это снится, старший. Их только что забросили сюда на вертолете. Небо в той стороне, куда они двигаются, омрачено черным дымом… Он то и дело оглядывается по сторонам, удивляясь: сзади день, впереди ночь, кругом горы…
Кафе – это всего лишь часть территории дома отдыха, вернее, доля внутреннего парка, более или менее открытая небу. Выходящий из спального корпуса, если только он не держит направления к центральным воротам, за которыми – автобусная остановка, обязательно пересекает мозаичную дорожку и оказывается в кафе. Навязчивый сервис. Или, скорее, если учесть неназойливое поведение обслуги, ласковый намек. Видно, что кафе вселилось в центр исторической композиции парка недавно – современное, граненое, сине-желто-красное исполнение, красиво нарушающее архитектурную гармонию старины (овалы, гребни, шары, цилиндры, – все белое), и даже претендующее на модерновую часть гармонии новой. Единственная заградительная конструкция кафе, если не считать веранду с кухней, – полупрозрачный купол со светоотражательным покрытием, над всей полезной площадью, висящий на цепных растяжках, через который ночью хорошо просматривается звездное небо, между тем как днем это надежная защита от солнца. Фонтан – под куполом. Он так и остался, согласно замыслу новых строителей, началом дорог и дорожек, которые разбегаются в разные стороны прямо от пластмассовых столиков. Вокруг, уходящие лучами, – кажущиеся фрагментами лилипутового королевства, узкие и низкие от разбухших вековых деревьев, аллеи; архаичные, с вековым слоем облупившейся краски скамейки и «девушки с веслами», частью без рук и без весел, – все провинциальное, старое, вросшее в землю.
Павел пошарил по карманам, ища сигареты. Как будто нажал какую-то сервисную кнопку, – официант с готовностью показал свою услужливую фигуру в широком створе кухонной веранды. Сигареты нашлись, официант опять исчез, как будто затаился, как снайпер, за темными ветровыми стеклами.
День только начинался, а Павел уже чувствовал себя утомленным. Сейчас он докурит сигарету и сделает свой обычный заказ, немного взбодрится, вернее, слегка утолит хроническую усталость. Дома он по большей части обходился без этого – дела, дела, дела… Изо дня в день. Спасительный круговорот.
Среди теней и солнечных пятен, рядом с кафе, гуляют молодая женщина и ребенок, туда и обратно, то исчезая в сумраке аллей, то появляясь вновь. Павел поймал себя на мысли, что от этой семейной идиллии веет прохладой. Это счастливая поимка. Нужно развить тему. «Это семейная идиллия… От них веет прохладой… Красивый ребенок, гладкая кожа, светлые кудри – ангел… Она – смуглая богиня, величавая, недоступная, прекрасная… Отличный предмет искреннего, платонического обожания… Приют для утомленной души, охваченной неутолимым жаром… От нее веет прохладой… Так веяло…» Ах, черт!..
…Так веяло от афганской узбечки, внучки старика, у которого он пролежал простреленный трое суток. Ему повезло: внучка какое-то время работала в аминовском госпитале, и кое-что умела. Она оказала первую помощь, которая определила его надежду на выживание. На третью ночь старик, чтобы не видели соседи, забросав тело старыми мешками, вывез раненного «шурави» на арбе к советскому госпиталю… Эта женщина чем-то напоминает ту узбечку: такая же скромно, но достойно молчаливая, и даже – восточные черты, едва, впрочем, уловимые. Однако та молчаливость была покорностью, покладистостью. А эта?.. Так, так, нужно найти разницу и уйти в сторону…
– Куда только мужчины смотрят!.. Добрый день.
Это старушка. Рядом, за соседним столиком. Он едва не зашиб ее вчера, невидяще идя по коридору. Долго извинялся. Она, закусив губу и прижав морщинистую ладошку к груди, только кивала. Она тоже похожа – на сиделку в госпитале. Такие же пепельные кудри и губы в яркой розовой помаде. Не слишком ли много похожестей. Еще немного и придётся констатировать окончательное схождение с ума. Пора уезжать отсюда?..
Он приветствовал старушку глубоким кивком головы. Затем, подумав, что вчерашнее их «знакомство» не дает ему право на формальный молчаливый кивок, встал из-за своего столика и присел с ее разрешения рядом с ней. Старушка улыбалась умными глазами и всеми морщинками, венчиками, расходившимися от уголков этих глаз, и редкими крошечными глотками пила остывший, подернувшийся сланцевой пленкой кофе. Видимо, давно наблюдала за своим соседом по кафе. Интересно, что он делал не так в последние минуты, в чем был, вполне возможно, смешон? Павел огляделся, ища официанта, который немедленно возник как будто из-за спины.
– Коньяк? – спросил, заранее уверенный в ответе, приветливо, как завсегдатая, но без фамильярности, соблюдая дистанцию.
Уже несколько дней Павел, помимо воли, наблюдает за этим гарсоном. Навязчивое ожидание вот-вот поймать в ясных глазах под аккуратным «ежиком» искорку превосходства, присущую, как раньше казалось, всей этой ресторанной шушере по отношению к таким как Павел простым людям. Поймать – и проучить!.. Хотя бы как-нибудь. Например, заказать нечто невыполнимое и, услышав отказ… Наивное и, скорее всего, напрасное желание – порочной искорки не обнаруживалось. Иное время – иные нравы.
В годы молодости Павла это была особая каста. Тогда официант мог быть как просто холуем, шестеркой (злобной, заискивающий перед сильными и люто презирающий слабых – безденежных горожан и вполне обеспеченных провинциальных толстосумов, лохов), – так и даже главарем мафиозной группы, значимым человеком. Его величество дефицит делал свое дело, – из ряда социальных извращений. Сейчас для того, чтобы быть «мафиозой» (тоже извращение, но бессмертное), совсем не обязательно прикидываться пролетарием или инвалидом.
Отрицательные воспоминания, навеянные безадресным и бесплотным, каким-то классовым, кастовым мщением, сменялись вполне доброжелательной констатацией нынешнего положения вещей. Бывали мгновения, когда хотелось даже пригласить официанта за столик, угостить коньяком, поговорить по-мужски. На вид парень гораздо моложе, но, наверное, тоже где-то служил. Возможно, в горячей точке. Наверняка у него многое было по-другому. Как?
Но следом за этим дружелюбием перед глазами обязательно мелькали неприятные фрагменты истории возвращения домой из Афгана, через Ташкент. Там, в столице Узбекистана, в одном из пустующих дневных ресторанов, белобрысый официант принял его, Павла, человека в неподогнанной, великоватой для фигуры гражданской одежде, за проезжего лоха. Наглый взгляд, издевательские уточнения заказанного меню. Почему это так необычно сильно задело Павла? Белобрысый… Если бы он оказался чернявым, плохо понимающим по-русски, Павел простил бы ему непонимание, которое порождает со стороны непонимающего лишь невольное беззлобное, а потому почти необидное, пренебрежение. Подошли блатные. Официант бесцеремонно оставил «лоха», и… еще полчаса ожиданий. Наконец Павел, улучив момент, ловко поймав двумя пальцами обидчика за галстук-бабочку, прервал его подобострастное, женоподобное порхание в сторону ненавистного столика с уверенными, холеными ликами. Далее – познакомил ресторанного соплеменника со своим дубовым столиком, обойденного должным вниманием, поближе, вдавив хрустнувшим, хрюкнувшим носом в скатерть, которая через несколько секунд украсилась алым пятном и грязными пузырями… Павла били сзади мягкими кулаками и звенящими подносами… В милицейском «воронке» молодые сержанты, узбек и русский, наметанным взором рассмотревшие в его гневном гражданском облике черты одного из афганских вояк, сотнями курсирующих через Ташкент, даже не решившиеся потребовать его документов, удивленно, миролюбиво спрашивали, откуда он и кто. «Оттуда… Человек». Оттуда – понятно. А что значит «человек»? Какой человек? «Живой». А еще какие бывают? – снисходительно переглянулись. «Мертвые…»
– Чай, пожалуйста. Если можно, зеленый. Разумеется, правильно заваренный. – Павел немного помолчал, колеблясь, и все же добавил: – В отдельном чайничке. Кусковой сахар. Если в вашем заведении такого нет, найдите на стороне, я лучше подожду. И две чашки, если нет пиал. А если все это невозможно, то, пожалуйста… две бутылочки «Пепси»…
– Вы из Средней Азии? – спросила старушка заговорщицким голосом, чуть пригнувшись к столу, когда официант отошел.
– В некотором роде, – Павел улыбкой постарался показать соседке, что оценил ее наблюдательность, – немного жил там. – Он склонил голову набок и приподнял одну бровь, что означало шутливое любопытство к будущим отгадкам со стороны собеседницы.
Старушка кашлянула, борясь с волнением, порожденным гордостью за собственную прозорливость, и потянулась за кофе. Сухонькая рука дрогнула, звякнула чашечка, разлучаясь с блюдцем.
– Вы меня извините. Но еще – позвольте мне ошибиться, – ее глаза слегка увлажнились и заблестели, – я делаю вывод, что вы… Вы – военный!.. Возможно бывший, но офицер. – Она потупилась, как отличница перед строгим учителем, сомневающаяся в стопроцентной правильности своего ответа, и шумно потянула в себя большой глоток, разбивая кофейную пленку на мелкие блестки.
Заказ был выполнен почти молниеносно: парящий из всех отверстий фаянсовый чайник, две большие пиалы, горка сахарных плиток. На лице официанта – прежнее уважительное бесстрастие, но в скорости и пунктуальности прочитывалась обидчивая реакция на подозрительность клиента в несостоятельности фирмы.
Павел произвел необходимый ритуал: пиала наполнилась первой жидкостью лишь затем, чтобы тут же отдать ее обратно в чайник. Только после этого, выдержав небольшую паузу, он налил янтарного чаю в обе пиалы, одну протянул старушке:
– Угощайтесь. Оставьте свой кофе… – Спохватившись, сменил интонацию на более мягкую: – Просто потому, что ваш серьезный напиток совсем остыл. Хороший чай, я слышу знакомый запах… А с чего у вас такой вывод – про мою социальную принадлежность? У меня, что – командный голос?
Старушка окончательно осмелела, угадав в поведении Павла точность своего логического попадания. К тому же, его доброжелательность больше всего располагала к дальнейшему разговору. Было заметно, что она соскучилась по общению. Она торопливо взяла предложенную пиалу двумя руками, демонстрируя послушность, и, отхлебнув, презрительно покосилась на остатки своего кофе.
– С чего я взяла, вы спрашиваете? Это, знаете ли, труднообъяснимо. Видимо, жизненный опыт. А вот пиалы у нас, даже на Кавказе, делают все же не такие, как в Средней Азии, не правда ли? Как ни стараются. Смотрите: желтый фон, красный горошек! – как это по-нашему! Хотя, если о деталях по начатой теме… – Старушка перестала пить, и, упершись локтями в стол, подняла пиалу на уровень лица и стала осторожно перекатывать ее, на весу, как маленький обруч, сжимая ладонями лишь острые грани, не проливая ни капли и не обжигаясь. – Вы здесь уже трое суток… Днем заходите в кафе, заказываете рюмку коньяка – как это универсально! – выпиваете и сразу уходите в город. Что там можно делать целыми днями? Достопримечательностей – на одну хорошую экскурсию. Наверное, просто гуляете, наедине с собой. Точнее, – «отгуливаете» от… от себя, это довольно типично. Впрочем, о чем это я? Склероз. Не по теме? Ах, да, характерные детали… Ну вот, например, у вас рубашка всегда заправлена. Другой бы в такую жару – посмотрите вон на того, который пошел, видимо, к остановке… – навыпуск, а вы… Я ни разу не видела вас в сланцах… Здесь – и по городу в них шлепают. У вас босоножки. Какие-то крепкие. Всегда застегнутые. Как будто необходима постоянная готовность, ну, я не знаю, побежать, что ли… Ну, еще, разумеется, осанка и прочее. И еще одна, прямо скажем, неявная, но для меня пронзительная, лишенная многозначности, деталь… Я давно, нужно признаться, за вами наблюдаю, несколько дней, как, впрочем, и за всеми, кто меня так или иначе окружает, простите… Поймите меня правильно, это, знаете ли, возрастное… Годы, одиночество и так далее. Так вот. Наша с вами столовая. Вы как заведенный, съедаете какую-то кашу, омлет, пудинг, зелень (всего этого много – ведь вы не включаете в заказ бифштексы, гуляши и прочее, и прочее), выпиваете компот, встали, ушли. Потом, этот, я уже говорила, ежедневный коньяк. Признайтесь: чай – это впервые за три дня?..
Старушка перевела дух, отхлебнула из замученной пиалы:
– Так вот, эта пронзительная, но косвенная, да, все же косвенная, деталь: вы совсем не употребляете мясных блюд… Притом что внутренне – это уже в ваших глазах, да, да! – вы далеко не вегетарианец, не травоядный, если хотите… Извините за сумбур. Говорят, старея, люди становятся как дети. Не знаю, не знаю. Я этого как-то не замечаю. Впрочем, собеседники иногда снисходительно улыбаются. Вы – нет…
…Еще часто снится (а может быть, все эти сны – просто видения в нездоровой полуяви? Разве может сниться одно и то же?): душман, невидимый, стреляет сверху. Только что они, разведгруппа из пяти человек, вышли из мертвого кишлака: убитые люди – недавно, еще парятся раны. Это не они!.. Но душман думает иначе. Он длинными очередями, смертельным свинцовым дождем положил, распластал их на голом пятаке земли, рядом ни камня, ни деревца. Они, панически перекатываясь, чтобы не оставаться на месте, отвечают из своих «калашниковых», иногда через голову, лежа на спине, – бесприцельно, просто так, вверх, по скалам. Потом, когда кончились патроны, вдавленные, униженные в пыль понимают, что у душмана они кончились еще раньше. Они встают, отряхиваясь, тяжело дыша: будто только что закончилась мирная, но тяжелая, в темпе аврала, разгрузка вагона с какой-то серой мукой. Душман, прыгая с камня на камень, уходит вверх, гортанно изрыгая рыдающие проклятия, потрясая над головой по очереди биноклем и гранатой с длинной ручкой. Дескать, убью, дескать, видел, запомнил лица. Почему он не бросает гранату? – далеко?..
«Куда только мужчины смотрят!..» – говорит вполголоса пожилая соседка по столику с такой же, как и у него, пиалой в руках. Ах, да…
Официант превосходно владеет собой: осанка, жесты, мимика, – отличный кавалер. Сейчас он стоит перед молодой женщиной с ребенком. Ребенок, упершись руками в угол бордюра, занят разглядыванием золотых рыбок, которые иногда, выплывая из-под основания фонтанной чаши к границе света и тени, показывают золотые бока затихшему без движения зрителю. Женщина, меняя положения головы, вполголоса задает какие-то вопросы: вопрос – наклон к левому плечу, другой вопрос – к правому. Доносятся только обрывки фраз, но интонация выдает заслуживающую уважение пытливость: любознательность дилетанта, обращенная к специалисту, или экскурсанта – к гиду. Только, может быть, любознательность избыточно подчеркнутая голосом и движениями красивой головы. Официант, демонстрируя готовность к любым вопросам собеседницы, даже наивным, встречает каждый из них ровной улыбкой и ясным взглядом. Когда он говорит, его руки не блуждают в области карманов, не теребят салфетку, – каждый раз им находится положение точного жеста, удачно начатого в начале фразы и венчающего ее в конце. Официант не смотрит в сторону Павла и старушки, но трудно поверить, что он полностью поглощен беседой и не контролирует ситуацию вокруг. Те же предположения относятся и к женщине.
– Молодцы! Что бы сейчас выкрикнул Станиславский? «Верю!..»
Старушка, таинственно улыбаясь, – поднятые бровки, лобик в гармошку, опущенные уголки губ, – смотрела вместе с Павлом на беседующих у веранды.
– Они оба молоды, но ей бы больше подошел мужчина постарше, согласитесь. Если рассматривать эту пару как будущий дуэт… Поймите меня правильно – это просто так, в качестве макета, у которого в данном конкретном случае, нет воплощения, нет будущего. Так вот, в этой якобы гармонии – отсутствие обстоятельности, фундамента, если хотите, фундамента прошлого, без которого нет основательного будущего… Я совсем запутала вас и себя. Одним словом, как официант он – совершенство. И все. Ну, еще кавалер. Не более. Мой муж был гораздо старше меня…
– Как можно такую предпочесть какой-либо иной?.. – Павел удивился, насколько выразительна речь старушки, по одной только интонации единственной фразы следует, что молодая женщина разведена, оставлена. А ведь озвучена только эмоциональная вершина: дескать, невероятно, не может быть.
Официант исчез в своем укрытии, женщина и мальчик ушли из поля зрения Павла и старушки.
– …К тому же, вы одинок… У вас нет семьи, простите, простите…
Эти слова были чуть раньше. Они не просто продолжение отгадок, а подготовка, определяющая логику следующих предложений. Предложений не как грамматической суммы слов, а именно призывов к действию. Вот сейчас она говорит вроде бы совершенно другое, невинно кося глаза и наивно выделяя интонацией провокационный смысл фразы:
– Вы не просветите меня, каким образом сейчас заводят знакомства мужчины и женщины? Я имею в виду зрелых, отдающих себе отчет в собственных поступках людей. Ну, те, которые заинтересованы в серьезных отношениях? Без разных там глупостей… Быть может, приглашают за свой столик… в каком-нибудь кафе? Вы знаете… ну, это я так просто, так сказать, возрастные фантазии… Если бы я… – увы, мое время прошло, – и все же, если бы я, допустим, была заинтересована в некоем подобном… Думаю, что в данных условиях, например, в доме отдыха, где работает вечернее кафе… это было бы совсем не трудно. Впрочем, весьма возможно, я ошибаюсь, – нравы изменчивы. Но одно несомненно: я бы атаковала. Вернее, – атаковал… – она засмеялась, прикрывая рот сморщенной тонкой ладошкой. – Мой будущий… или, вернее сказать, прошлый муж нашел меня на танцах! Вернее, это я его нашла!.. Ой, простите! Не поймите меня превратно: мы с вами, то есть пара «я – вы», не в счет! Я совсем не о том. Отнюдь, отнюдь! Не подумайте! Ах!..-ха-ха!..
Павлу трудно сдерживаться, и он тоже смеется. Наверное, впервые за все время пребывания в доме отдыха. Вспорхнули с мозаичного тротуара голуби. Из веранды с затененными стеклами опять выглянул официант. Женщина и ребенок на секунду подняли головы, отвлекаясь от своего семейного общения, от своих праздных веселых забот.
У женщины, сидящей на корточках, поворот головы, на длинной, с четким продольным рельефом шее, напоминает движение удивленной птицы. Каштановая волна, попав под солнечный луч, пронзивший вековую чинару, вспыхнула, разлилась по поникшему плечу: рука снимает с детской коленки назойливых муравьев. Засмеявшись (по-своему – ребенку), она быстро распрямилась, выходя из профиля в анфас, царственную грацию которого подчеркнул вздрогнувший на бедрах, мгновенно разглаживая поперечные складки, темно-красный, с бархатным отливом халат. Серебряно сверкнула, от глубокого выреза на груди до колен, гирлянда из маленьких застежек-кнопок.
…Это не сон. Просто это продолжалось целый сладкий год. Казалось, в этом и было его спасение после отставки. Она встречала его в невинном шелковом халатике на застежке-молнии. Язычок металлического зиппера возле нежной выемки на шее имел запах и вкус. Ритуал, который с невероятной скоростью вгонял в транс, гасил внешнее солнце, зажигая исподний, тайный огонь…
Когда из школы приходили ее почти взрослые дети, нетерпеливо звонили в дверь – три длинных, – зиппер визжал, соединяя, казалось, в ровный шов обрывки времени – до и после. Она бежала к двери, он шел на кухню, целомудренно пил остывший чай, выглядывал из дверного проема: привет, молодежь, как успехи, а мы вот тут с вашей мамой чайком…
Через сколько времени это случилось? Ах, да, разумеется, через сладкий год. Он позвонил, отступая от сложившегося расписания. Улыбаясь в дверной глазок (он уже любил ее детей, мальчика и девочку, – не по годам взрослых): три нетерпеливых длинных. Она открыла, все было как всегда: невинный халатик и… Даже показалось, что это именно он, Павел, сидит сейчас на кухне и пьет остывший чай и машет рукой: привет!..
«Не верю!..» (Впрочем, это, похоже, из сегодняшнего дня.)
Как тривиально, оказалось. А ему виделось, что все было так волнующе оригинально, и в этой оригинальности – спасительная суть: он закусывал этот язычок-лепесток, который имел запах и вкус, зубами (затылок касался ее точеного подбородка), и медленно опускаясь на колени, зная, что произойдет…, – он не будет открывать глаз, пока хрустящий, иногда заедающий, замочек не достигнет дна своего пути, когда, щелкнув, разведет окончательно половинки гладкого, приятного щеке… Господи, как разочаровывающе обыкновенно!..
«Привет!..»
…Он надрезал кожу у самого горла, затем, поддев, довел лезвие до самого низа живота. Кожа расползлась на груди, обнажая белое мясо. «Как будто бабу раздеваем», – пошутил один из разведчиков, наблюдая, как Павел разделывает ворону, – «а я думал, общипывать будем, как курицу». Это было в тех же проклятых горах, когда несколько суток они пробирались к своим, без воды и пищи. (Вертолет не прибыл в назначенное место, они только слышали его шум за соседней горой, ошибка была совсем невеликой, но «достаточной», – покружился и улетел.) С «лимонками», но без единого патрона (благодаря душману, который спровоцировал их на бесполезную перестрелку), поэтому – обходя на всякий случай любые селения и вообще любые живые шумы. …Им повезло: сначала они поймали какого-то грызуна, потом подбили камнем неосторожную ворону. А на третью ночь, когда они уже почти совсем высохли, пошел сильный дождь, ливень, по камням потекли грязные ручьи… В следующую ночь они развели костер, – они решили, что все трудности и опасности позади. Город был уже близко, за небольшим перевалом, который контролировали правительственные афганские войска…
– Вы опять о чем-то задумались, – напомнила о себе старушка. – Чай совсем остыл. Можно, я закажу еще чайничек? Это прелесть. – Она резво привстала и изящно, звонко щелкнула пальцами правой руки, подняв ладонь на уровень лица. Громко обратилась к невидимому официанту: – Эй, где вы там! Молодой человек!.. Я тоже заказываю чай. Заказ аналогичный предыдущему!..
Павел опять не удержался и улыбнулся, так комично выглядела соседка. Сквозь эхо воспоминаний, из которых он только что вышел, улыбка получилась вымученной, он сам это чувствовал.
– Вы смеетесь над моим ископаемым жестом? – она повторила щелчок. – Это я для вас… Вы часто грустите. Не надо, уверяю вас. Вы мне не поверите, но я уже, какой бы не была причина вашей тайной печали, сопереживаю вам. Чем бы я могла вам помочь? Все это глупо, конечно, это, простите, возрастные сантименты… Но в принципе, кто-то должен… Я – конечно, вряд ли. Не тот запал… Даже на это, – она опять сделала движение пальцами, на этот раз они издали только шелест, – нужна энергия. А вот если бы…
Она повертела маленькой седой головкой, раз за разом устремляя обеспокоенный взгляд туда, где только что играли женщина и мальчик.
Неразлучная парочка снова оказалась совсем рядом. Женщина и мальчик уже сидели на корточках у водоема с форелями, которые, возвышаясь темными спинками из мелкой воды, вяло уворачивались от ручонок мальчика. Иногда мальчик звонко смеялся и хлопал ладошкой по воде. При этом его мама зажмуривалась и смешно трясла каштановой челкой в сверкающем бисере мелких брызг.
– У меня к вам предложение… Вернее, просьба, как к рыцарю… Здесь не так уж много особей одного с вами полу, а уж рыцарей!.. – не знаю! По крайней мере, – не созерцаю.
Павел с шутливой готовностью распрямил спину и склонил голову на бок: само внимание.
– Давайте сегодня вечером… Закажем столик, к примеру… – она покосилась на тех, кто играл с форельками, – скажем, на… четверых. И кого-нибудь пригласим в качестве третьего и четвертого. Просто так, как бы между прочим, случайно. Это ведь классика – в том, что иногда только маленький шаг отделяет нас от великого. Но вот сделать его – не всегда хватает смелости. Мешают условности. Извините за нравоучительный пафос.
Павел изобразил, как мог, шутливую мину:
– Понял. Прямо так, как в классике, подойдем к случайному прохожему и предложим, без лишнего пафоса, – он отвернул голову в сторону, хрипло обращаясь к невидимому прохожему: «Третьим будешь?»
Старушка поддержала игру и отвернулась в сторону противоположную: «А четвертым?..» С тем же хрипом. По всему было видно, что в молодости этот ныне седой милый одуванчик был неутомимым генератором идей, возможно, отчаянных.
– Эта? – женщина смеется вместе с мальчиком. – Эта? Ну, же, сынок! Эта? Смотри, какая красивая, спиночка блестит!..
Бывший офицер и старушка невольно умолкли, залюбовавшись воплощением непосредственности, покоя и счастья…
– Эта? – очередной раз восклицает женщина, и, услышав утвердительный ответ, облегченно показывает официанту пальцем на рыбину: – Вот эта.
Гарсон, на секунду загородивший каштановую голову стриженым затылком, ловко выхватил сачком из воды трепыхающуюся форель и унес, оставляя на кафеле мокрый след, в глубь стеклянной веранды.
Слышен характерный шум разделки, затем запах жареной рыбы. Женщина и мальчик сидят за соседним столиком в молчаливом ожидании и, влюблено глядя друг на друга, улыбаясь, чуть поднимая подбородки, втягивают в себя аппетитный запах. Кажется, ее красивые ноздри при этом страстно, плотоядно подрагивают.
…Зачем они в ту ночь развели костер!
Он ушел в сторону перевала с биноклем, не терпелось увидеть конец своего мучительно пути. В тот момент, когда он уже разглядел редкие огни города, сзади ухнуло что-то большое и страшное. Сразу ли он понял, что это взрыв гранаты? Или это понятие пришло позже, в снах? Трое ребят, кроме того, кто остался дозором у костра, спали в небольшой пещере. Взрыв получился удавленный. Когда он прибежал туда, все было уже кончено и спокойно: вход в пещеру завален, а дозорный лежал со вспоротым животом, с куском печени во рту (как оказалось – собственной), его внутренности шипели и лопались в угасающем костре, источая едкий дым и тошнотворный запах – смесь жареного мяса и фекалий.
Павел навалился локтями на столешницу и закрыл глаза, устало прислонив лоб, покрывшийся испариной, к сжатым кулакам.
…Такая мысль все эти годы ни разу не приходила ему в голову. Мысль о том, что это тот самый душман, который грозил им гранатой, который (это потом ни разу не вызывало сомнений) преследовал и положил почти всю разведгруппу на перевале, – это именно он потом, много позже, выследил его, Павла, в Кабуле и прострелил… Невероятная, но почему-то, в осознаваемой дикости, – все-таки жуткая мысль… Жуткая также в своей навязчивости, как неверный вариант концовки в целом «правильного» сна. (Например: калитка оказалась запертой, сзади – улыбающийся душман со снайперской винтовкой. Или: старик замахивается кетменем.) Нет, на самом деле все было не так. Но что значит «на самом деле»? Если этого не было на самом деле, то почему оно отравляет жизнь, съедая изнутри?
Вечером странная на взгляд пара: моложавый седеющий мужчина и кудрявая, маленькая сухонькая старушка, – сидели в уютном и достаточно многолюдном открытом кафе дома отдыха. Они сидели в самом дальнем углу площадки, уставленной пластмассовыми столиками, спиной к основной массе отдыхающих, к ансамблю на невысоком подиуме у фонтана. Можно было подумать, что их лица были намеренно обращены в сторону темной аллеи, как будто это двое незрячих, которым все равно, какая картина перед ними, но не безразлично, что думают о них окружающие (чтобы не вызывать жалость). Впрочем, скорее всего, эту несколько необычную для дома отдыха пару, их трогательные позы, когда они, бережно и нежно обращали друг к другу лица, видимо беседуя о чем-то, их волнующем, – все эти удивительные странности могли быть замечены только одним человеком – дневным официантом, который, дорабатывая смену, вместе с парой своих других, более свежих коллег, сновал среди столиков. Хотя, с другой стороны, официанту вряд ли было до этих удивлений: за те сутки, которые были отданы дежурству, он порядком устал и мыслями был уже дома.
«…Знаете, у нас с моим мужем было свадебное путешествие: Кавказ, озеро Рица и так далее. Жили мы в Сухумском пансионате. Нас возил величавый автобус по достопримечательным местам. Так вот, на этом самом озере Рица, помню, ужасно захотелось есть… А надо сказать, что, как вы наверняка знаете, первые дни – это притирка характеров… Словом, мы уже с утра были в очередной ссоре, в одной из тех, которые сами собой улетучиваются к вечеру. Классика: с утра несколько пылких, обидных фраз, затем день молчания, затем вечер прощения и ночь примирения… И так далее. Так вот, в тот день, вернее, в полдень молчания мы, безъязыкие и независимые (по отношению друг к другу, разумеется), зашли примерно вот в такую же кафешку. Самообслуживание. Муж принес великолепного, вкуснейшего жигулёвского пива и какую-то жареную рыбу. Мне показалось – ряпушка, какую тогда обычно продавали в столовых, такая, знаете, гадость. Вот, думаю, жадина, и прочее, разумеется, думаю, отнюдь не возвышающее моего избранника в моих глазах… Не мог хотя бы шашлыка купить!.. Но молчу, гордость. Недосоленная, холодная, бр-р-р!.. Впрочем, я была зла и, в том числе по этой причине, голодна, поэтому, с отвращением, но все же стрескала эту… даже не знаю, как назвать, противную… ну прямо ряпушку, классику отечественного общепита. Представьте: все это молча, демонстративно блестя глазами по сторонам, якобы на всех проходящих мужчин, – чтобы досадить тому, кто невозмутимо трапезничает рядом. А вечером он меня спрашивает: „Дорогая, правда, вкусная была сегодня форель?“ Ремарка: я форели до этого ни разу в жизни не ела. Когда ехали на Кавказ, я мечтала: море, пальмы, горная форель!.. Я была страшно расстроена, шокирована, я не хотела знать то, что он мне сообщил: „Форель!“ Я всю ночь ворочалась, старалась представить иной вкус, я бы даже сказала – иной мир, и даже тихо причмокивала: „Ах, какая вкусная форель, ах, форель!..“ Но сколько бы я не заставляла себя, вспоминалось ужасное – ряпушка… А между тем, то была действительно форель… Вы не поверите, с тех пор мы никогда с мужем не вздорили по пустякам. До сих пор не знаю, то ли муж так все тонко подстроил, то ли случайность. Я внушила себе, что первое. Поэтому… В том числе поэтому я старалась относиться к нему бережно и даже иногда восхищаться им. Хотя он, разумеется, не был лишен недостатков…»
Седая старушка иногда обеспокоено оглядывалась, как будто ища глазами кого-то.
ФАРТОВЫЙ ЧАРЛИ
Чарли всегда умудрялся взять стол не на отшибе, но и не в середине зала, а где ни будь у центрального окна, – дабы не задевали без необходимости снующие официанты и публика из числа танцоров, в то же время, чтобы кампанию было видно и посетителям, и музыкантам. Как правило, столик на шестерых; пять персон – девочки. На острие всеобщего внимания единственный мужчина шестерки – великолепный Чарли. Он в белом костюме, вместо тривиального галстука – золотистая бабочка. Наш «Чарли Чаплин» гораздо крупнее одноименной кинозвезды, осанка прямая, что делает его раза в полтора выше знаменитого англичанина. Лоб высокий, броский, с глубокими для двадцати двух лет пролысинами. Широко расставленные глаза настолько велики и выпуклы, что собеседнику, словно ученику на уроке биологии, предоставляется редкая возможность видеть, как происходит процесс моргания: верхние веки, отороченные кудрявыми ресницами, как шоры обволакивают глаза, смазывая глазные яблоки, а затем медленно задираются вверх. Густые брови недвижимо застыли, взметнувшиеся к небу, в вечном удивлении – дальше удивляться просто некуда, что непостижимым образом придает лицу уверенность, замешанную на равнодушии к внешней суете. Танец в исполнении Чарли собирает, кроме девушек его стола, всех резвящихся на пятачке возле оркестрового подиума. Никому и в голову не приходит, что этот супермен в белом костюме, руки в карманах брюк, – всего лишь студент технического института.
Ресторанные потасовки, которые можно сравнить с кометой или смерчем из высокотемпературных кряхтящих тел, пахнущих винегретом и водкой, сметающих все на своем пути, проносились стороной от столика фартового Чарли. Однажды было отмечено, как Чарли, видя, что надвигающийся «смерч» не минует его уютного гнездышка, и через несколько секунд сметет всего Чарли вместе с подругами и сервировкой, спокойно скомандовал девочкам «вспорхнуть» с кресел, захватил ручищами столешницу и, уронив всего пару бутылок, отнес стол в угол зала. Отдых продолжался.
Родители имели неосторожность назвать его Чарли, естественно, что с самого детства к нему прилипла кличка «Чаплин». В отличие от Чарли, его родителям не нравился этот «псевдоним», которым наградили сына сверстники. По известной логике, именно благодаря им, предкам, точнее, их отношению ко всему этому, «псевдоним» прилип намертво.
Все бы ничего, но вероятно от желания соответствовать имени, организм Чарли в подростковом возрасте взялся корректироваться согласно «благодати», заложенной в оригинальном имени. Так, ноги Чарли стали… «разъезжаться» – носки ботинок «сорок последнего» размера при ходьбе расходились в стороны почти на девяносто градусов относительно направления движения. При этом непременно – «руки в брюки», по словам матери. «Что ты там в карманах делаешь, – поддевал его отец в воспитательных целях, – в бильярд играешь?» – «Нет, – невозмутимо ответствовал находчивый Чарли, – фиги мну». Наблюдение за ходьбой сына-подростка не доставляло родителям приятных минут, однако и к этому они привыкли. Отказывались только смириться с излишней беспечностью Чарли, которая могла сулить многие жизненные неприятности. Сам Чарли так не считал, полагая, что никто от оптимизма не умирает. Да и как еще может считать человек, которого зовут Чарли Чаплином!
В нашей институтской группе он слыл фартовым малым. Не только потому, что сам не уставал при случае об этом сообщать. Действительно, на экзаменах везло. Впрочем, как известно, в студенческой жизни учеба – не самое главное, и образ фартового в основном складывался из иных, более значимых примеров.
Мы, однокашники Чарли, пожалуй, чаще встречали его в городском парке, на речном пляже, в ресторане. Неизменно – в окружении девчонок, числом не менее трех, как правило, студенток нашего института. Это был наивесомейший показатель «фарта».
Нет, Чарли не являлся прощелыгой-халявщиком, который бессовестно доил свое природное везенье. В основе благополучия этого внешнего повесы лежал, как это ни пресно и неинтригующе, хотя и нельзя сказать, что банально, – обыкновенный труд. К тому времени у Чарли оставалась одинокая мать в другом городе, которая «поднимала» младшего сына-школьника. Помощи ни коим образом не предвиделось, на стипендию не пошикуешь. Истина относительно «широких» возможностей стипендии относилась ко всем. Поэтому все мы чем-то промышляли: разгружали вагоны, сторожили детские садики, мели тротуары. Зарабатывали мелочь. Иное было у Чарли – он работал постоянным ночным грузчиком на перевалочной продуктовой базе. Того, что он совершенно легально, по разрешению и даже настоянию начальника смены, уносил с работы в сумках, вполне хватало на ежедневное питание. Зарплата же, соизмеримая с получкой высококвалифицированного токаря, шла на одежду и активный отдых. Доставалось и матери с братишкой. Как Чаплину удалось устроиться на такую выгодную работу, для всех оставалось загадкой. При этом никого не интересовало, когда Чарли спит и как он готовится к занятиям. У нищих и ленивых коллег по студенческой когорте превалировало одно суждение: «Везет же человеку!»
Единственным заметным изъяном Чарли было следующее – он заикался. Прежде чем произнести первое слово, он закатывал глаза, сжимал губы, прерывистыми неглубокими вдохами втягивал в себя воздух, «настраивал» первый слог, далее все предложение шло нормально: «Ха-ху-хо… хо-орошая погода, пойдем пиво пить!» По возможности старался обходиться мимикой. Например, если на его предложение следовало неуверенное возражение: «А как же лекции?» – Чарли в ответ уверенно махал рукой, отметая неромантическое сомнение.
Что касается его девочек, которые менялись с быстротой метеоров, то многие из его приятелей, как говориться, облизывались. И дело не в том, что это были какие-то особые подруги – нет, самые обыкновенные студентки, наши знакомые. Завидовали же количеству и той легкости, с которой Чарли удавалось «прицепить» к себе очередную «чуву», той беспечности, с которой он с ними расставался.
«Ой, залетишь ты, когда-нибудь», – шутили друзья, скрывая зависть. На что Чарли неизменно отвечал: «Не-ни-не… Не родилась еще такая!..» – одна рука, украшенная золотой «печаткой», вылетев из брюк, беспечно резала воздух, вторая, как борец под ковром, продолжала пузырить карман, вероятно, лепя свою миллионную фигу.
Во всем этом мнимом суперменстве было что-то ненормальное. Ну, так не бывает, чтобы студент фартово жил, благодаря просто физическому «ломовому» вкалыванию: не фарцевал, не имел богатых родителей – просто работал. Ой, залетишь ты, думали друзья. Аномалия не может продолжаться долго. Где-нибудь да залетишь.
Наконец, он «залетел», правда, случилось это на предпоследнем курсе. От него забеременела «однокашница» Наташка. Разведенка, прожженная очаровательная Натэлла, все четыре года безуспешно скрывавшая свое деревенское происхождение толстым слоем помады и частым курением на лестничной площадке общежития. Напившись в ресторане, она висла на великолепном женихе в золотистой бабочке и громко причитала, не обращая внимания на гостей: «Чарка, а я думала ты меня обманешь, бросишь. Если бы ты бросил, это было бы в порядке вещей. Я была готова к этому, я привыкла… Может быть, ты еще бросишь, а? Ты ведь вон какой, а я…» У Натэллы уже был шестилетний сын, который рос без ее участия в деревне, что вообще-то – Натэллкино очное обучение и воспитание ребенка – было подвигом ее престарелых родителей.
Гости, переглядываясь, под столом потирали руки и, уважая друг друга за проницательность, думали каждый про себя: «Ай, да Чарли, ай да залетел!» Нет, немо возражал Наташке и всем гостям Чарли, используя бодливую голову и другие мимические средства. Однажды все же, значимо обводя собравшихся своим удивленно-уверенным взглядом, выдал тираду якобы в адрес невесты: «Са-су-со… Со-обственно, а что, собственно, необычного происходит? Ты останешься такой же, великолепной Натэллой. А я всего лишь продолжаю свой род. Кто за меня это будет делать? Я еще никогда не допускал ошибок, запомните. Не дождетесь!..» – Он нежно обнимал Натэллу левой рукой, правая оставалась под скатертью – друзья, близко знающие Чарли, догадывались, что она там вытворяла в их адрес.
Они снимали домик на окраине города. Конечно, далеко и мало комфорта, удобства на улице. Зато отдельное жилье – Чарли за ценой не постоял. Он изо всех сил старался следовать тому, что продекларировал на свадьбе: ничего особенного не происходит. Они продолжали регулярно посещать рестораны, именно те, завсегдатаями которых слыли по холостому делу. Даже когда родилась дочка, приходили втроем в ресторан, поближе к вечеру: Чарли, Натэлла, дочка в ползунках. Заказывали шампанское, ужинали, уходили, не допив и не доев, давали официанту на чай. Иногда, если удавалось оставить у кого-нибудь дочку, засиживались допоздна. Мало чего осталось от великолепной Натэллы – она после родов оборотилась деревенской девахой Наташкой, сдобной и наивной. Часто в ресторане, пригнувшись к столику, пугливо озиралась по сторонам, как истинная провинциалка, будто и не было пяти лет жизни в большом городе: «Чарка, давай будем, как нормальные люди… На нас смотрят, мне кажется, завидуют. Ведь так, как мы, не живут, нам не простят».
Чарли, совершенно неожиданно для окружающих ставший «обыкновенным» любящим и верным мужем и отцом, но в остальном – тот же Чарли, а не какой-нибудь заикающийся студент, успокаивал ее: «Ма-мо-мы… Мы-ы все делаем, как надо. Что из того, что мы везучие? Мы же не мешаем никому, не идем, так сказать, вразрез нормальному течению». – «Идем», – вздыхала Наташка.
Натэлла взяла академический отпуск, Чарли продолжал работать по ночам. Ближайшую перспективу Чарли уже наметил: он заканчивает институт, устраивается на хорошо оплачиваемую работу, продолжая подрабатывать грузчиком, они выкупают этот домишко, привозят из деревни сына Наташи. «Ой, ты бы не загадывал, – тихо, боясь спугнуть сказку, – говорила Наташа. – Ой, ты бы поберегся! Хоть бы по ночам меньше шастал. Нужны нам эти рестораны, пуп надрывать, кому чего доказываем!..»
На базе давали получку, плюс друзья отдали долг, получилось много. Чарли остался на разгрузку рефрижератора, закончили за полночь. Он доехал на дежурной машине до своего темного района, пошел вдоль бетонного забора к дому. Метрах в тридцати по ходу замаячили фигуры. Чарли замедлил шаг, осторожно вытащил из-за пазухи тугой бумажник и уронил под забор, стараясь запомнить место. Продолжая идти, снял часы и «печатку», проделал с ними то же самое.
– Ну что, супермен-заика, зарплату получил? – спросили, окружая.
Чарли кивнул.
– Сам отдашь, или как?
Чарли отрицательно покачал головой.
– Да ну!.. Руки бы вынул из карманов.
Чарли вытащил на свет луны две огромные дули и дал понюхать страждущему:
– Ра-ро-ра… Ра-аботать надо!..
Его долго били, повалив на землю. Выворачивали карманы, рвали в клочья куртку… Под утро он добрался домой, волоча ногу. Держась за грудь и прикашливая, сказал ахнувшей жене: «Под забором, третья и пятая плита от дороги. Бумажник, часы, перстень… Давай, пока не рассвело».
Когда Натэлла прибежала обратно, прижимая к груди пухлый бумажник, таща за собой сонную соседку-фельдшерицу, фартовый Чарли, похожий на великого клоуна с нарисованным лицом, с огромными белками вместо глаз, лежал на полу возле дочкиной кроватки – ступни разведены, изумленные брови высоко вздернуты, – чему-то в последний раз улыбался: может быть, девочке, невероятно похожей на отца, которая, держась за плетеную загородку и покачиваясь, смотрела на него сверху и удивленно «гулькала».
ЧЕРНЫЙ ДОКТОР
Живу я в Сибири, а отдыхать езжу, как и полагается, на Юг. В нынешний сезон заключительный этап отпуска, обратная дорога, проходил транзитом через город, в котором проживает мой армейский друг Михаил Ряженкин. Я решил воспользоваться случаем и порадовать приятеля сюрпризом – собственной персоной. Будучи уверенным, что доставлю себе и ему немалое удовольствие. Приехав в названный город рано утром, я позвонил с вокзала. Мишка обрадовался, объяснил, как к нему добраться. Признаться, в мечтаниях о первых минутах моего неожиданного появления здесь, следовали другие слова: подожди, не беспокойся, примчу за тобой на машине. Но, видно, колесами Мишка еще не обзавелся. А пора бы, ведь прошло уже семь лет со дня начала вольной самостоятельной жизни.
Сам я скопил немного денег, и год назад приобрел подержанную «шестерку», которой вполне хватает для моей пока небольшой ячейки общества – мы с женой и трехлетняя дочка. С момента, как у меня появился личный автомобиль, я, к моему стыду, стал относиться к «безлошадной» части народа несколько снисходительно. Что касается Мишки, то здесь ощущения особые. Ведь я ожидал его увидеть в полной гармонии с той перспективой, которую он уверенно рисовал для себя в армии: коттедж в престижном береговом районе, катерок на речной пристани, машина-иномарка, белокурая длинноногая супруга из породы фотомодель… Крутой бизнес. Приемы, презентации и прочее. Я стал догадываться, что между теми грезами и реальностью – как между землей и небом. Но, в конце концов, это ничего не меняло: Мишка есть Мишка, и я приехал к другу, а не к супермену.
Поклажи немного – чемодан гостинцев для семьи и канистра с вином «Черный доктор», который я, соблазненный необычным названием, вез от южных виноградарей сибирским нефтяникам – моим коллегам по работе. Подарок бригаде получался весьма оригинальный. В прямом и переносном смысле – сногсшибательный. И я этим заранее гордился, представляя удивленно-радостные, уставшие от плохой дешевой водки лица своих друзей. Чемодан сдал в камеру хранения. Канистру, от греха подальше, решил оставить при себе. Вес немаленький, двадцать литров плюс сама металлическая емкость, но ничего. Конечно, придется угостить Мишку. Но я полагал, что до завтрашнего утра, когда отправляется мой следующий поезд, много мы с ним не выпьем. Тем более, что прямо на вокзале, больше для гарантии сохранения «Черного доктора», нежели для презента, я на весь остаток отпускных денег прикупил ноль семь «Смирновской». Мишка до утра не даст помереть с голоду, а билет уже в кармане.
Оказалось, Мишкины апартаменты – комната в малосемейке, удобства в коридоре. Перечень остальных измеримых достоинств моего друга на данный момент – телефон, чистый паспорт… Сам Мишка – верзила двухметрового роста, параметры баскетболиста. Тронутый ранней сединой, подернутый мужественными морщинами, потасканный женщинами. Я пошутил, что если через пару десятков лет ему обзавестись стареньким дорожным велосипедом и назвать его Росинант, то из Дон Жуана получится вполне современный Дон Кихот. Сам я сошел бы для роли Санчо Пансо, но мне некогда… Правда, для полноценного рыцарства нужно еще и свихнуться на женщинах, что, впрочем, с убежденными холостяками весьма нередко приключается.
– Сам знаю, что пора жениться, – оценил мою наблюдательность и витиеватое красноречие, рожденное радостью встречи, Мишка, – да все некогда. А если серьезно – что-то я перестал разбираться в женщинах. Чем больше с ними сплю, тем больше они сливаются в одно, вернее, в одну. Знаю, на что «она» способна, чего хочет… Не смейся. Быть уверенным, это и значит – не понимать. Философия. Сам ты, небось, как встретил, так и женился? Я этот момент упустил – когда ничего не понимаешь. – Он рассмеялся, не давая себе сойти на серьезный тон, что для нашего с ним общения было нетипичным. – Короче, как это, оказывается, скучно – все знать. Откупоривай!..
– …Вот так, значит, бизнес мой и не удался. Та стерва тут же отнырнула к своему первому – разбогател. И ведь знал, что не я ей нужен, а то, что у меня было. А все же держал возле себя, как красивую игрушку. Что поделаешь, друган, я не обижаюсь, это ведь соль жизни – расчет. Основа порядка в мире. Иначе – хаос. Ладно, ладно, о присутствующих не говорю. Но… не дай бог тебе обеднеть. Короче, долги отдал, купил эту клетушку. Пока ничем не занимаюсь, наелся, да и стимула нет, – закончил Мишка рассказ о послеармейских перипетиях. – Наливай!..
Я был не согласен с Мишкой. Стал рассказывать ему, что мы с моей будущей женой представляли собой, когда решили расписаться, – голы, как соколы. Уж какой там расчет! Он перебил, довольно тонко дав понять, что мир, конечно не без дураков, встречаются «экспонаты»:
– Кстати, неделю назад на одной вечеринке познакомился с одной подругой: во!.. Все при всем. Сидим рядом. Я клинья подбиваю, она только слушает, не успевает слово сказать, – ты же меня знаешь, если я заведусь… В общем, все по нормальной схеме. Танцуем… Тут, сам понимаешь, следующая фаза, ближе к телу – ближе к делу, когда подруга обязана любым способом дать знать – да или мимо денег… Ты знаешь – ни то, ни второе! Башку задрала, в глаза смотрит, как будто стенгазету читает. Что я запомнил, – вздохнула и говорит: «Эх, Миша, вам нужен доктор…» И все, слиняла куда-то. И там, на этом сабантуе, и после у друзей моих, хозяев, спрашиваю, кто такая? А они мне, как попугаи: ты о ком? не знаем. Ты о ком?? Не знаем!!!… Я им говорю: у вас тут что, в самом деле, в конце концов, – кто попало, что ли, заходит-выходит?.. Полнейший проходной двор! Ну, это, конечно, не мое дело, что я действительно… Да по мне, конечно, и черт бы с ней, но вот чисто спортивный интерес: дура или фригидная?..
– …Такая, знаешь… Ну, словом, сам знаешь, – во! И смуглая, как мулатка. Буквально черная. А волосы… Ну ворон! Смоляные. Серафима, кажется…
Я предположил, не влюбился ли мой армейский друг Мишка?
– Да ты что!.. – он смешно замахал на меня безобразными великанскими ладонями с разбухшими в суставах пальцами, фрагмент из фильма ужасов. – Хорошо, что напомнил. Сейчас к подругам поедем.
Я запротестовал, сказал, что не сдвинусь с места. А если Мишка их приведет сюда, то выпрыгну в окно. Из чего мой друг еще раз заключил, что мир не без дураков.
– Ладно. Я пошутил. Вообще-то у меня уже все запланировано с того момента, как ты позвонил. Сейчас едем к одной близкой подруге. У нее квартира как раз возле вокзала. Там и посидим по-человечески. Ванну примешь. Утром проводим к поезду. Идет?
Я обрадовался перспективе поесть по-человечески – у Мишки ничего не было, водку мы больше занюхивали, чем заедали.
Он позвонил по телефону:
– Ирэн! Все по прежнему плану. Минус подруга. Так надо, подробности письмом. Свистай ключ, и вниз. Мы идем. – Бросил трубку, пояснил: – Ирэн. Живет с родителями. Они для нее квартиру держат. Пустую. Условие: выйдешь замуж – ключи твои. Нет – сиди рядом. Из доверия вышла. Собирайся, канистру не забудь.
Еще бы я забыл канистру…
По дороге попытался уточнить относительно доверия, из которого вышла Мишкина знакомая. Мишка отмахнулся, лишь коротко охарактеризовав родителей Ирэн: держиморды.
В квартире Ирэн Мишка снял рубашку, остался в майке, надел большие комнатные тапочки. Вдруг сразу превратился в Мишку, которого я еще не видел. Стал похожим на солидного главу семьи, мужа, уставшего после работы. Может быть, даже слегка прибаливающего. Исчезла легковесность, бравада. Куда-то делся Мишка-балагур. В чем дело? Я мысленно представил его в прежней одежде – то же самое. Значит дело не в майке и тапочках. Он чувствовал себя здесь как дома. Тут ему, наверное, было спокойно и хорошо. Очевидно, пришла мне в голову рациональная мысль, скоро Мишка возьмется за ум и бросит якорь. Тогда у него появится стимул. Который родит цель… Ну и так далее.
Однокомнатная квартира на четвертом этаже. Ирэн с матерью приезжают сюда раз в неделю, делают уборку. К моему «Черному доктору» в работающем холодильнике нашлась кое-какая закуска: консервы, сыр, колбаса. Мне за время дороги такая пища изрядно надоела, но выбирать не приходилось. Вспомнилась супруга, фланелевый халат, запах борща… Однако очень скоро Ирэн отодвинула на задний план возникшие было в голодном мозгу образы, перебила знакомые запахи.
От нее вкусно пахло духами и сигаретами. Я едва удержался, чтобы не закурить, хоть никогда в жизни не курил. Скажи мне Ирэн: закури или, положим, научите меня курить, – и я, скорее всего, задымил бы. Что значит женское обаяние, подумал я, и вспомнил некогда услышанное о чарах прекрасной половины: не мы их выбираем, а это они все выстроят так, чтобы мы выбрали их.
Это была полноватая дева с мальчишеской челкой и пухлыми детскими губами. Пожалуй, на этом приметы, выдававшие почти школьный возраст, заканчивались. И вот почему… На первый взгляд, тело как тело: белое и наверняка мягкое, как сдобное тесто. Его было много для глаз наблюдателя. Даже если иметь в виду только обнаженные руки и ноги, демократично свободные от мини-халата, больше напоминавшего набедренную повязку. К слову, казалось, халат жил своей жизнью, которая полностью гармонировала с характером хозяйки. Нижние бахромчатые полы его раздвигались и приподнимались при малейшем движении Ирэн, даже когда она просто медленно опускала тяжелые крашеные ресницы, не говоря уже о том моменте, когда эти ресницы, как два крыла, вскидывались к самой челке. В глубоком вырезе, как будто с целью не давать дремать наблюдателю, появлялись, сменяя друг друга, половинки аккуратных белых дынек. Во время отпуска на море я на многое посмотрел и, как мне кажется, имел право на определенные выводы о качестве женских телес. Так вот, при всей привлекательности, это тело, по каким-то неявным слагаемым, в результате было лишено полагающейся возрасту свежести. И глаза, точнее, все то, что под ресницами фасона «Споткнись, прохожий!», – будто по ошибке ребенку прилепили старушечьи глаза…
Мы долго сидели на кухне. Много пили и разговаривали. В общем-то, ни о чем. Мои семейные новости компаньонов не интересовали, они вполне тактично, по принципу «а вот у моего знакомого был аналогичный прикол» переводили разговор в другое русло. Мишка немного ожил, когда вспомнили совместные армейские годы, но скоро махнул рукой:
– А, два года – вон из жизни, и все… Вы как хотите, а я пойду бай. Ирэн, ты смотри, нас не перепутай!
Ирэн ухмыльнулась:
– Ха!.. Невозможно – у вас параметры разные.
Признаться, мне было не совсем лестно это услышать. Я впервые серьезно пожалел, что в свое время не вырос больше своих метр семьдесят шесть. Но возможно, Ирэн имела в виду какой-то косвенный смысл? От предположения такого варианта стало еще неприятней. Однако нужно принять во внимание, что последние думы-комплексы рождались под праздничное благоухание паров «Черного доктора» и вряд ли были возможны в будни.
Когда Мишка ушел из кухни, Ирэн стала не то чтобы совсем серьезной, но очень усталой.
– Надоел мне твой друг Мишка. Из-за него приличные женихи не клеятся. А этот выпьет, закусит, поспит – и опять на две недели пропал. Зря хата стоит. Ни развлечься путем, ни устроиться как надо. Сама не знаю, почему все никак к черту его не пошлю. Он ведь пропащий человек – неудачник, нищета… У меня есть перспектива – возраст, извини за откровенность, все другое… Жилплощадь. А что еще женщина может предложить? И это много. Остальное – дело мужчины. Да. Ну так вот, Мишка – безнадежный ноль!..
Я попытался возразить. Мол в человеке не это главное, а… Ирэн меня очень даже бесцеремонно перебила:
– Пойдем спать, Павел Корчагин. Ляжешь на полу.
Утром меня разбудили нетерпеливые длинные звонки и требовательные удары в дверь. Я открыл глаза. Мишка с Ирэн, неодетые, сидели на диване и делали мне страшные глаза, приложив напряженные указательные пальцы замком поперек губ. Я понял, что должен молчать. Ситуация из разряда непонятных, ясно было одно – дело не шуточное. Из-за двери доносилось:
– Иринка, открой! Я видела с улицы – занавеска отодвинулась. Ты здесь. Открывай!
По дальнейшему монологу из-за двери стало понятно, что мамаша – это именно она сейчас стояла за дверью – рано утром обнаружила пропажу всех трех комплектов ключей (ай да Ирэн!) от квартиры и поняла, что ее дочь не ушла ночевать к подруге, а поехала на квартиру прежними делами заниматься. Какими делами, об этом явно не говорилось, но, судя по испуганному виду Ирэн и Мишки, они, эти самые дела, были весьма серьезные.
Все бы ничего. Даже в некоторой степени интересно. Детектив. Но через полтора часа, согласно железнодорожному расписанию, уходил мой поезд, и я забеспокоился, стал показывать на часы. Друзья мои только разводили руками: мол, ничем помочь не можем.
Мать то стучала, то продолжала возмущенный монолог, в котором угрозы сменялись словами прощения. То уходила медленно вниз по лестнице, то быстро и решительно поднималась опять.
В одной из пауз, когда можно было говорить, я, уже одетый, тихо сказал: ребята, у вас, конечно, свои проблемы, но у меня поезд уходит через двадцать минут. Если я прямо сейчас выйду, то еще успею добежать, несмотря на тяжесть своей ноши. В конце концов, я уже готов подарить ее, свою драгоценность, вам, только отпустите. На что Ирэн заметила, что если я выйду без канистры, то будет легче. Потому как в другом случае я непременно получу этой почти полной металлической емкостью по голове, что гораздо хуже. В любом случае, женщина, которая за дверью, ни за что не выпустит меня из своих невероятно когтистых лап, и поэтому спешка на паровоз уже совершенно напрасна. А если серьезно, вмешался Мишка, сегодня вариантов нет – сиди. Подумаешь, – уедешь завтра.
Мамаша ушла только к обеду. Ирэн сделала быструю уборку, и мы покинули квартиру, ставшую для нас неожиданным и бессмысленным пленом. С Ирэн расстались. Пошли с Мишкой в его родное общежитие коротать оставшееся время до следующего поезда, который шел рано утром следующего дня.
Я был потрясен случившимся, поэтому даже не мог, не хватало возмущенных слов, спрашивать, каков, собственно, сюжет этой абсурдной Мишкиной драмы, героем которой я так некстати и неинтересно стал. Я думал о том, как семья будет встречать меня на вокзале, согласно телеграмме, у соответствующего поезда, и как я должен буду объяснять опоздание жене. Ко всему сразу прояснилось, что Мишка абсолютно на мели, и денег мне на новый билет взять совершенно негде. И тогда я впервые за все время моего пребывания в этом абсурдном городе сказал такие высокие и обидные слова:
– Миша, честное слово, так жить нельзя… Найди покупателя, я продам «Черного доктора», чтобы поскорее уехать отсюда. Потому что ты мне надоел за сутки так, как не надоел за два года совместной службы, когда наши койки стояли рядом. Только маленькая просьба. Если позволит твоя жилка бизнесмена, то сторгуйся так, чтобы у меня осталась хотя бы пустая канистра. На память о нашей встрече.
Мой друг молча взял подарок виноградарей нефтяникам и вышел.
…Утром, еще было темно, мы пошли с ним на вокзал. У нас не было денег на такси. Мишка чувствовал себя виноватым, поэтому, по-детски, не уступая, нес как наказанье пустую канистру. Канистра стукалась об его выпуклые коленки, пугая гулким эхом полумрак пустых улиц. Он жестикулировал свободной рукой и, стараясь выглядеть веселым, рассказывал:
– Мы познакомились с Ирэн в КВД. Да-да, что вылупился? В кожно-венерическом диспансере. В одном корпусе лежали. Один диагноз. Ерунда, а не болезнь. Посему, не волнуйся. Мы тоже поэтому ничего не боялись ни тогда, ни сейчас… По причине КВД и всего остального поведения родители ее так стерегут. Убить готовы того, кто якобы совращает их дитя. Ничего себе дитя, да? Ну, и как устережешь такую… Нам с тобой еще повезло, что папаша в командировке. Бедные. Эх, Ирэн, Ирэн!..
Он ненадолго замолчал, понурив голову.
– Ты знаешь, сейчас почему-то вспомнил. Ну, я рассказывал про ту, смуглую. Считай, черную. Серафиму, кажется… Нет, так ничего, глупости, но все-таки, спортивный интерес… – Он необычно смутился, может быть мне показалось. Неожиданно посетовал, предложил: – Так мы с тобой и не попели, как в армии, под гитару, помнишь? Давай хоть поорем на прощанье, пусть просыпаются, все равно пора уже. А, давай?
За поворотом – вокзал. Мне стало гораздо легче, почти весело, черт с ним, с «Черным доктором», и вообще…
– Давай! А что?
Мишка мечтательно закрыл глаза, задрал голову, набрал воздуху, замер не дыша и, наконец, невольно потрясая канистрой, закричал зовуще и восторгаясь:
– Серафима! Се-ра-фи-ма!..
ЗЛАТОУСТ
Искусственные зубы у Бориса Матунова, а они у него почти все искусственные, – были необычны: старомодные, сейчас такие вряд ли увидишь – стальные, без желтого покрытия. При разговоре они не только серебряно посверкивали, но также скрипели с переходом в разбойничий посвист и копытный цокот – от своеобразной манеры разговаривать.
Лет Борису Матунову за пятьдесят, но среди коллег по работе зовется он Борей, а за глаза – Боря Мат, Матобор, Бормотун. А то и вовсе Обормот. Работает он на одном месте так давно, что неизвестно, чему обязан за прозвища – просто фамилии или все же весьма своеобразному характеру. Несмотря на определенно почтенный возраст – тяжелые бульдожьи морщины на крупном лице, сплошная седина, протезированный рот, – Боря Мат явно не желает мириться с тем, что уже объективно перешагнул грань, безвозвратно отделяющую его от части населения, к которой применимо – иным даже с большой натяжкой – словосочетание «молодой человек». Возраст обязывает говорить умные, наполненные смыслом, основанные на личном опыте, речи. Но явный недостаток ума лишает его такой возможности. Просто же молчать – тоже не годится, ибо данное категорически противно природе этого пожилого индивида, а самое главное – избыток беззвучия, изо дня в день, в относительно замкнутом коллективе непременно выдает истинный потенциал бесславно молчащего.
Пытаясь выйти из положения, Матобор тянется, как он иногда многозначительно подчеркивает, к молодежи: его темы для разговоров молоды, хоть и вечны, а потому – как он, вероятно, полагает, – речи содержательны по сути, но «оправданно» упрощены по форме. Однако источник якобы молодого звука выдает старого фюрера-краснобая: речи кричат максимализмом, но отнюдь не юношеским, – искушенным, замешанном на всеведающим цинизме человека трижды разведенного, крупного алиментщика, а ныне просто безнадежного вынужденного, или глубоко убежденного – что на поверку, как правило, одно и то же – холостяка.
Так думает тайный оппонент Обормота, коллега по работе, сорокалетний и уже «застрявший», бесперспективный инженер средней руки Юрий Сенин, у которого Обормот работает мастером.
Завуалированное соперничество – таковым его считает Сенин, и в которое он добровольно втянулся, – определено благородными принципами тонкой души инженера, которая травмируется безобидно пошлыми и бездарными, но при этом удивительно цепляющими похабными монологами мастера.
Глыба тем для монологов, которую ежедневно, с молодым задором – темпераментно, но в манере опытного волка – понемногу, Матобор обгладывает протезными зубами, – велика и на самом деле неразгрызаема: «Что нам мешает жить?» Система повествования отработана: начинает с себя, по методу индукции переходя от частного к общему, затем иезуитской петлей, изощренным бумерангом возвращается на драгоценное эго и, наконец, обрушивает весь бедовый пепельный дождь на железнозубую седую голову.
Грузный, он становится легок, воздушен телом, как толстозадый балерун. Подпрыгивает на кабинетных стульях и автобусных сиденьях. Вращает глазами, которые порой страшно лупятся мертвенно-меловыми белками. И, конечно, скрежещет зубами. Сиденья ходят ходуном, печально стонут. Голос – тоннельное гуденье, горный обвал. Цицерону явно не хватает трибуны, тоги и лаврового венка.
Это отвлекает разжалобленных наблюдателей спектакля от умственной ограниченности Матобора и заранее оправдывает его стилистические пассажи и явные орфографические проколы, – так раздраженно предполагает инженер Сенин.
…Всё кругом у Матобора виновато во всех его горестях. Почти все его несчастья, строго говоря, – часть общечеловеческих бед, а так как бед этих, разумеется, много, то виноватых – пруд пруди. Они, как микробы, кишат вокруг и отравляют всем, и особенно Мату, жизнь. Неприкасаемых нет – это очень удобно. Следование такому инквизиторскому принципу расширяет до возможного диапазон диалектического скандала, а главное – избавляет от последовательности в череде философских выкладок. То есть если сегодня Матобор ругает демократов, то это вовсе не значит, что завтра от него не достанется коммунистам, чью сторону он нынче, пусть пассивно, отстаивал. И так далее. Словом, постулат «единства и борьбы противоположностей» – в реализации.
Но непременный переход на избитый-перебитый, однако любимейший финал, на «библейское», как говорит Матобор, объяснение источников всех земных бед – женщину. Она у Матобора не просто «божья лохань», рядовая нечистая сила, – она синоним Сатаны, самого главного черта.
– «Лютики, незабудки!..» – простужено скрипит, ерничая, передразнивая неизвестно кого, возможно себя юного, Обормот. – Незабудка, мы ей говорим. Ля-ля, сю-сю!.. Да колючка ты верблюжья, – кричит он, задрав голову, как старый волк к лунному небу, неведомой женщине, – век бы тебя не знать, не помнить, только и думаешь, как бы зацепить человека, а потом как лиана его задушить и как глист все соки высосать!.. У-у-у, сволочи!.. Сучки!.. Да еще пасынка или падчерицу нам в придачу: корми, любимый! – Он пытается по-женски пищать, хотя трудно издать писк мартеновскому жерлу: – «Я тебе за это еще и рогов наставлю, красивый будешь, как северный олень!» Ух!.. – он бессильно отбрасывает большое тело на спинку сиденья и замокает. Моргания глаз на фиолетовом лице почти обморочные: редкие, «глубокие» – нижние и верхние веки плотно смеживаются на целую секунду. Широкая грудь высоко вздымается, внутри еще что-то булькает. Финал состоялся.
«Оргазм унитазного бачка», – очередной раз отмечает про себя Сенин и внутренне брезгливо морщится.
Иногда Сенин, выведенный из себя этими проявлениями агрессивного скудоумия, когда проблески человеческого интеллекта тонут в завалах непроходимой грубости, пытается невинной фразой защитить очередной объект словесного нападения Обормота. Например, женщину вообще: ведь женщина – это не только коварная любовница-кровопийца, но и мать, жена, сестра, дочь. Результат такой попытки – новый всплеск ярости Матобора, новые «доказательства» с более бурными «оргазмами». Которые ничего не прибавляют в принципе, но возводят утверждения аморальности объекта словесной агрессии в абсурд. Так перед словом «женщина» каждый раз, со сладострастным ударением, звучит слово «все», иногда, для усиления, дуплетом: «все-все». Все-все женщины!.. И тогда слушателям постепенно становится ясно, что «все» относится не только к бывшим женам Матобора, но и к секретарше директора, и к нормировщице, и к работницам бухгалтерии, и к женам всех мужчин, которые, к своему несчастью, невольно стали свидетелями попытки одного из них встать на защиту «божьей лохани».
Все это обычно происходит в маленьком ведомственном автобусе, который возит тружеников, как на подбор – только мужского полу, – небольшого асфальтового завода, расположенного за городом, с работы и на работу. Пятнадцать минут утром, пятнадцать вечером. Итого полчаса вынужденного непроизводственного общения с Борей Матом. В рабочие часы Сенин успешно мстит Мату за эту ежедневную получасовку, в которой на интеллектуального соперника не распространяется служебная власть инженера Сенина. Так как мстить подло Сенин не может, то это сказывается лишь в стремлении как можно полнее загрузить пожилого мастера, чтобы у того не оставалось времени на праздную болтовню в рабочее время.
Надо сказать, что на работе к Матунову не придраться. Слывет он исполнительным трудягой. Работает резво: шумит на подчиненных, в меру огрызается на начальство. Боится и тех, и других. Как и полагается мастеру. Но работу тянет, уверенно доводя дело до заслуженной пенсии.
…Сенин понял, что невозможно оппонировать логикой с отсутствием таковой. Но чем человек подчинил себе природу, покоряя огонь, побеждая превосходящих по силе мамонтов, став выше человекообразных обезьян – этих задержавшихся в развитии собратьев?.. Стоило однажды задать себе этот вопрос, чтобы обрадоваться – даже еще не зная буквального ответа на свою конкретную проблему. Ум – это и есть главное оружие в мире, это и есть власть. Не может безумие довлеть над умом, человекообразие – над хомо сапиенс. Если такое иногда происходит, то определенно является следствием нерешительности или лени носителей разума. Так возвышенно резюмировал сентиментальный Сенин в преддверии поиска анти-матоборовского противоядия.
И Сенин нашел выход. Не в силах заткнуть рот имеющему свободу слова гражданину, он стал «заводить» Обормота в нужном направлении. Это стало его своеобразной властью над ограниченным Матобором, успокоило ранимую душу инженера, заметно релаксировало до этого напряженные автобусные пятнадцатиминутки – он даже стал получать от них определенное удовольствие. Правда, Сенин иногда отмечал, что это удовольствие, вероятно, имеет животную, садистскую природу – наслаждение уязвленностью поверженного врага, но довольно быстро прощал своим генам эту наклонность, доставшуюся от далеких предков: «враг» заслужил такого к себе отношения.
Итак, теперь Сенину удается небольшой фразой, наивным вопросом «заводить» Мата, а затем маленькими вставками-замечаниями манипулировать сальными потоками похабного обормотского сознания. Сенин тайно потирает руки и даже успокоено закрывает глаза, упиваясь покоем и властью: стоит всего лишь сказать слово (главное – какое!) и бурная струя бульдожьего лая повернет в нужную сторону. Он отдыхает, ему уже даже немного смешно за себя прошлого, ранящегося о колючие монологи Обормота.
Коллегам Матобора однажды выдалось разделить с ним, из вежливости, счастье долговременного алиментщика – один из оплачиваемых отпрысков, к которому, наряду с двумя другими, ежемесячно уходила часть заработной платы опаленного годами и законом Дон-Жуана, достиг восемнадцатилетия. Все вспомнили одну из матоборских аксиом: «Не ребенок пользуется нашими алиментами, а сучки на них жируют!» Матобор со счастливой усталостью объявил утреннему автобусу, что на «вырученные» деньги решил поменять себе зубы. Железные – на золотые. Ну, не совсем золотые, а, как принято говорить, с напылением. «Из самоварного золота», – уточнил про себя инженер Сенин.
Через три месяца после знаменательной даты объявленное свершилось – у Матобора вынули старые протезы. «Плавят новые… Через неделю…», – с трудом поняли коллеги, когда однажды утром, улыбаясь – просто растворяя пустой черный зев – и широко раскрывая глаза под лохматыми бровями, взлетевшими к седому чубу, смяв «в ничто» и без того узкий лоб, прошамкал клиент и временная жертва платного дантиста.
Первая пятнадцатиминутка: «Шам, шам!..» – недовольно, но – редко. А потом и вовсе замолчал, вполне по-людски щурясь как бы от хороших человеколюбивых мыслей, которые переполняют теплую душу. Наверное, думает о том, что скоро и остальные «спиногрызы» достигнут совершеннолетия, и тогда можно будет справить себе следующие обновы, – бранчливо и недоверчиво предположил Юрий Сенин. Впрочем, отходчивость натуры Сенина вскоре сказалась: Обормот стал смотреться дедушкой, которому не хватает мягкой седой окладистой бороды, внука (хотя бы от «прожорливого пасынка»), сладкоречивой классической сказки. Неужели так будет вечно…
К концу дня стали прорываться знакомые скрипы и хрипы, задвигались, норовя в кучу, суровеющие брови. «Идет настройка», – автобусные попутчики забеспокоились: забрали у коровы рога, так учится голым лбом бодаться. А завтра – то ли еще будет!..
…Наутро сюжетное равновесие автобусной скучной «мыльной» пьесы, и без того потревоженное внезапной беззубостью одного из главных персонажей, было окончательно нарушено. В салон, обычно абсолютно мужской, вошла молоденькая девушка. («Бабец», «мокрощелка», «двустволка» – как сказал бы в иной ситуации Бормотун.) Как выяснилось – практикантка, присланная на асфальтовый завод для сбора материалов на курсовую работу по гидроизоляционным материалам.
Практикантка – заурядной пробы, но симпатяга девушка, на взгляд Сенина: крепко сбитая – под Мону Лизу. Круглолицая, с крупными губами, с огромной русой челкой, дающей шарм большому зеленому оку, пикантно и обещающе высверкивающему как бы из-за приоткрытой чадры. При том, что второй глаз, «явный», демонстративно наивен, невинен, скромен. «Расцветет» только с молодыми, подумал Сенин, здесь будет держать марку. Сорокалетний инженер повидал практиканток на своем веку, да и сам, в общем-то еще недавно, был студентом. Чутье его не обмануло: через день Мону Лизу в коридоре заводоуправления «окучивали» два слесаря, прыщавые ровесники молоденькой двустволки, блеск интеллекта, через каждое слово – «бля». Я, бля, пошел, бля. Ты знаешь, бля… Мокрощелка, соответствуя этому самому неопределенному артиклю «бля», заливисто, запрокидывая голову смеется. «Вырождение нации», – сварливо подумал проницательный Сенин, проходя мимо, и даже, пользуясь минутами свободного времени, пока шел на планерку, посвятил, пропитанный отеческим сочувствием, небольшой внутренний монолог Моне-мокрощелке: «Через пять лет ты будешь иметь пару ребятишек, и тогда, в самый неподходящий и неожиданный момент, тебя, откровенно потолстевшую, бросит какой-нибудь „обормот“ ради стройной и более внутренне интересной. Попутно украсив тебя „верблюжьей колючкой“ вместо „незабудки“. Сама виновата».
Мир автобусного салона треснул и разделился на две части: наблюдаемые и наблюдатели. Наблюдатели – ничего интересного, к этому сектору относился и инженер Сенин. Наблюдаемые – юная практикантка и пожилой Обормот.
Практикантка ездила такой же, какой и вошла: пышность, скромность, недоступность, пикантность, челка, поблескивающий глаз: Мона Лиза; иногда – соответствующая улыбка.
Боря Мат стал садиться исключительно на первое сиденье – лицом к салону. Все это сразу подметили. Мат обернулся немым гоголем, скрывающим старого алиментщика. «Жених», – по-новому окрестил его Сенин, отметив для себя, что вряд ли когда ни будь в жизни наступит предел удивлениям. Бормотун молчал – с работы и на работу – даже не шамкал. Но – весь светился. Свет был неподвластен физическим приборам, но его видели все наблюдатели. Он был особенно ярок, когда Боря Мат, якобы равнодушно, окидывал взглядом салон, лишь на секунду задерживаясь на практикантке. Было такое впечатление, что он фотографировал ее всей силой своего небольшого мозга, стараясь как можно больше саккумулировать в себе от этого молодого свежего тела, губ, челки, глаз… Так казалось, потому что сразу после секундного фотографирования Боря закрывал глаза – якобы: глубоко моргал, защищаясь от света салонного фонаря, бьющего прямо в лицо, – поворачивал голову в сторону (унося запечатленный образ в заповедные углы памяти) и только там, ни на кого не глядя, медленно размыкал веки. Почему он молчал и на что надеялся? Сенин, упражняясь в психоанализе, предполагал, о чем Обормот мечтает, на что имеет виды: вот поставят мне новые зубы, почти золотые, красивые, тогда и скажу веское и красивое слово, и сражу, и покорю!.. Сенин нарочито упрощал предполагаемый ход мыслей бывшего оппонента, желая видеть эти мысли и их хозяина еще более несимпатично и карикатурно. Ему это с успехом удавалось. Соперник был повержен, пусть не Сениным, здесь нет его заслуги, но степень обнаженности Бормотуна была так велика, а неприязнь к нему – так глубока, что невозможно было не порадоваться этому беззащитному состоянию некогда грозного и громогласного Цицерона.
…Но вот утром Матобор заходит, радостно блестя желтыми зубами. Заметно, что они ему еще не приелись, теснятся, стучат не там, где бы следовало. Все замерли в ожидании: что выйдет из этих разверзнутых золотых уст – золото, добро?.. Он окидывает глазами салон и не находя девушки (практика закончилась), глубоко вздыхает. Надолго замолкает – так кажется, потому что на самом деле он еще не сказал ни слова. Все думают: вот стоило сменить корове (метафора, адресованная еще беззубому Матобору, уже устарела, но лучшего сравнения никому на ум так и не приходит), – заменить корове рога, простые на золотые, и сменился ее характер. …Ведь вот нет уже той, которую Мат, обожая, стеснялся, а он – молчит.
Но все ошибались… Через пять минут (Сенин уже было прикрыл глаза, думая о том, что так все хорошо складывается – Матобор изменился, стал, как говорится, человеком) – хрип, кряк, тресь!.. Салон – подъем, как от будильника, внимание. В ненавистном жерле сверкнуло, скрипнуло на весь салон, и понеслось знакомое: «У-у-у! Незабудки!.. Сволочи!.. Сучки! Все!.. Все-все!..» – тот же самый вулканный гул и бедовый пепел, но с лучшим, более красочным оформлением, прямо-таки с золотым фейерверком.
Не все то золото, – огорченно думает инженер Сенин, – что блестит…
ИМИДЖ
1
Свеча оплывала, медленно и спокойно плача на дне большого аквариума с розовыми тюльпанами. Воск таял, время от времени перекатываясь густыми струйками через похожие на мозолины, набрякшие окаемки мраморного столбика. Чтобы увидеть это, нужно было надолго вмяться в базарную грязь, чавкающую от полуденного солнца и десятков подошв, еще утром бывшую снегом и мерзлой землей; стоять крепко, не обращая внимания на человеческие потоки, не отдавая себе отчета в нелепости картины, которой ты – главный персонаж: лохматые унты, дубленый полушубок, щедро отороченный свалявшейся в кисть овчиной, огромная собачья шапка рыжего колера, в которой теряется вся верхняя часть могучего туловища. Все это инопланетно – паче, чем тюльпановый южанин на подмосковном снегу, – не сезон, и зовут тебя Андерсон.
– Э, земляк! Выбирай любой, которая на тебя смотрит!.. – добродушно пророкотал кавказец, гортанными децибелами возвещая о…
…О, это было точно здесь и почти так же. «Дорогой! Бери гвоздики! Девушка будет рада. Это, наверное, за девушку воевал?» – пожилая шустрая торговка показала на себе, имея в виду лиловую гематому вокруг пиратского глаза с розовой медузкой из лопнувших капилляров.
Тогда, шесть весен назад, Андерсон сбежал из нейрохирургического отделения, чтобы сделать Барби подарок. Он стоял здесь, тараща выпуклый фиолетово-красный глаз, дико озирая цветочный ряд, как небритый безумец, в длинном плаще, который час назад нашел в раздевалке санитаров, и в больничных тапочках, мокрых от весенней жидкой грязи. Плащ был без пуговиц – одной рукой Андерсон сжимал вместе парусиновые борта на груди, скрывая полосатую пижаму, а другой мял бумажные деньги – словно клок газеты перед запалом. Он держал голову прямо, боясь наклониться, – недавнее сотрясение серого вещества иногда сказывалось кратковременным головокружением, птичьим клеванием головой и предательским подгибанием коленей.
Гвоздики даме, принесенные полуживым поклонником, пострадавшим из-за этой же дамы. Это уже подвиг. Но, впрочем… Для этого совсем не обязательно быть Андерсоном.
– За девушку воевал, – подтвердил Андерсон, удивляясь собственному голосу, который он слышал только одним, здоровым ухом, и впервые после того, как первый раз Барби навестила его в больнице, ощущение сумасшедшей детской, прямо песьей радости сменилось донкихотовой гордостью: он победитель! Раненый, но победитель.
А началось все это… Когда же это все началось. А ведь, черт побери, все началось со Светланы – а он уже и думать об этом забыл, приписывая только себе все свои пороки и добродетели, от которых закрутилась эта дьявольская карусель! Бог ты мой, неужели Светлана, подруга Светка, надежная шалава Светик, с которой можно было целоваться или сидеть в баре, просто так, от скуки, без всяких последующих взаимных претензий… Неужели она, – всего какой-то парой фраз! – могла так круто вывернуть его жизнь.
…Чего ему не хватало? А Светлане? Четыре курса института позади, еще бы год – и все разлетелись кто куда. Часть однокашников уже определилась, создав семьи де юре или хотя бы де факто. А он был вольная птица и искренне этому радовался: молодость впереди, не стоит стареть раньше времени. Светлана, в отличие от своих сверстниц, озабоченных к пятому курсу, как бы не улететь к черту на кулички не закольцованными, казалось, относилась к своему будущему сообразно настоящей разбитной жизни – никак. С чего вдруг она ляпнула тогда, в тот вечер…
И вечер был для них как вечер, каких уже минуло сотни: томно грустящая осень, тягучий запад необремененного заботами дня. Он взял Светлану, благо она тоже слонялась без дела, и вышел с ней в парк. Как обычно присели на открытую скамейку, спиной к умирающему солнцу. Говорить было не о чем, – просто курили. Помнится, он случайно повернул голову и вдруг загляделся на закатное эхо, которое таяло за липовыми кронами. Шуршащие звуки окраинного микрорайона, поздний закат и горьковатый запах желтеющей листвы внушали такое безотчетное счастье, наверное, определенное молодостью, здоровьем и неясной перспективой – чуть сладкой и чуть тревожной, что можно было заплакать рядом с такой же, родственной Светкиной душой. Он перевел взгляд на свою подругу. И удивился, по-новому выхватив ее профиль, отдавая себе отчет в том, что видел это уже много раз: прямой греческий нос над красивым, всегда красным и без помады, ртом с чуть выдающейся вперед рельефной верхней губой – при поцелуях нижнюю, якобы несмелую, приходилось отыскивать. Под детским, трогательно тяжеловатым подбородком, по белой гусиной шее, вверх и вниз, плавает нежный подкожный шарик. А какие у его подруги волосы: хлопковый пук, как будто на голову навалили белоснежной пожарной пены, – все это сейчас, в закатных волнах, играющих желтыми зайчиками в Светкиных клипсах, выглядит гигантским, пропитанным янтарным светом, одуванчиком.






