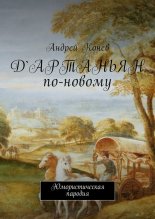Год некроманта. Ворон и ветвь Арнаутова Дана
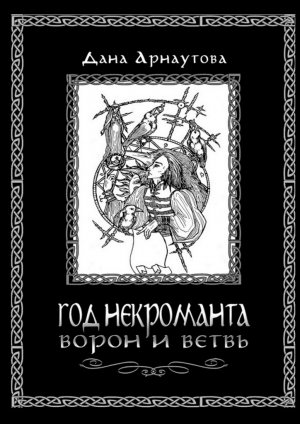
Выйдя, он тщательно прикрыл за собой дверь, оставив за спиной изваянием замершую у камина фигуру в темно-синей с золотом сутане. Наместнику Престола Пастыря определенно было о чем подумать, глядя в окно на голые ветви и низко нависшие дождевые тучи.
Глава 6
Слово твое возглашу вблизи…
Восточная часть герцогства Альбан, монастырь святого Рюэллена,
резиденция Великого магистра Инквизиториума в королевстве Арморика
10-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного
От двух десятков перьев, почти непрерывно скользящих по пергаменту, в схоластии стоял ровный сухой шелест. Выведя несколько букв, каждое перо отрывалось от тонкой, вытертой и выскобленной едва ли не до прозрачности кожи, ныряло в чернильницу и снова возвращалось на пергамент, то проводя тонкую изящную линию или округлость буквы, то оставляя жирный след, то роняя на лист кляксу. Светлые, рыжие и темные головы склонялись над столами, чернила пачкали детские ладошки. Как ни старайся – ни за что не убережешь руки чистыми, а отец-схоларий бдительно смотрит, чтобы схолики отрывались от пергамента только макнуть перо. И деревянная указка у него в руках не для важности, а как раз для дела: ею легко дотянуться до любого плеча или спины, проходя между рядами столов.
Постояв минуту на пороге, Игнаций шагнул в теплую светлую комнату, покачал головой в ответ на вопросительный взгляд схолария, поднес палец к губам. Тихо прошел за кафедру и сел на специально стоящий в каждой комнате схоластии стул. Наставнику, ведущему урок, стул не положен, его дело – ходить между учениками, как пастушьему псу между овцами. Но на любой урок может заглянуть кто-то из братьев или даже сам магистр – вот как сейчас, – и для него заранее приготовлено удобное место.
А Корнелию вести занятия все труднее. В последние года два благородная осанистость перешла у него в нездоровую полноту, и на лбу блестят капельки пота, когда схоларий, как и положено, ходит по комнате. Еще немного, и придется дать ему новое послушание – в скриптории на переписке книг, например. Пусть напишет новый учебник для будущих схоликов. Давно бы уже стоило, но каждый раз, едва заходил разговор, Корнелий просил оставить его с детьми – и Игнаций не мог отказать. И то правда, что с работой в схоластии Корнелий справляется отменно: ни одна голова даже не поднялась, когда мимо них прошуршала сутана магистра. Разве что несколько быстрых осторожных взглядов… Но это все-таки дети, и совсем отказать им в любопытстве – неумное требование. Не обращая внимания на магистра, Корнелий подошел к крайнему мальчику за передним столом, взял из пальцев перо, исправил что-то на пергаменте. Молча указал коротким толстым пальцем на нужное место в книге, откуда мальчишка списывал. Два десятка учеников – и у каждого свой учебник! Вволю пергамента для занятий, лаборатории, библиотека, залы воинской науки с оружием, изготовленным специально для детских рук… Неслыханная роскошь! Но Престол Пастыря не жалеет денег на тех, кто вырастет и восславит слово истины. Это епископские школы берегут каждый грош, брошенный им, как милостыню, а Инквизиториум знает цену будущим проповедникам и паладинам.
Игнаций еще раз оглядел склоненные головы. Привычно подумал, что излишняя гордость – грех, но как же не гордиться, о Свете Истинный, если эта схоластия – одна из его главных заслуг. Первых учеников было всего пятеро – но тот выпуск подарил ему Бертрана. Зато сейчас два десятка мальчиков одиннадцати-двенадцати лет второй год учатся грамоте, а в прошлом году пришло еще три дюжины. Это не дети знати, отданные для науки в епископские школы, а сироты и приютские подкидыши. Каждый – отныне и навсегда вырван из тьмы невежества. Эти мальчики до конца дней будут помнить, что здесь, в обители, они впервые в жизни наелись досыта и надели чистую теплую одежду, здесь увидели книгу и взяли в руку перо, прочитали молитву… Словно отвечая на его мысли, Корнелий подошел к кафедре и позвонил в начищенный до блеска медный колокольчик.
– Время святого слова, – возгласил он густым низким голосом. – Допишите, положите перо и откройте Книгу Конца и Начала. Торвальд, читай со слов «И привели его».
Игнаций, опершись на широкие подлокотники стула, смотрел, как заканчивают писать мальчишки – каждый по-своему. Один с облегчением бросает перо, не замечая, что поставил очередную кляксу, и суетливо отодвигает пергамент. Другой – не торопится, но и не медлит, оставляет работу, лишь дописав слово. Кто-то спешит дописать до конца всю строку, от усердия высунув кончик языка и наклонившись так, что едва не касается лбом листа… Пустяк – а в нем, как в чистейшем зеркале, отражается истинный облик души и разума. И таких пустяков – бесчисленное множество. Потому и назначен схоларием опытнейший и умнейший брат Корнелий, который душой болеет за каждого ягненка, вверенного его попечению. Потому и сам Игнаций заглядывает сюда постоянно, присматриваясь и прислушиваясь, помня, что звание главы Инквизиториума значит – наставник.
Торвальд, рыжий, вихрастый, несмотря на короткую монастырскую стрижку, с круглым веснушчатым, как перепелиное яйцо, лицом и вздернутым носом, потянул к себе книгу, сияя от гордости: перед самим магистром его вызвали читать первым!
– И привели Его к наместнику, и кричали, что вор Он, не хлеб и вино крадущий, но души человеческие. В колдовстве и чароплетстве обвинили Его и говорили, что тьма и смерть идут по следам Его. Наместник же преклонился ко лжи тех людей и повелел предать Его смерти. Тогда бичевали Его и распяли на колесе, дабы продлить муки, и было тех мук два дня и две ночи. Но все не умирал Он, и дивились люди тому. А одни говорили, что невинен Он и ради того смерть Его не берет, но другие кричали, что все это – темное колдовство…
– Достаточно, мальчик мой. Диран, продолжи.
Темноволосый крепыш с трудом нашел нужное место и затянул гораздо медленнее:
– И на третий день, когда взошло солнце, один из воинов, приставленных для охраны, пожалел Его и испугался кары небесной. Пустил он стрелу, пронзив грудь нареченного Светом Истинным, и потекла кровь на колесо, окропив его. Дерево же затлело от крови этой, и люди, видевшие дым, испугались, сказав: «Не простого человека казним, но бога». А нареченный Светом взглянул на солнце, не убоявшись жара его, и улыбнулся, и сказал: «От Тебя пришел – к Тебе и возвращаюсь, ради Благодати Твоей смерть поправши». И отлетела душа Его, а тело вспыхнуло так, что стоящие рядом ослепли до конца дней своих. Сердца же огонь не тронул, и люди боялись коснуться его, но взяли кузнечные щипцы и бросили в реку, и вода забурлила и стала горячей, но вскоре остыла… Стрелу же вернули воину…
– Достаточно, Диран. Перед сном прочти три главы из «Поучения несмышленым», на твой выбор. Симон, читай дальше.
– А воин тот был схвачен и обвинен, что убил казнимого, не дав свершиться казни. И повелел наместник предать его колесованию, ибо было сказано в законе, что отпустивший преступника примет его казнь. Ночью же, когда плакал он в темнице, воссиял перед ним свет, и услышал он голос: «Что крушишься? Не о том ли, что явил милосердие телу моему и был осужден за это? Слушай! Говорю тебе, что не о том плачешь. Милосердие твое не есть добро, но зло, ибо не дал ты исполниться предначертанному. Если бы претерпел я до конца все уготованное мне, то воссиял бы мой свет так, что истребил тьму во всем мире – и не было бы ни смерти, ни греха в нем…»
– Достаточно. Брэндон…
– «Нынче же ушел я, не завершив дела своего и оставив поверивших мне, как нерадивый пастух оставляет овец своих. И нет мне пути назад, в обитель тьмы, грехов и скорбей. Об этом плачь, говорю тебе!» И возрыдал тот воин, и бил себя в грудь, вопрошая, как ему искупить вину свою. Свет же ответил: «Что тобой сделано, тобой и исправлено должно быть. Изгнав меня, пойдешь моим путем. Возложишь на себя ношу мою и возьмешь посох мой. Пастырем стада моего отныне нарекаю тебя, и не будет у тебя имени, кроме этого, ибо имя твое умерло сегодня вместо тебя. Встань, говорю тебе. Открой дверь, иди, и будет путь твой долог. Слово мое возгласишь вблизи и понесешь вдаль, и будет оно тебе щитом, и мечом, и зерном, падающим в землю благодатную. Не осудит тебя проклинающий и не соблазнит обманывающий, сердце твое – сосуд для моей истины, да сохранится она в нем без изъяна… И принявший слово мое как истину да станет тебе братом и кровью от крови твоей».
– Кириан, продолжай…
– «Когда же исполнишь предначертанное мне, то свершится по сказанному: снова твоя стрела пронзит сердце мое – и откроются врата, и вернусь я во плоти. Но до того времени тебе хранить мою паству». И исполнилось по речам его. Встал воин и увидел, что исцелены раны на теле его, а дверь открыта. И вышел он, и пошел нести слово, данное ему, а люди удивлялись и говорили, что вот умер один, но явился другой на место его. И как огонь зажигается от огня, не умаляя его, но разгораясь и светя собственным светом, так слово его стало частью слова истинного. И назвали его Пастырем, забыв прежнее имя его…
– Во имя Благодати, – уронил Игнаций, прерывая чтение. – Благодарю, брат Корнелий. Довольно на сегодня.
– Благословите, отец, – склонил голову Корнелий.
– Благословите, отец… – раздался нестройный хор голосов, почуявших скорое освобождение.
– Да озарит вас Свет Истинный, дети мои. Ступайте с Благодатью.
Игнаций улыбнулся, глядя, как мгновенно превратившиеся в шумную толпу схолики торопливо собирают полупросохшие листы пергамента. Писчий материал дорог. В монастырских мастерских с листов особым составом смоют нестойкие чернила, высушат, выскребут и выгладят пергамент шлифовальным камнем – и вернут в схоластию. Все громче переговариваясь, мальчишки прибрали за собой, составили на полку книги и чернильницы и, с трудом сдерживаясь, вышли в коридор, откуда донесся топот убегающих ног.
– Балуешь ты их, брат Игнаций, – спрятал усмешку в уголки губ Корнелий, подходя к кафедре и тяжело отдуваясь на ходу. – Им бы еще до вечерней службы учиться сегодня. Или разговор такой уж важный?
– Иной раз не грех и побаловать, – вернул улыбку Игнаций, поднимаясь со стула. – Хорошие мальчики. Есть время для учебы, должно быть и время для игр, Корнелий. Себя вспомни в их возрасте.
– Я в их возрасте раздувал мехи у отца в кузнице, – хмыкнул Корнелий, – а книгу видел только в храме, на службе. Но мальчики хорошие, ты прав. И те, что помладше, не хуже. Жаль, что не увижу, какими они вырастут.
– Корнелий…
– Не надо.
Брат-схоластий тяжело опустился на стул, с которого встал магистр, на несколько мгновений прикрыл усталые глаза и снова взглянул на собеседника.
– Я не ребенок, Игнаций, и знаю, что мое время истекло. А в скрипторий не пойду. Там-то уж точно совсем зачахну, если от живых детей к мертвым книгам.
– Давно ли книги для тебя стали мертвыми, Корнелий? – грустно улыбнулся Игнаций, глядя в ближайшее окно: высокое, забранное пластинками самого чистого стекла, какое удалось заказать, чтоб в схоластии хватало света даже зимними днями. За стеклом показалась мальчишечья рожица, которая тут же спряталась.
– Уел, – хмыкнул монах. – А все одно в скрипторий не пойду. Вон, Бертран твой пусть идет. Мальчишка умный, книги любит, как наемник девок – со всем пылом-жаром. И будет у тебя на будущее ученый секретарь-переписчик – чем плохо?
– Может, домой поедешь, Корнелий? – помолчав, сказал Игнаций. – Говорят, родная земля лечит.
– Может, и так. Только не привык я от смерти бегать. Не стану напоследок смешить старушку с косой. Ты лучше скажи, с чем пожаловал? Как там мой запрос на схолария, знающего древние языки?
– Исполнен, – снова повернулся к монаху Игнаций. – Брат-книжник Санс из монастыря святого Леоранта едет к тебе в помощь. Его настоятель писал, что Санс доброго и тихого нрава. Не съедят его твои ягнятки?
– А посмотрим, – все же расплывшись в улыбке, откликнулся Корнелий. – Вот приедет, станет мне полегче… Ты мне еще паладина обещал, Игнаций, настоящего. Чтоб мальчишки посмотрели да прониклись.
– А что, фальшивые бывают? – усмехнулся магистр. – Будет тебе и паладин. Он-то твоего схолария и везет, чтобы в дороге кто не обидел. Не все ведь такие книжники, как ты, медведь бренский.
– Был медведь да весь вышел…
Корнелий с усилием поднялся со стула, расстегнул ворот шерстяной сутаны, покрутил толстой шеей.
– А мне ведь тоже с тобой есть о чем поговорить, брат мой. Я уж хотел за тобой посылать, да ты сам пришел…
– Ну, говори, – кивнул Игнаций. – Здесь или к тебе пойдем?
– Пойдем, да не ко мне… Со мной пойдем.
Тяжело дыша, схоларий пошел к двери, и Игнаций, последовавший за ним, подумал, что брату Корнелию и вправду не стоит уходить из схоластии в переписчики и библиотекари. Стоило мальчишкам выскочить из комнаты, и Корнелий размяк, осел, как тающий на солнце снежный ком. Похоже, его до сих пор держит лишь ежедневная необходимость идти к «ягнятам». Жаль. Свет Истинный, как жаль старого друга! Но на все воля Твоя…
– Пришел в обитель вчера человек, – рассказывал по дороге Корнелий, грузно плывя монастырскими коридорами. – Попросился на ночлег, как странник, а ночью у него начался жар… Брат-лекарь велел перенести его в отдельную келью, но пришелец клялся Светом, что не болен, просто устал в дороге. Потом впал в забытье, потом начал бредить. И уже в бреду просил позвать к нему отца Теодоруса… Непременно самого отца Теодоруса. Это когда его понимали… Потому что потом он перешел на бренский говор, а его лекарь не знает. Понял только имена: Теодорус, Нита, Грель, Россен… К утру страннику стало совсем плохо. Жар спал, но началась холодная лихорадка. И лекарь решил позвать меня.
– Тебя-то зачем? – нахмурился Игнаций, все еще не понимая. – Ты знаешь бренский, но о чем думал лекарь? Рисковать заразой в монастыре, полном детей…
– А лекарь тоже клянется, что странник не болен. Телом то есть. Устал, измучен – это правда. И что-то жжет его изнутри, Игнаций. Страшно жжет. Отсюда и холодная лихорадка.
Сходя с высокого крыльца, магистр молча поддержал схолария за локоть. На ступеньках Корнелий явно пошатнулся, но тут же выпрямился…
– Так вот, Игнаций, – помолчав и отдышавшись, продолжил монах. – Когда я услышал, что он говорит, то послал за тобой. Но тебя в обители не было – и пришлось ждать.
– Он все еще в лихорадке?
– Уже нет. Но теперь просто молчит. Отвернулся к стене – и молчит. Не ест, не пьет… Как больной пес на цепи. Поговори с ним, а?
– Что ты услышал, Корнелий? – нахмурившись, спросил Игнаций.
Они уже пересекли монастырский сад и прошли по мощенной горным камнем дорожке к маленькому длинному домику – монастырскому лазарету. Схоларий остановился, перевел дух, одернул задравшийся подол сутаны. Не глядя на Игнация, наклонился и ласково погладил пышную осеннюю розу, алеющую на клумбе, как погладил бы по голове ребенка. Выпрямился, вдохнул полной грудью сырой вечерний воздух.
– Он говорил о смерти, Игнаций, – промолвил тихо. – Говорил, что убил свою дочь. То ли родную, то ли приемную. Говорил, что какой-то Грель убил паладина Россена. И что отец Теодорус будет недоволен, но ему все равно. Что теперь ему все равно, потому что Нита умерла в Колыбели Чумы…
– Свет Истинный…
– Да хранит Он нас, – сурово отозвался схоларий, не двигаясь с места. – Я буду молиться, брат мой.
– Молись, Корнелий, – прошептал Игнаций, проходя мимо него к беленым стенам лазарета. – Молись…
Город Бреваллен, столица Арморики, дом мессира Теодоруса Жафреза,
секретаря его светлейшества архиепископа Арморикского
13-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного
«В лето 1218-е от Пришествия Света Истинного господин мой архиепископ Домициан Арморикский повелел во имя Благодати отворить церковные житницы и раздать милостыню зерном нищим, вдовам и сиротам, числом более трехсот. И молился о тех, кого призвали небеса, послав чуму во искупление грехов наших, и те, кто получил милостыню, рыдали и молились с ним вместе, ибо каждый из них потерял ближних своих в горниле гнева Господня. И стало по молитве их – укротил Господь пламя гнева своего и отозвал чуму. И те, кто был болен, исцелились, а по мертвым великий плач стоит по всей земле нашей. Молитесь за наши души, люди добрые, и помните Господень гнев и милосердие его светлейшества Домициана Арморикского».
Поставив последнюю точку, окончательную, как приговор Инквизиториума, отец Теодорус, личный секретарь и хронист архиепископа, устало откинулся на спинку мягкого кресла. Протянув руку, нащупал на столе медное яблоко на блюде, повернул. В другой комнате, приглушенный стеной, звякнул колокольчик – не прошло и пары минут, как в дверь заглянула краснощекая особа в белом кружевном чепце и нарядном полосатом платье.
– Что изволите, отец мой?
– Горячего вина, Дорис. И как там мальчик, поел?
– Хвала Свету, отец мой, – умиленно заулыбалась экономка, – покушал наш голубок. Все съел и сказал, что было вкусно. Такое милое дитя… Ах, помоги ему Господь…
– Да-да, Дорис, ради Благодати…
– Уже бегу, отец мой, уже бегу…
Экономка исчезла, чтобы вернуться через несколько минут с большой оловянной кружкой, исходящей душистым паром вина и пряностей. Щеки у нее раскраснелись еще больше, и круглые мышиные глазки виновато потупились, когда Теодорус укоризненно покачал головой, не сказав, впрочем, ни слова. Когда дверь за тихонько ушмыгнувшей Дорис закрылась, хронист пригубил как раз остывшее до нужной температуры вино и вздохнул. Надо прощать людям мелкие слабости, если они не препятствуют большим достоинствам. Дорис прекрасно готовит, в доме уют, и что поделать, если такая полезная женщина не упускает случая тайком приложиться к его запасам хорошего вина? Вдобавок она искренне убеждена, что мальчик, пару месяцев назад появившийся в доме, – незаконнорожденный сын отца Теодоруса, милый и ласковый, но слабоумный. И пусть думает именно так, если это помогает ей от души баловать ребенка, но при этом держать язык за зубами. Быстро же люди забыли, что такое деан-ха-нан, которые уже почти не появляются на свет. Магистру Игнацию Кортоле, к примеру, так и не удалось найти ни одного, а ведь глава Инквизиториума не перестает искать. Но люди не доверяют инквизиторам, какие бы сладкие речи они ни вели и сколько благодеяний ни оказывали.
Вино Теодорус цедил медленно, словно смывая привкус написанного в этот вечер в большой книге, лежащей на столе. Ложь и лесть… Кормушка для личного хрониста архиепископа. Свет мой, упаси от того, чтоб имя Теодоруса Жафреза потомки связывали только с этой писаниной! Теодорус ласково погладил деревянную, обтянутую позолоченной тисненой кожей обложку. Перевернул все страницы, открыв внутреннюю сторону задней крышки, легонько поддел ногтем утолщение у края переплета. Послушно снявшаяся кожаная полоса обнажила углубление, из которого Теодорус извлек тонкую тетрадь драгоценной хлопковой бумаги. Разложил на столе, бесцеремонно сдвинув громоздкие хроники. Бережно и нежно разгладил случайно заломленный уголок страницы. Очинил несколько перьев и выбрал самое тонкое и ровное. Обмакнул в чернила и склонился над очередной, уже наполовину заполненной страницей, записывая мелким, идеально четким округлым почерком:
«Чума пришла предсказанной и ожидаемой. Прорицатели на рыночных площадях бились в судорогах, вещая шествие смерти; церковные колокола, отгоняя заразу, звонили день и ночь, а состоятельный люд скупал амулеты. Столицу прикрыли от мора, отслужив великую службу в главном соборе и выставив пикеты, чтоб не пропустить в город беженцев из зачумленных мест. Служба вычерпала всю магию в городе и окрестностях, так что еще пару месяцев ни один чародей или ведьма не могли творить заклятия. Сила не берется из пустоты – но когда служители света думали об этом? Прекратились порчи, привороты и отравления, зато начали умирать больные, роженицы и младенцы, что было приписано козням колдунов.
Чума шла по земле неостановимо, как прилив, накатывающий на берег, но кончилась внезапно и загадочно. Есть ли в этом моя заслуга? Один Свет Истинный ведает. Но я нанес на карту случаи чудесного исцеления и раскрасил точки разными, смотря по времени, цветами. Сделав это, я увидел кольцо – четкие радужные лучи, исходящие из Колыбели Чумы. Три недели назад по повелению архиепископа туда отправилось трое ловчих из его личного отряда истребления: паладин и двое охотников. Никто из них не вернулся. Тот, кто сообщил нам, что четырнадцатого дня месяца децимуса нужный нам человек со своим подручным будет в Колыбели, также ничего не знает об их судьбе.
Деан-ха-нан играет камешками, перьями и разноцветными листиками, собранными в саду. На мои вопросы он лишь смеется и иногда отвечает, но так, что смысл темен даже для меня. Архиепископ повелел найти Ворона, но он не знает, что я уже искал его – и упустил в Колыбели. Что там произошло? Как связать воедино исчезновение троих охотников и избавление от чумы? Одно мне ведомо точно: я играю в опасную игру, но ставка выше, чем может себе представить смертный разум. Домициан – глупец, но он, думая, что правит колесницей, сам оказался в упряжке моих замыслов. Свет Истинный, помоги и сохрани, ибо все, что я делаю, я делаю во имя Твое и именем Твоим».
Дописав последнюю строку, Теодорус отложил перо и выдохнул, словно свалил с плеч тяжелую ношу. Присыпал написанное чистейшим песком, дождался, пока высохнет, и снова убрал тетрадь в тайник, сделанный в переплете. Пути Света неисповедимы. И если Теодорусу Жафрезу суждена смерть в грядущих событиях, ложь архиепископа Домициана сохранит истину, как мертвый металл доспехов бережет горячую живую плоть.
Интерлюдия 1
Через три дня после Самайна я снова возвращаюсь в окрестности Вороньего Гнезда. Архиепископ все еще гостит в Стамассе, и на дорогах хватает церковников, но, хорошо подумав, я решаю рискнуть. Конечно, зря я разоткровенничался с рыжей чужеземкой. Если вдова Бринара покается инквизиторам, любой из них признает в колдуне из часовни Греля Ворона, а там и история замка Энидвейт всплывет из архивов капитула.
Но вряд ли церковные овчарки Инквизиториума взяли след прямо сейчас. Пока настоятель отправит донесение в капитул, пока штатный отец-инквирер прибудет на место и начнет расследовать смерть Бринара… Через пару недель здесь под каждым кустом будет по инквизитору или паладину, но пока что меня никто не ищет всерьез. А если ищет и найдет – им же хуже.
В этот раз трактир я объезжаю стороной. Можно было бы заглянуть туда под мороком чужого лица и послушать, что говорят, однако меня гонит странное нетерпение. Я так долго избегал Энидвейта, словно чумного могильника, но стоило однажды ступить на его двор – и потянуло домой, будто не было всех этих лет. Прав был Рогатый: можно отказаться от имени, но не от крови. И потому я сколько угодно могу обещать себе, что просто заберу меч и сумки, брошенные возле часовни, дело совсем не в них.
Впрочем, нетерпение – это не повод забывать об осторожности, и, пробираясь по мокрому холодному лесу, далеко видному насквозь, я готовлюсь к чему угодно, от засады инквизиторов до встречи с дровосеками или егерями Бринара. Сейчас это его владения, а ведь когда-то здесь были земли Энидвейтов. Часовню, где я заключил то ли самую удачную, то ли самую глупую сделку в своей жизни, построил мой прадед по обету за рождение наследника…
Под копытом Уголька трещит сухая ветка, отвлекая от лишних сейчас воспоминаний. Я останавливаю коня перед поляной и спешиваюсь, чтобы еще раз проверить все вокруг. Не могут инквизиторы появиться так быстро, но вдруг настоятель монастыря возомнил себя великим охотником на нечисть и оставил засаду?
Нет, все чисто. Часовня встречает меня знакомой прохладной сыростью и сумраком, несмотря на полдень. Чудом сохранившиеся переплеты окон затянуты плющом, его побеги нагло лезут по стенам и потолку, так что еще десяток лет – и крыша окончательно скроется под вечнозеленым ковром. Пол скрипит под сапогами, когда прохожу ближе к алтарю и разглядываю пыльные, старые доски. Никакого следа круга. Все-таки стерла? Может, и не собирается каяться?
Перед глазами мгновенной вспышкой колдовского огня возникает лицо чужеземки – бледное, с упрямо сжатыми губами и решительно вздернутым подбородком. Жаль, если Инквизиториум доберется до нее, а ведь так и будет. Если даже захочет промолчать о нашей сделке, инквиреры умеют спрашивать, а под Благодатью не соврешь.
Но пока здесь больше никого не было, и я покидаю часовню с тем же странным холодком в спине, что и в прошлый раз, когда ехал сюда по ночному лесу. Магия молчит – значит, это не чары слежки, но что тогда? Я бы сказал, что кто-то смотрит в спину, если бы не совершенно пустой лес.
В придорожных кустах без труда находится и сумка с колбами, и, главное, мой меч. Вот и еще доказательство, что никто пока не взял след: дознаватели Инквизиториума такое не пропустили бы, они и лист в лесу способны найти, если, конечно, этот лист умудрился в чем-то провиниться перед Светом Истинным.
Ощущение чужого взгляда почти исчезает, когда я выезжаю на опушку леса. Дальше – луг, за которым высится над пригорком башня Вороньего Гнезда. Следы времени и разрушений издали не видны, серый камень кладки так же строг и суров, как мне помнится с детства. Только не хватает узкой цветной полоски прапора на флагштоке да вокруг замка пустота. Ни телеги на дороге, ни мальчишек с гусиным стадом, ни пестрых пятнышек пасущихся на лугу коров…
Меня так и подмывает пустить Уголька вскачь, разбавить глухую предзимнюю тишину хотя бы стуком копыт по дороге, но я снова сдерживаюсь. Если все-таки ждут, то здесь как раз еще одно удачное место: несколько сотен квадратных ярдов не проверишь так же легко, как маленькую часовню.
Уголек недовольно фыркает, когда я спешиваюсь и, накинув повод на ветку куста, отхожу на пару шагов. Другая лошадь сейчас и вовсе начала бы беситься, но эшмарские кони славятся выучкой, а Уголек у меня уже три года и привык терпеть всплески тьмы.
Закрыв глаза, я шагаю вперед, не двигаясь с места, – трюк, знакомый любому колдуну, – и открываю глаза уже на другой стороне Врат. Здесь все окрашено в бесцветно-серый, пропитано безмолвием и тягучей тоской. Но стоит присмотреться внутренним взглядом – вокруг расцветают бледные переливы теплых и холодных красок. Вот след пробежавшей недавно дикой козы, красная вспышка пойманного лисой кролика, едва заметные огоньки забившихся в норы мышей…
Кролик мне не годится, от него лиса оставила только клочки меха да пару косточек, от мышей тоже толку нет. Я ищу огоньки особого рода, не мерцающие живой силой, а замершие, тускнеющие в полумраке колдовских сумерек. И нахожу как раз то, что нужно: старый ястреб-канюк издох всего пару дней назад, упав в непроходимые заросли терновника, и мелкие пожиратели падали еще не добрались до него всерьез.
Протянув руку, я нащупываю пальцами холодный скользкий огонек растворяющейся жизненной силы, ловлю его, грею в ладонях… А потом легонько толкаю вверх, не переставая удерживать на невидимых нитях, как ярмарочный жонглер – пляшущую куклу. Открываю глаза.
Канюк покорно взмывает ввысь, хлопая по воздуху облезлыми мертвыми крыльями, роняя перья и покачиваясь так, что никто в здравом уме не перепутает его с живой птицей. Зрелище то еще, но я смотрю не на саму птицу, а изнутри нее – острым и странным видением, не предназначенным для человеческих глаз. Краски теряют насыщенность, а предметы – объем, зато любая мелочь становится дивно отчетливой и резкой. Я вижу бегущую среди сухой травы мышь и сброшенную змеей шкурку, различаю стебли дрока и сухие метелки овсеца…
Выше, еще выше и кругами… Над остатками разобранной за эти годы стены, над длинным каменным коробом замка… Кое-где уцелела черепичная крыша, и каждая бурая чешуйка ясно различима с высоты, как и черные обгоревшие балки в других местах. Почти развалившиеся или сгоревшие пристройки, невысокое каменное кольцо колодца, бойницы в башне… Канюк смотрит одновременно в мире живых и мире мертвых, я смотрю вместе с ним и убеждаюсь, что замок пуст. Подойди я ближе, мог бы увидеть это и сам, но так намного безопаснее. Воронье гнездо светится ровным серебристо-серым сиянием – и ни единого огня человеческой сущности.
Моргнув, я возвращаюсь к обычному зрению и разжимаю пальцы, отпуская нити управления. Мертвая птица падает куда-то по ту сторону башни, свое дело она сделала. Вернувшись в седло, я пускаю Уголька рысью – все желание проскакать до замка куда-то подевалось, сбитое унизительной проверкой, словно я вор, готовящийся влезть в чужой дом.
Во внутреннем дворе тихо и пусто. На булыжниках все еще видны темные пятна от копыт Дикой Охоты, Уголек фыркает и настороженно косится на них. Спешившись, я ослабляю его подпругу, цепляю к вороту колодца привезенное с собой кожаное ведро с веревкой, вытаскиваю воды и пою коня. Потом, сполоснув ведро, набираю опять и делаю несколько глотков прямо из него. За столько лет колодец не засорился – вода вкусна, разве что едва заметно отдает палыми листьями. Я не так уж хочу пить, но снова приникаю ртом к холодной ряби. Пью медленно, смакуя каждый глоток, и холод мокрой кожи ведра под ладонями проникает внутрь, так что я мгновенно замерзаю.
Наконец, оторвавшись от воды, поднимаю голову. Намокшие волосы прилипают к щекам и лбу. Вода постепенно успокаивается, и я вижу в темном неровном круге свое отражение, странно помолодевшее, будто смотрит оттуда не нынешний Грель, а тот мальчишка, которого я так старательно забывал.
Нет, это не магия. Просто показалось. Да и отражение нечеткое, вода спрятала морщины, смягчила резкость лица и скрыла выражение глаз. Керен говорил, что глаза выдают меня больше всего…
Ладони невольно стискивают ведро сильнее. Покачнувшись, оно выплескивает часть воды на край колодца, и серые камни темнеют, будто залитые кровью. Глубоко вздохнув, я с трудом разжимаю сведенные судорогой пальцы и делаю шаг назад, старательно отведя взгляд от расплескавшегося отражения. Не время и не место бы вспоминать моего наставника. Не здесь, не сейчас…
Но памяти, всколыхнувшейся, как вода в ведре, плевать на мои желания. Камни под ногами, тень башни, накрывшая половину двора, даже ветер, поднявшийся как-то сразу и заставивший хлопнуть полуоторванную ставню окна на верхнем этаже башни, – все вдруг становится точно таким, как тогда. И день такой же… Проклятье, я и забыл, что это тоже было время Самайна. Точнее, очень постарался забыть. Правда, тогда был канун, дня два-три до самого Самайна, а может, четыре… Инквизиторы приехали как раз на него. А меня уже не было.
Меня не было в замке, отец об этом позаботился. Спрятал от Инквизиториума, от любопытных взглядов и шепотков слуг, от пересудов соседей и тревоги в глазах матери. А главное, спрятал от того, что с каждым днем рвалось из меня самого: темной силы, обжигающе горячей, затмевающей рассудок. Спас, как он думал, и сына, и семью…
Я делаю еще шаг от колодца, ладонь сама находит рукоять ножа у пояса, стискивает его беспомощно и глупо. В горле – комок, даже воздух, свежий и приятно пахнущий грибной сыростью, трудно протолкнуть в легкие.
– Ему точно пятнадцать? – слышу я за спиной знакомый голос и рывком оборачиваюсь.
Никого… Что за шутки ты со мной шутишь, замок?
– Исполнится через пять дней, – отвечает отец. – Он родился в канун дня святого Ардакия.
– Выглядит старше.
В голосе Керена не слышится сомнения в словах отца, он просто говорит то, что видит. А я… я еще не знаю, что его зовут Керен. Я ничего пока не знаю о высоком светловолосом незнакомце с прищуренными ярко-зелеными глазами и лицом без возраста. Я…
Покачнувшись, я остаюсь на месте – все равно некуда бежать, – только пальцы застывают в судороге на бесполезном сейчас ноже. И это единственное, что помогает помнить себя нынешнего. Тогда я не хватался за нож. Я стоял, выпрямившись, развернув плечи, как и положено сыну рыцаря и будущему владельцу замка, Энидвейту из рода Энидвейтов.
– Иди сюда, мальчик, – говорит незнакомец, глядя на меня непонятным взглядом: то ли весело, то ли просто с интересом, как на редкую диковинку. – Ты знаешь, кто я?
– Вы целитель, – роняю я с излишним, пожалуй, высокомерием, но простительным благородному человеку в разговоре с бродячим лекарем. – И мой… будущий наставник.
Он молчит, ожидая, пока я спохвачусь и все-таки сделаю шаг вперед, склонив голову со старательной вежливостью. А потом говорит все с тем же скучающим равнодушием, которого я еще не умею бояться, даже не знаю, что нужно бояться этих бесстрастных ноток и его скуки:
– Я твой будущий хозяин, мальчик. Тот, кому ты будешь принадлежать много лет, пока я не сочту, что ты закончил обучение. Если сочту, разумеется.
– Мастер Керен… – В голосе отца звучит не тревога, а разве что легкое раздражение.
Ну да, разве может быть хозяин у сына Энидвейта? Наставник, только наставник…
Я – сегодняшний я – пытаюсь вдохнуть полной грудью, пытаюсь сказать что-то, крикнуть, предостеречь – и нет в мире ничего более бесполезного, чем эта попытка, опоздавшая на столько лет. Кого предостерегать? Тех, чьи кости истлели в земле или превратились в пепел, развеянный ветром?
– Помолчите, господин Энидвейт, – мягко просит незнакомец, чье имя почему-то вылетает у меня из памяти сразу же. – Вы заключили договор, и я выполнил свою часть. Но юноша должен понимать, на что соглашается. Итак, мальчик, ты знаешь, о чем речь?
– Да, – с вызовом говорю я, делая еще шаг вперед. – Вы помогли моей матери, а я стану вашим учеником. Я обещаю вам почтение и повиновение, мастер, как и положено.
Я – тот я, которому пятнадцать, а не двадцать семь, – преклоняю колено. Я-сегодняшний издаю хриплый стон, чтобы удержаться, закусываю губу. И остаюсь стоять на подгибающихся ногах. Где-то далеко тревожно ржет Уголек. Но мне все равно. Явись сюда весь отряд паладинов Инквизиториума с магистром во главе, я не сдвинусь с места, пока это – чем бы оно ни было – не закончится.
– Почтение и повиновение… – эхом откликается целитель. – Что ж, так и будет, поверь. Но твой дар далек от целительства. Ты уверен, что хочешь научиться тому, чему я буду учить тебя?
– Я… – на мгновение я осекаюсь. Действительно, меня никогда не тянуло к лекарскому делу. Сушить травы и лепить пилюли, вскрывать гнойники и рвать больные зубы – что это за занятие для рыцаря? Но отец был неумолим, он объяснял, доказывал, а потом просто велел, и я не мог ослушаться, но теперь гордо вскидываю голову: – Я буду учиться всему, мастер. Я должен обуздать свое проклятие.
А еще я хочу стать рыцарем Церкви. Не паладином, это призвание для тех, кто избран Светом Истинным, и мало кто стремится к тяготам отречения от мирских благ, но рыцарем… Белый плащ с огненно-красной стрелой в круге, сверкающие латы, почтение в глазах окружающих… И проклятый Бринар поумерил бы свою спесь, ведь за рыцарем, давшим обет Свету, неприступной стеной высится его Орден – защита от всех напастей. Но надо мной висит проклятие. Грязная, мерзкая тайна, которая погубит и меня, и семью, если этот человек не поможет.
– Понятно, – вздыхает он, глядя с выражением, которое потом я научусь определять как бесконечное терпение к человеческой глупости вообще и моей лично. – Что ж, мальчик, иди и попрощайся с семьей. Подожду за воротами.
Он отворачивается – и, странным образом, дышать становится легче. Я еще не знаю, что так теперь будет бесконечные годы. Что я возненавижу его взгляд, голос, запах и прикосновения, величайшим счастьем считая вот такие мгновения, когда он перестает обращать на меня внимание. Что в долгих кошмарах мне будет видеться уходящий через замковые ворота человек в простой, но до щегольства ладно подогнанной дорожной одежде и то, как я, проводив его глазами, поворачиваюсь к отцу и вышедшей на крыльцо матери.
Они стоят, смотря на меня почти одинаково, только отец старательно скрывает тревогу и замешательство, а мама – слезы. Я вижу, как блестят ее глаза, как дрожат увядшие, но все еще красивые губы.
– Отец, матушка!
Вскочив с колена, я пробегаю несколько шагов до крыльца, не обращая внимания на любопытные лица прислуги, которой даже глас с небес не запретил бы сейчас выглядывать из окон и дверей.
– Я скоро вернусь, – говорю позорно прерывающимся голосом, боясь сейчас только одного – как бы самому не расплакаться. – Это всего несколько лет, правда? Может, я смогу навещать вас…
– Надеюсь, так и будет, сын мой.
Отец сходит с крыльца, протягивая руки для благословения, но вдруг крепко обнимает меня, не успевшего опуститься на колени.
– Служи своему наставнику верно, – говорит он задыхающимся, каким-то чужим голосом. – Пусть он простолюдин, но никто не скажет, что Энидвейты ставят гордость превыше чести и благодарности. Учись всему… что нужно… Не забывай, кто ты…
Он смолкает, стиснув мои плечи пальцами так, что синяки останутся даже сквозь кожаную куртку – я увижу их потом. А я смотрю поверх его плеча на мать, так и замершую на крыльце. Женские слезы – плохая примета для покидающего дом, и она часто-часто моргает, не позволяя им пролиться, улыбаясь старательно и виновато.
– Я не забуду, – легко обещаю то, что не выполнить просто невозможно. – Отец, матушка…
Хорошо, что сестренки остались с нянькой. Мелкие плаксы сейчас залились бы ручьями слез, а матушке только этого не хватало. И вообще, что это она? Я бы все равно уехал осенью, ведь все достигнувшие совершеннолетия дворяне обязаны представиться ко двору. А потом поступил бы на службу… Я уже взрослый, у меня на поясе меч, заказанный отцом прошлой весной и оплаченный половиной урожая этого года, несмотря на расходы с тяжбой. И это обучение – просто отсрочка перед целой жизнью, такой замечательной и интересной.
– Да благословит тебя Свет Истинный, сын, – выдыхает отец и отпускает меня резко, почти отталкивает.
Губы матушки беззвучно шевелятся. Проклятье, почему даже сейчас я не слышу ее голос? Действительно ли она молчала, как молчу сейчас я? Или, не сказав ни слова, кричала изнутри?
Я без всякой нужды поправляю меч, кланяюсь родителям, как и должен почтительный сын, покидая дом. Еще не хватает светлого отца с благословением, но наш замковый священник дня три назад уехал, а с монастырскими Энидвейты никогда не ладили.
Так что я просто поворачиваюсь и ухожу. Мне смотрят вслед, пока я иду через двор, у самых ворот принимая из рук конюшенного мальчишки повод рыжего трехлетки, уже оседланного и нагруженного парой увесистых дорожных сумок. Мне смотрят вслед: отец и мать – с крыльца, сестры – из окна спальни (я это знаю, хоть и не вижу), слуги – кто откуда.
А я вывожу жеребца, думая, что проделавший долгий путь целитель тоже, наверное, приехал верхом, а иначе просто глупо получится, не может ведь ученик ехать, когда наставник пеш. Или он взял коня у отца в уплату своей работы? Я не знаю, что это за работа, какое-то женское недомогание матери, но отец, в последние месяцы измученный тайным страхом за нее, будто скинул тяжкую ношу, вздохнул свободнее, и за это одно я готов служить целителю, как только смогу.
– Хорошая лошадь, – говорит он, видя меня. – Держишься в седле? И мечом владеешь, полагаю?
– Я сын рыцаря, – отвечаю, опять не успев убрать из голоса надменность. – Как иначе?
– Еще как, – хмыкает он, не вынимая изо рта стебелек, который грыз.
По камню, на котором он сидит перед воротами, вдруг пробегает шальная ящерка, не заснувшая на зиму, и его ладонь молниеносным жестом накрывает юркое тельце, хотя глаза не отрываются от меня.
– Меч, конь, припасы… – перечисляет он негромко и словно устало. – Тебе ничего из этого не понадобится, мальчик. То, что нужно, ты все равно не сможешь взять с собой. Никогда не сможешь, а особенно сегодня.
– Почему? – вспыхиваю я, пропустив загадку, которую не собираюсь решать. – Почему я не могу взять меч и коня? Наставник, если хотите, отец и вам даст лошадь… Но я сын рыцаря Энидвейта!
«…а не бродяга», – проглатываю в последний момент из учтивости.
Однако он хмыкает, словно услышав мои мысли, и роняет так же равнодушно:
– Это ненадолго, мальчик. Это ненадолго…
Истошное ржание Уголька раздается совсем рядом. Я вскидываюсь, ловя пересохшим ртом воздух, шало оглядываюсь по сторонам. Ничего и никого! Пустой двор полуразрушенного замка, тяжелое осеннее небо закрыто тучами, и вот-вот пойдет ливень.
Воронье Гнездо нависает сверху, став еще мрачнее, как и всегда перед ненастьем.
– И что это было? – спрашиваю я у пустоты и капель дождя, медленно пятнающих булыжники двора темными точками.
Ответа, как и полагается, нет, зато вопросов – через край. Слишком глубоко, слишком явно для простых воспоминаний, слишком… чересчур. Как омут, в который ухаешь с головой, собираясь только напиться да сполоснуться после дороги. Запах отца, когда он обнимал меня, звуки замковой кухни, скотного двора и кузницы, тяжесть того, первого, меча, который мне так и не удалось забрать…
– Рогатый? – спрашиваю я тихо, не надеясь на ответ. – Керен? Кто-то еще?
Ну не инквизиторы же решили окунуть проклятого некроманта в прошлое, перед тем как попытаться схватить? Да и замок – пуст. Вот только ощущение слежки, давившее на спину в лесу, вдруг снова возвращается и Уголек подозрительно водит взглядом по двору…
Ни-че-го. Только мне все меньше хочется оставаться в Вороньем Гнезде, ставшем вдруг на диво неприветливым. Замок словно уговаривает меня уехать, и я соглашаюсь с ним. Для меня здесь ничего нет, кроме памяти и вины, моей ли, чужой. Здесь нет ни одного ответа на мои вопросы, только боль и горькая тоска. И я не хочу вспоминать то, что было потом, за так удачно прервавшимся видением. Достаточно того, что я это знаю. Керен был прав, как и всегда: нельзя взять с собой то, что тебе нужно, чем бы оно ни было. Я всегда буду только терять. Но будь он проклят за эту правду, не позволяющую мне даже тени надежды.
– Надежда губит, мальчик, – ласково шепчет за спиной голос, от которого я стискиваю зубы, подтягивая подпругу Уголька. – Свободен только тот, кому не на что надеяться…
Глава 7
Щит Атейне. Час первый
Где-то в графстве Мэвиан, убежище Керена Боярышника
Исход самониоса, 17-й год Совы в правление короля Конуарна из Дома Дуба
Кровь пахнет солью и железом – человеческий запах. Плывет, пропитывает все вокруг, льнет к пересохшим губам. А страх – кислый ржаной хлеб. Тяжелый липкий мякиш, грубая корка. И никуда не деться от этой смеси: солено-алое, кисло-бурое… Скользкое, шершавое – дрожью по коже – гадко… Пелена перед глазами – стоит их приоткрыть – радугой, и в радужном мареве летают черные мошки, зудят беззвучно – не отогнать, не смахнуть. Бьется в левом виске звонкий горячий молоточек – пока еще молоточек, пока еще только звонкий… Обжигает. Каждый удар – волнами от виска: в глаза, в шею до самого плеча. Вдохнуть – больно. Говорить – больно. Слушать – больнее всего. Гемикрания – болезнь людей. Или ублюдков вроде тебя, Керен Изгнанный. Как же омерзительно быть слабым, больным. Не-со-вер-шен-ным. От жаровни тянет полынным дымком, голову не повернуть, не взглянуть на угли. Вдох-выдох, вдох-выдох, осторожно… Дым, полынь, кровь… Жар, соль, железо… Свист, хлопок. И снова, и снова… Звуки, запахи, свет – все оборачивается горячими волнами крови в больном виске. Это не сам приступ, всего лишь его предвестники, так что зелье должно помочь. Но как же некстати. Свист. Щелчок. Тугое хлюпанье по плоти. Неправильное хлюпанье, и стон от него неверный, словно фальшивая нота. Не глядя, протягиваю руку, нащупываю фарфоровую чашку там, где ей и положено быть – ровно на полпальца от жаровни, чтоб не грелась и не остывала. Глоток – лишь затем с трудом открываю глаза и размыкаю губы:
– Мягче, Рыжик, не так резко… И дай ему передохнуть.
Короткий кожаный бич, уже взлетевший в воздух, не успевает отдернуться, лишь удар слабеет и приходится наискосок, по ребрам. Рыжик поспешно отступает, виновато косясь на меня. Послушный мальчик… Аккуратный, исполнительный, неглупый – сплошные достоинства. Я всерьез считал, что смогу с ним поладить? Но попытаться стоило. Вот и пытаюсь до сих пор.
– Он в обмороке. Что толку причинять боль тому, кто ее не чувствует? – тихо объясняю я, делая очередной глоток. Полынный дымок, сладковато-терпкий привкус. Все верно, и горячее в меру, не зря я учил Рыжика правильно обращаться с жаровней. – А ты слишком резко работаешь бичом. Ни к чему рвать мясо до костей, так ты просто убьешь свою жертву.
– У паладинов не бывает слабого сердца, – отвечает Рыжик, приглядываясь к растянутому на металлической раме у стены телу с безжизненно поникшей головой.
– Хорошо, что ты помнишь, – ласково говорю я, позволяя мальчишке покраснеть от похвалы, и добавляю: – А еще у них защита от пыток. Тело не позволяет боли овладеть разумом. Это ты забыл.
Некоторые вещи Рыжик понимает отлично. Отходит еще на шаг, разочарованно глядя на меня.
– Значит, ему не больно?
– Не настолько, как тебе хотелось бы. Зато он может умереть от обезвоживания и потери крови. Поэтому ты сейчас напоишь его и зальешь раны отваром кровохлебки. В качестве трупа он меня пока не интересует.
Рыжик закусывает губу, вздыхает и идет в угол мастерской, к шкафчику с зельями. Поднося чашку к губам в третий раз, я морщусь: запах крови почти перебил тонкий терпкий аромат зелья. В ушах легонько позванивает, предупреждая. Еще немного – и скрутило бы всерьез. Экстракт спорыньи в крошечных дозах – единственное, что помогает от моей формы гемикрании, все остальное давно испробовано. Не забавно ли? Целитель, который не может вылечить самого себя… Когда слышимый только мне звон притихает, ставлю чашку на низкий столик и рискую немного повернуть голову.
– Нелюдь, – негромко говорит человек в рясе, распятый у противоположной стены. – Фэйрийская тварь.
– Только наполовину. И не замечал, чтобы моя человеческая суть была преисполнена Благости, – утомленно отзываюсь я, приглядываясь к пленнику.
Вытертая ряса, уродливо подстриженные волосы, набрякшие мешки под глазами. Лет сорок, пожалуй. Коренастое тело, висящее на ремнях, от нелепой позы кажется еще более коротким и неуклюжим. Кислым пахнет именно от него: страх мешается с потом и болью. Закрыть глаза – и кажется, что со мной разговаривает огромный ломоть ржаного хлеба. Но держится священник неплохо: дыхание ровное, жилка на шее бьется чуть быстрее положенного и кожа почти не покраснела. Постник, сразу видно. А вот сердце у него должно быть слабое, при таком-то цвете губ. И ногти на коротких пальцах с застарелыми чернильными пятнами отливают синевой. Поэтому я осторожен. Поэтому ремни мягкие и плотные, а ступни священника на полу. И Рыжику я его пальцем тронуть не дал, как тому ни хотелось. И поэтому у священника есть силы говорить, лишь слегка задыхаясь:
– Почему он? Почему ты не пытаешь меня?
– А зачем?
– Но…
Распятый запинается. Смотрит на Рыжика, деловито откупоривающего флакон с экстрактом… И снова на меня, не скрывая ужаса.
– Да, ты правильно понял. Это ему так захотелось. Я не получаю удовольствия от пыток. По крайней мере, когда работаю.
– Нелюдь, – беспомощно повторяет священник.
Надо бы, кстати, выяснить, как их зовут. Или рано? В любом случае пора начинать. Рыжик щедро плещет темной вонючей жидкостью на грудь и живот своей жертвы, проверяет пульс. Разжав зубы, вливает немного воды из специального стакана с носиком. До чего старательный мальчик, даже забавно. Ненавидит паладина всей душой, но я приказал – и он его лечит. И даже отпустит, если я велю. Послушный… И нелюбопытный.
– Рыжик, дай второму тоже попить. И двадцать капель экстракта ландыша.
Распятый плотно стискивает губы, вызывающе глядя на меня и хмурого Рыжика, отмеряющего капли в стакан.
– Не сопротивляйся, – советую я. – До ритуала еще пара часов, не торопись умирать.
Вот, кстати. Я тянусь к столику и переставляю высокие песочные часы, стараясь не зацепить чашку с отваром. Паладин по-прежнему висит, опустив голову, но дышит уже иначе, чем пару минут назад. Чего у них не отнять, так это хитрости. И учат хорошо. Точнее, не учат, а натаскивают. Спорю на свою библиотеку, кнут Рыжика не помешал ему рассмотреть каждый уголок лаборатории в поисках хоть какого-нибудь оружия.
– Наверное, я должен спросить, что за ритуал?
Священник пытается улыбнуться, в голубых глазах дрожат крупные капли, вот-вот расплачется. Надо же. Такие дерзят только от страха. Совсем отчаялся, что ли? Рано. Откинув голову на высокую, чуть изогнутую для удобства спинку, я смотрю, как он кривится, пытаясь вздохнуть поглубже. Ничего, немного боли в запястьях и спине – в самый раз. Смотрю и молчу.
– А если я не хочу спрашивать? И не хочу разговаривать с тобой, колдун?
– Тебя никто и не заставляет, – негромко отзываюсь я, выдержав паузу. – Сейчас можешь помолчать, так даже лучше будет. А когда мне понадобится – ты заговоришь.
– Будешь меня пытать?
– Не тебя. Его.
– Почему? Почему его?!
На крике его голос срывается, губы белеют. Я поднимаю чашку и делаю небольшой глоток, фарфор приятно греет губы. Главное – постепенность. Во всем.
– Не кричи, – прошу очень мягко. – Голова болит. Потому что вы нужны мне живыми, оба. А он выдержит гораздо больше тебя. Ты ведь боишься боли, верно? И у тебя слабое сердце. А еще тебе жаль своего спутника, потому что ты добрый и справедливый человек. Тебе будет очень стыдно, если он пострадает из-за твоего упрямства. Глупого, кстати.
– Ты…
Он облизывает губы, замолкает, не договорив.
– Не бойся, – тихо произношу я, протягивая Рыжику еще наполовину полную чашку. Тот осторожно вынимает тонкий фарфор у меня из пальцев, относит к жаровне и ставит у раскаленного бока, бережно помешивая содержимое. – Я нелюдь? Ты это хотел повторить? Можешь говорить что угодно. Главное – не кричи. Ты так не любишь фэйри, священник? Но вот взгляни на Рыжика. Он человек. Рыжик, иди сюда.
Повинуясь жесту, мальчишка опускается на пол возле моего кресла, заискивающе заглядывает в глаза. Я одобряюще улыбаюсь, запускаю пальцы в блестящие морковные пряди. Он стал отращивать волосы, стоило мне мельком упомянуть, что люблю перебирать их.
– Рыжик, что бы ты сделал с этими двумя?
– Убил, – отвечает он мгновенно.
– Просто убил?