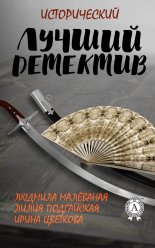Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах де Костер Шарль
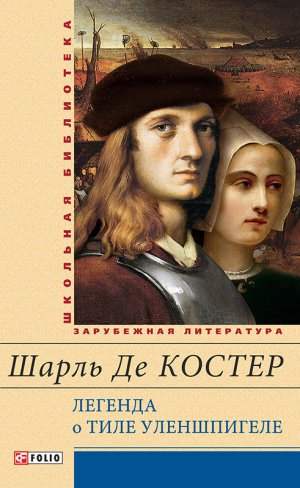
– Я сеял на лунном свету, как вы приказали, – ответил Уленшпигель.
– Осёл ты безмозглый, где же твоё сито?
– Я думал, что у вас луна – новоизобретенное сито. Но беда не велика – я соберу муку.
– Да ведь уже поздно месить тесто и печь хлеб.
– Хозяин, – сказал Уленшпигель, – у соседа на мельнице готовое тесто: сбегаю и принесу.
– Убирайся на виселицу, оттуда принесёшь что-нибудь!
– Иду, – сказал Уленшпигель.
Он побежал к месту казней, нашёл там высохшую руку казнённого и принёс её хозяину со словами:
– Вот тебе заколдованная рука, она делает невидимкой всякого, у кого она лежит в кармане. Вот ты и скроешь свою злость.
– Я пожалуюсь на тебя в общину, и ты увидишь, что значит нарушать права хозяина.
Когда оба они стояли перед бургомистром и булочник хотел уже начать перечисление многочисленных злодеяний Уленшпигеля, он вдруг увидел, что тот необыкновенно широко раскрыл глаза. Он пришёл в такую ярость, что прервал свои жалобы криком:
– Да чего тебе надо?
– Ты сказал мне, что я увижу, как тебя не слушаться. Вот я и хочу увидеть.
– Долой с моих глаз! – закричал булочник.
– Если бы я был на твоих глазах, я бы с них мог сойти только через твои ноздри.
Увидев, что тяжущиеся плетут какую-то чепуху, бургомистр отказался слушать их дальше.
Вместе они вышли на улицу. Булочник поднял палку, но Уленшпигель увернулся и сказал:
– Хозяин, ты хочешь колотушками высеять из меня муку: оставь себе отруби – это твоя злость; я возьму себе муку – это моё веселье.
Потом он повернулся к нему задом и прибавил:
– А вот тебе и печка, пеки что угодно.
XLII
Всё идя вперёд, Уленшпигель был бы рад, чтобы путь скрадывался для него, да булыжник по дороге был слишком тяжёл: не украдёшь.
Он направился наудачу в Ауденаарде, где стоял фламандский гарнизон, охранявший город от французских банд, опустошавших страну, как саранча.
Начальствовал над фламандскими рейтарами капитан по имени Корнюин, фрисландец по рождению. Они тоже рыскали по окрестностям и грабили население, которое, как это обычно бывает, страдало от обеих сторон.
Всё шло на пользу рейтарам – куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались, нагруженные добычей, капитан и его офицеры увидели на дороге Уленшпигеля, спавшего под деревом. Ему снилось тушёное мясо.
– Ты чем промышляешь? – спросил капитан.
– Умираю с голода, – отвечал Уленшпигель.
– Но твоё занятие?
– Богомолец за свои прегрешения, созерцатель чужой работы, плясун по канату, изобразитель красоток, резчик черенков для ножей, артист на rommel-pot и трубач.
Трубачом назвал себя так смело Уленшпигель потому, что слышал, что, за смертью последнего стражника, состарившегося на этом месте, должность трубача в замке Ауденаарде свободна.
– Будешь городским трубачом, – сказал капитан.
Уленшпигель отправился с ним и был водворён на самой высокой башне городских укреплений. Его помещение продувалось со всех четырёх сторон; только южный ветер веял при этом лишь одним крылом.
Он получил приказ трубить в трубу, как только увидит неприятеля, а так как для этого голова должна быть свободна и глаза открыты, ему давали не слишком много есть и пить.
Капитан и его наемники сидели в башне и целыми днями обжирались за счёт округи. Здесь убили и слопали не одного каплуна, единственным преступлением которого был его жир. Об Уленшпигеле вечно забывали, он питался пустой похлёбкой, и запах яств, поднимавшийся к нему в башню, совсем не услаждал его. Нагрянули французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.
Капитан поднялся к нему наверх.
– Почему ты не трубил? – спросил он.
– Нечем было отблагодарить вас за вашу кормёжку, – отвечал Уленшпигель.
На другой день капитан и его наемники устроили большое пиршество, но об Уленшпигеле опять никто не вспомнил. Только пирующие успели разгуляться, как Уленшпигель вдруг затрубил.
Убеждённые, что идут французы, капитан с солдатами бросили еду и вино, вскочили на коней и помчались за город. Но они не нашли там никого, кроме вола, который жевал свою жвачку, лёжа на солнце, и забрали его.
А Уленшпигель в это время набил себе брюхо мясом и вином. Капитан по возвращении застал его у дверей столовой; он покачивался на ногах и насмешливо смотрел на офицеров.
– Это предательство – трубить тревогу, когда нет никакого врага, и не трубить, когда он перед тобой! – закричал капитан.
– Господин капитан, – ответил Уленшпигель, – в башне так дует, что ветер унёс бы меня, как пузырь, если бы я не вытрубил из себя дух. А хотите – повесьте меня хоть сейчас или в другой раз, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.
Капитан вышел, не сказав ни слова.
Между тем пришло известие, что высокомилостивый император Карл со своей высокородной свитой собирается прибыть в Ауденаарде. По этому случаю городские власти снабдили Уленшпигеля парой очков, дабы он издали видел приближение его святейшего величества. Условились, что как только Уленшпигель увидит, что император направляется в Луппегем, в четверти мили от ворот Боргпоорта он трижды протрубит в свой рог.
Это давало обывателям возможность вовремя зазвонить в колокола, приготовить фейерверк, поставить мясо на огонь и откупорить бочки.
Однажды около полудня – ветер задул с Брабанта, небо было ясно – Уленшпигель увидел по луппегемской дороге толпу всадников на играющих конях; их перья развевались по воздуху; некоторые держали знамёна. На горделиво поднятой голове всадника, ехавшего впереди, была парчовая шляпа с длинными перьями. Он был в коричневом бархате с золотым шитьём.
Уленшпигель надел очки и увидел, что это император Карл V, который милостиво разрешал обывателям Ауденаарде попотчевать его отборнейшими винами и изысканнейшими яствами, какие только у них были.
Всадники медленно подвигались вперёд, вдыхая свежий воздух, возбуждающий в человеке аппетит. Но Уленшпигель сказал себе, что они и так жрут обильно и не умрут, если попостятся один раз. И он спокойно смотрел на их приближение и не трубил.
Они гарцевали, смеясь и болтая, и мысль его величества обращалась к желудку с заботой, достаточно ли там осталось места для пиршества в Ауденаарде. Император был удивлён и недоволен, что ни один колокол не возвещает о его прибытии.
Вдруг в городские ворота ворвался крестьянин с криком, что он видел, как к городу приближается отряд французов, чтоб всё сожрать и разграбить.
Немедленно сторож запер ворота и послал общинного служку сказать, чтобы заперли все прочие ворота. Рейтары кутили, ничего не подозревая.
Чем ближе подъезжал император, тем больше он гневался, что колокола не трезвонят, пушки не палят, аркебузы не салютуют. Напрасно напрягал он слух. Он не слышал ничего, кроме получасового боя башенных часов. Так подъехал он к воротам, нашёл их запертыми и постучал кулаком, чтобы ему открыли.
Свитские кавалеры, недовольные, как и его величество, сердито ворчали. Дозорный с крепостного вала закричал, что если они там не перестанут безобразничать, то он охладит их нетерпенье картечью.
Разъярённый император закричал:
– Слепая свинья, ты не узнаёшь своего императора?
Дозорный ответил:
– Золочёная свинья ничуть не лучше, чем первая встречная. Пока что известно, что господа французы большие шутники: все знают, что император Карл ведёт войну в Италии и потому не может стоять у ворот Ауденаарде.
На это Карл и его свита закричали ещё громче:
– Если ты не откроешь, ты будешь изжарен на копье, как на вертеле. А перед этим проглотишь свои ключи.
На шум прибежал из арсенала старый солдат, высунул нос из-за стены и заорал:
– Дозорный, ты ошибся. Это наш император, я узнал его, хотя он состарился с тех пор, как увёз отсюда Марию ван дер Гейнст в замок Лален!
От ужаса привратник упал на землю замертво. Солдат взял ключи и побежал отворять ворота.
Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Выслушав объяснение солдата, его величество приказал опять запереть ворота, вызвать солдат Корнюина и повелел им открыть шествие с дудками и барабанами.
Вскоре поднялся колокольный трезвон.
И его величество с царственным грохотом прибыл на Большой рынок. В зале заседаний собрались бургомистры и старейшины: старейшина Ян Гигелер выбежал на шум и возвратился в зал заседаний с криком:
– Keyser Karel is alhier! – то есть: Император Карл здесь!
Испуганные этой вестью, бургомистры, советники и старшины поспешили из зала на улицу, чтобы приветствовать императора в полном составе, а слуги побежали по городу с приказами готовить потешные огни, палить из мортир, жарить птицу, открывать бочки.
Мужчины, женщины и дети бегали повсюду с криками:
– Keyser Karel is op’t groot markt! – то есть: Император Карл на Большом рынке!
На рынке собралась огромная толпа.
Пришедший в неистовую ярость император спросил обоих бургомистров, не достойны ли они виселицы за такое невнимание к своему повелителю.
Бургомистры ответили, что, конечно, достойны, но трубач Уленшпигель заслужил её ещё более, ибо, вслед за слухом о прибытии его величества, Уленшпигеля, снабжённого очками, посадили на башню и дали ему приказ трижды протрубить, как только он заметит приближение императора. Но он этого не исполнил. Император не смягчился и велел привести Уленшпигеля.
– Почему, – спросил он, – ты, несмотря на очки, не трубил при моём приближении?
Говоря это, он прикрыл глаза рукой от солнца и смотрел на Уленшпигеля сквозь пальцы.
Уленшпигель тоже прикрыл глаза рукою и ответил, что, с тех пор как он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, он не хотел пользоваться очками.
На это император сказал, что он будет повешен, и городской привратник ответил, что так и следует. Бургомистры так были потрясены этим приговором, что не сказали ни слова ни за, ни против.
Явились палачи и помощники с лестницей и новой верёвкой, взяли Уленшпигеля за шиворот, и так шёл он мимо сотни рейтаров Корнюина, не сопротивляясь и бормоча про себя молитвы. А они зло издевались над ним.
Сбежавшийся народ говорил:
– Какая жестокость, за такой ничтожный проступок осудить на смерть несчастного юношу!
Была здесь толпа ткачей, они были вооружены и кричали:
– Не позволим повесить Уленшпигеля: это против законов Ауденаарде!
Так дошли они до Поля виселиц. Уленшпигеля взвели на лестницу, и палач надел ему петлю на шею. Ткачи столпились у виселицы. Верхом на коне высился профос. В руках у него был судейский жезл, которым он должен был, по приказанию императора, подать знак к исполнению казни.
Народ кричал:
– Милосердие! Помилуйте Уленшпигеля!
Уленшпигель, стоя на лестнице, крикнул:
– Помилуйте, ваше величество!
Император поднял руку и сказал:
– Если этот негодяй попросит меня о чём-нибудь, чего я не могу исполнить, он будет помилован.
– Говори, Уленшпигель! – закричал народ.
Женщины плакали и говорили:
– Ну что он, бедняга, может попросить? Ведь император всемогущ.
Все кричали:
– Говори, Уленшпигель!
– Ваше величество, – сказал он, – я не прошу ни денег, ни поместий, ни даже жизни, но прошу об одной вещи, за которую, однако, если я её назову, обещайте не колесовать и не бичевать меня, пока я сам не отойду к вечному блаженству.
– Обещаю, – сказал император.
– Прошу ваше величество, прежде чем я буду повешен, приблизиться ко мне и поцеловать в те уста, которыми я не говорю по-фламандски.
Император и весь народ расхохотались.
– Этой просьбы я не могу исполнить, и, стало быть, ты не будешь повешен, Уленшпигель.
Но бургомистра и старшин он присудил в течение шести месяцев носить на затылке очки: «Ибо, – сказал он, – если ауденаардцы не умеют смотреть передом, то пусть смотрят задом».
И по указу императорскому до сих пор эти очки красуются в гербе города.
А Уленшпигель потихоньку убрался с мешочком серебра, собранного для него среди женщин.
XLIII
В Льеже, на рыбном рынке, Уленшпигель увидел толстого юношу, который в каждой руке держал по кошелке; правая была полна всякой птицы, левую он наполнил форелями, угрями, щуками, камбалами.
Уленшпигель узнал Ламме Гудзака.
– Что ты здесь делаешь, Ламме? – спросил он.
– Ты знаешь, как здесь, в милом Льеже, любят нас, фламандцев. Следую за моей любовью. А ты?
– Ищу хозяина, который дал бы мне хлеба за службу.
– Это сухая еда, – ответил Ламме, – лучше бы ты опустил в свою глотку чётки из жаворонков с дроздом в виде Credo.
– Ты богат? – спросил его Уленшпигель.
– Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня била, – отвечал Ламме. – Я их наследник и живу с одноглазой старухой, великим мастером кухонного искусства.
– Давай я понесу твою рыбу и птицу.
– Неси.
И они пошли по рынку.
– А ведь ты дурак, – вдруг сказал Ламме. – И знаешь почему?
– Почему?
– Носишь рыбу и дичь не в желудке, а в руках.
– Это верно, Ламме. Но с тех пор как у меня нет хлеба, дрозды и смотреть на меня не хотят.
– Наешься дроздов вволю, Уленшпигель, когда будешь служить у меня, если позволит моя стряпуха.
По пути им встретилась очень хорошенькая и милая девушка в шёлковом платье, которая бросила ласковый взгляд на Ламме. Он указал на неё Уленшпигелю.
Вслед за девушкой шёл старик, её отец, и нёс две корзины – одну с дичью, другую с рыбой.
– Вот кого я выбрал себе в жёны, – сказал Ламме.
– Да, – ответил Уленшпигель, – я знаю её: она фламандка из Цоттегема, живёт в улице Винав д’Иль, соседи говорят, что мать вместо неё подметает улицу перед домом, а отец гладит её рубашки.
– Она взглянула на меня, – вдруг обрадовавшись, сказал Ламме, не обращая внимания на слова Уленшпигеля.
Они подошли к дому Ламме, у сводов моста, и постучали в дверь. Им открыла кривая служанка. Уленшпигель увидел, что она стара, длинна, сухопара и сварлива.
– Ла-Санжин, – обратился к ней Ламме, – возьмёшь этого парня в помощники?
– Возьму на пробу.
– Попробуй; пусть узнает блаженство твоей кухни.
Ла-Санжин подала на стол три чёрных колбасы, кружку пива, большой ломоть хлеба.
Пока Уленшпигель ел, Ламме выбрал и для себя колбасу.
– Знаешь, – сказал он, – где обитает наша душа?
– Нет, Ламме.
– В нашем желудке: это она неустанно опустошает его, чтобы вновь ввести в наше тело жизненную силу. Кто лучший спутник нашей жизни? Вкусные и тонкие блюда и доброе маасское вино.
– Да, – сказал Уленшпигель, – колбаса – приятное общество для одинокой души.
– Он хочет ещё, – сказал Ламме, – дай ему ещё чего-нибудь, Ла-Санжин.
Она подала теперь белую колбасу.
Жадно глотая, Ламме впал в задумчивость и сказал:
– Когда я умру, мой желудок умрёт вместе со мной, а там, в чистилище, придётся поститься, и буду я таскать с собой это пустое обвислое брюхо.
– Чёрная была вкуснее, – заметил Уленшпигель.
– Шесть штук съел, довольно с тебя, – заявила Ла-Санжин.
– Здесь, знаешь, тебя будут хорошо кормить, – сказал Ламме, – есть ты будешь то же, что и я.
– Буду иметь в виду, – сказал Уленшпигель.
Всё это привело его в хорошее настроение. Поглощённые колбасы вдохнули в него такую бодрость, что он в этот день вычистил все котлы, сковороды и горшки, и они блестели, как солнце.
Жил он в этом доме привольно, часто наведывался в кухню и погреб, предоставив кошкам чердак. Однажды Ла-Санжин, жаря двух цыплят, приставила его вертеть вертел, пока она сходит на рынок за кореньями для приправы.
Когда цыплята изжарились, Уленшпигель съел одного из них.
Войдя в кухню, Ла-Санжин закричала:
– Здесь были два цыплёнка, где другой?
– Посмотри своим другим глазом, – ответил Уленшпигель, – увидишь обоих.
В бешенстве бросилась она к Ламме с жалобой. Тот сошёл в кухню и обратился к Уленшпигелю:
– Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Была ведь пара цыплят.
– Верно, Ламме. Но когда я поступил к тебе, ты сказал, что я буду есть то же, что и ты. Здесь была пара цыплят – одного съел я, другого съешь ты. Моё удовольствие уже прошло, твоё ещё предстоит тебе. Разве тебе не лучше, чем мне?
– Да, – ответил Ламме, смеясь, – делай только всё так, как Ла-Санжин прикажет: тогда придётся тебе делать только половину работы.
– Постараюсь, Ламме, – ответил Уленшпигель.
И всякий раз, как Ла-Санжин что-нибудь ему приказывала, он исполнял только половину. Посылала ли она его принести два ведра воды, он приносил одно. Шёл ли он в погреб нацедить из бочки кружку пива, он выливал по дороге полкружки в свою глотку, и так далее.
Наконец это надоело Ла-Санжин, и она заявила Ламме, что если этот бездельник останется в доме, она сейчас же бросает службу.
Ламме спустился к Уленшпигелю.
– Придётся тебе уйти, сын мой, – сказал он, – хотя ты здесь порядочно подкормился. Слышишь, петух кричит: два часа дня – значит, будет дождь. Не хочется мне выгонять тебя из дому в непогоду, но подумай, сын мой: благодаря своим жарким Ла-Санжин – страж моего бытия. Я не могу расстаться с нею, не рискуя жизнью. Ради Создателя, сын мой, уходи; возьми эти три флорина и эту связку колбасок, чтобы облегчить себе трудный путь.
И Уленшпигель пошёл удручённый и с раскаянием думал о Ламме и его кухне.
XLIV
Стоял ноябрь в Дамме, как и везде, но зимы не было: ни снега, ни дождя, ни мороза.
Ничем не омрачённое солнце сияло с утра до вечера. Дети катались в пыли по улицам и переулкам. После ужина лавочники, купцы, золотых дел мастера, кузнецы и прочие ремесленники выходили в час отдыха на крылечко и глядели на вечно синий небосвод, на деревья, ещё покрытые зеленью, на аистов на крышах и на ласточек, всё не отлетавших. Розы отцвели в третий раз, и в четвёртый раз на них появились почки; ночи были тёплые, и соловьи заливались без устали. Жители Дамме говорили:
– Зима умерла, сожжём зиму.
И они соорудили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, одели чучело в белое платье и торжественно сожгли его.
Клаас хмурился по этому случаю и не радовался ни синему небу, ни ласточкам, не собиравшимся улетать. Ибо никому в Дамме не нужен был уголь – разве только для кухни, для которой были у всех запасы, и никто не покупал у Клааса, а он истратил все свои сбережения на покупку угля.
Так стоял он у своего порога, и, когда свежий ветерок холодил кончик его носа, угольщик говорил:
– Ну, вот пришёл мой заработок.
Но свежий ветерок стихал, небо оставалось синим, листья не хотели падать. Клаас не согласился уступить за полцены свой уголь скупому Грейпстюверу, старшине рыбников. И вскоре в его домике стало не хватать хлеба.
XLV
А король Филипп не страдал от голода и объедался пирожными подле своей супруги Марии Уродливо из королевского дома Тюдоров. Он не любил её, но надеялся, оплодотворив эту хилую женщину, дать английскому народу государя-испанца.
Но на горе себе заключил он этот брак, подобный браку булыжника с горящей головнёй. В одном лишь они всегда были согласны – в истреблении несчастных реформатов: они их жгли и топили сотнями.
Когда Филипп не уезжал из Лондона или не уходил, переодетый, из дворца распутничать в каком-нибудь притоне, час ночного покоя соединял супругов.
Королева Мария в ночной рубахе из фламандского полотна с ирландскими кружевами стояла у супружеской постели, а Филипп рядом с ней, как прямой столб, приглядывался, не видно ли на теле жены признаков близкого материнства; но он ничего не видел, приходил в бешенство и злобно молчал, рассматривая свои ногти.
Бесплодная, похотливая женщина говорила ему страстные слова и, стараясь придать нежное выражение своим глазам, просила бесчувственного Филиппа о любви. Слёзы, крики, мольбы – всё пускала она в ход, чтобы добиться ласки от человека, который не любил её.
Напрасно ломала она руки, бросалась к его ногам, напрасно, чтобы расшевелить его, смеялась и плакала одновременно, точно безумная. Ни смех, ни слёзы не могли смягчить твердыню этого каменного сердца.
Напрасно охватывала она его, точно влюблённая змея, своими худыми руками, напрасно прижимала к своей плоской груди узкую клетку, в которой жила изуродованная душа властелина. Он был недвижен, как пограничный столб.
И она, эта злосчастная дурнушка, старалась очаровать его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают упоённые страстью женщины своим возлюбленным. Филипп рассматривал свои ногти.
Иногда он отвечал:
– Так и не будет у тебя детей?
Голова Марии падала на грудь.
– Разве я виновата в своём бесплодии? – отвечала она. – Сжалься надо мной: я живу, как вдова.
– Отчего у тебя нет детей? – спрашивал Филипп.
И королева, точно поражённая насмерть, падала на ковёр. Из глаз её лились только слёзы, но она плакала бы кровью, если бы могла, эта несчастная, сладострастная женщина.
Так мстил Господь палачам за жертвы, которыми они усеяли Англию.
XLVI
В народе шёл слух, что император Карл собирается лишить монахов принадлежавшего им права наследовать имущество лиц, умерших в монастыре, и что папа этим чрезвычайно недоволен.
Уленшпигель в это время скитался по берегам Мааса и думал о том, что император умеет извлечь из всего выгоду: ибо он наследует имущество и в тех случаях, когда нет других наследников. Уленшпигель сидел на берегу, забросив свои удочки с доброй приманкой, жевал чёрствую корку чёрного хлеба и жалел, что нет бургонского оросить эту сухую закуску. Но не все наши желания сбываются. Он это знал хорошо.
И однако он бросал кусочки хлеба в воду, полагая, что кто не разделяет своей пищи с ближним, тот вовсе недостоин её.
К крошкам хлеба подплыл пескарь; сперва он стал их обнюхивать, потом коснулся их кончиком морды и, наконец, широко раскрыл свою невинную пасть, точно в надежде, что хлеб сам влезет туда. Но пока он смотрел вверх, вдруг стрелой налетела на него коварная щука и разом проглотила.
Так же поступила она с карпом, который, не думая об опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука неподвижно остановилась в реке, не обращая внимания на рыбью мелкоту, стремглав бросавшуюся во все стороны при виде щуки. Но её спокойная важность была нарушена: вдруг с разинутой пастью бросилась на неё другая щука, голодная и прожорливая. Закипел яростный бой, страшны были раны с обеих сторон, и вода вокруг покраснела от их крови. Поевшая щука не могла справиться с голодной, которая всё отскакивала, разбегалась и, точно пуля, бросалась на противницу. Та разинула пасть, захватила половину головы врага, хотела высвободиться – и не могла: её зубы были загнуты внутрь. И обе отбивались друг от друга, совсем обессилев.
В своей возне они не заметили привязанного к шёлковой леске крючка, который вцепился в плавник сытой щуки; он захватил её, потянул вместе с врагом из воды и без всякого почтения выбросил обеих на траву.
Потроша их, Уленшпигель сказал:
– Милые мои щучки, вы вроде как император и папа, которые стараются слопать друг друга, и не я ли народ, который среди их свары, в час, какой угодно будет назначить Господу Богу, подцепит обоих на крючок.
XLVII
Катлина всё ещё жила в Боргерхауте и скиталась по окрестностям, приговаривая:
– Гансик, муж мой, они зажгли огонь на моей голове; проделай дыру, чтобы душа моя могла вырваться наружу. Ах, она стучится там, и каждый удар – точно нож острый.
И Неле ходила за матерью и, сидя подле неё, думала с тоской о своём друге Уленшпигеле.
А Клаас в Дамме по-прежнему собирал в вязанки хворост, продавал уголь и часто погружался в глубокую печаль, когда вспоминал о том, что Уленшпигель изгнан и долго-долго ещё не вернётся домой.
Сооткин всё сидела у окна и смотрела, не покажется ли её сын.
А он, находясь в это время в окрестностях Кёльна, вдруг решил, что им овладела склонность к садоводству.
И поступил на службу к Яну де Цуурсмулю, который, будучи предводителем ландскнехтов, только посредством выкупа спасся как-то от виселицы и потому питал непобедимый ужас перед коноплёй, которая на фламандском наречии называлась тогда кеннип.
Однажды Ян де Цуурсмуль, давая Уленшпигелю очередную работу, повёл его на своё поле, и здесь они увидели участок земли, весь поросший зелёной коноплёй.