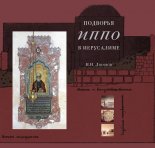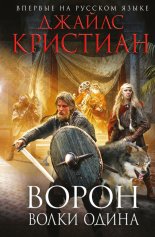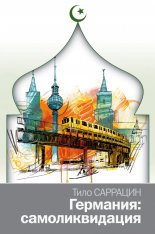Воровская трилогия Зугумов Заур

Мы много раз были в древнем замке герцога Аквитанского. И побывали в родовом поместье Луизы в Ажене на берегу реки Гаронны. Хотя Луиза и бывала здесь не так уж часто, дом и сад содержались в идеальном порядке, который соответствовал духу и вкусу хозяйки. Однажды Луиза повезла меня на остров Нуамутье в монастырь бенедиктинцев, он находился в трехстах километрах к югу от Бордо, в Бискайском заливе. Этот монастырь был основан в VII веке, и сюда со всего света съезжались паломники. Когда отец Луизы был еще жив, он несколько раз, когда она была маленькой девочкой, возил ее сюда. Красота и величественность этого монастыря покорили ее юное романтическое сердце, и она по прошествии многих лет решила показать мне его. Мы были несколько раз в Париже, Марселе, Тулузе. Но я заметил, что ее больше привлекала провинция, и я, естественно, не противился, поскольку и сам был по природе мечтателем и романтиком и всегда восхищался древней архитектурой и легендами давно минувших дней. Луиза была истинная леди. Получив прекрасное образование, она свободно изъяснялась на трех языках: французском, испанском и русском. Она хорошо знала историю европейских стран и неплохо разбиралась в археологии и астрономии. Но выше всего, будучи аристократкой по крови, она ставила этикет. Как-то в шутку я сказал, что ей бы вполне подошла роль фрейлины при дворе Людовика XIV, поскольку, пожалуй, не было такого короля во Франции, который бы так ценил этикет, как Луи XIV. Он заставлял своих подданных неукоснительно следовать этикету, а сам при этом, естественно, подавал пример. Иногда я становился учеником Луизы. Хоть в детстве я получил от своей бабушки неплохие уроки хорошего поведения, но в путешествиях с Луизой я совершенствовал свои познания. Она была незаурядной женщиной, обладала необыкновенной красотой и тонким умом. Кузина усердно учила меня тяжелым оборотам французской речи, а мне так хотелось как-нибудь заговорить с ней на чисто французском, но пока приходилось довольствоваться русским, благо она действительно владела им в совершенстве. Здесь, правда, мы менялись ролями. Я делился с ней своими познаниями в русской литературе, в чем в свое время изрядно преуспел. Я наизусть цитировал ей «Мцыри» и «Евгения Онегина», рассказывал о декабристах, о доме Романовых, о том, как произошла революция и какие пагубные последствия она повлекла за собой. Я рассказывал ей о нашей бабушке, иногда Луиза заставляла меня кое-что повторить, в ее сознании кое-какие моменты и обстоятельства никак не могли уместиться, а иногда она была просто шокирована тем, что я ей рассказывал. Не надо забывать, что я был глазами Луизы. И то, что я видел и чувствовал, я старался пересказать ей отчасти фантазируя, но не жалея слов и жара души. Я даже порой закрывал глаза, чтобы лучше представить себе ее внутренний мир, и мог говорить часами – о том, что ей нравилось, о том, что чисто, светло и прекрасно, о том, что благородно. Мы оба знали, что не все мною сказанное могло стать реальностью, но каждый из нас хотел в это верить. Луиза как-то сказала мне: «Я хоть и не вижу ничего, но чувствую, что дед наш лет на тридцать помолодел». И действительно, его уже часто можно было видеть прогуливающимся по утрам по тенистым аллеям парка, чего уже много лет он не делал. Жерар не мог налюбоваться на своего хозяина и часто повторял нам, что уже давно не видел графа таким бодрым и подтянутым. Если желания людей сбываются сверх ожидания, счастье в один прекрасный день благословляет их душу.
Часто по вечерам, сидя в гостиной, дед рассказывал нам истории из своего далекого прошлого, показывая всевозможные предметы и реликвии, которых у него было неимоверное множество. Перебирая старинные письма и фотографии, он постоянно что-то объяснял Луизе, которая задавала ему бесконечное количество вопросов. Я как-то не удержался и спросил у Луизы, когда мы были одни: неужели она никогда не задавала прежде ему подобные вопросы. Мило улыбнувшись, она с хитринкой в голосе ответила: «Конечно, Заур, я знаю буквально все, что касается нашего рода, мало того – что касается наших обоих родов. Я даже некоторое время специально изучала для этого геральдику Франции, но обратил ли ты внимание, как, с каким жаром, с каким наслаждением дед рассказывает обо всем этом. Я по голосу его чувствую, что это ему очень приятно». Для меня это был хороший урок, я сразу оценил его и стал более внимательным слушателем. Однажды в один из таких замечательных летних вечеров, когда мы с Луизой, как обычно, удобно устроившись в беседке напротив деда, слушали его воспоминания, мне вдруг стало не по себе. Я подумал: имею ли я право, я, человек, который почти полжизни провел в тюрьмах и лагерях, скрывать от них свое прошлое и с невозмутимым спокойствием разглядывать альбомы с фотографиями своих предков. И я решил рассказать им обо всем и вынести на их суд всю свою жизнь, все, через что я прошел и что выстрадал. И вот это мое повествование главным образом и легло в основу настоящей книги.
Самое удивительное было то, что и дед, и Луиза, еще не видя меня в глаза, знали, кто я и что собой представляю. Но, будучи прекрасно воспитанными людьми, они ничем не выдали себя. Слава богу, что я выдержал этот экзамен, и этой премудростью я обязан своей покойной бабушке…
Часть V
Оля-любовь моя
Эзоп повстречался на улице с судьей. Тот спросил: «Куда ты идешь?» – «Не знаю», – отвечал баснописец. «Вот как! В таком случае ты идешь в тюрьму». – «Вот видите, – заметил Эзоп, – значит, я и в самом деле не знал, куда иду».
Глава 1
Наконец я дома
Медленно, с резким дерганьем вагонов и стуком буферов, визгливо скрипя тормозными колодками, поезд Ростов-Баку подходил к Махачкалинскому вокзалу Был поздний вечер. Я даже до сих пор помню точное время прибытия этого поезда, потому что и впоследствии мне частенько приходилось его ожидать. Тогда я хорошо знал расписание всех прибывающих поездов, как должен был бы знать таблицу умножения прилежный ученик начальных классов.
Я уже давно стоял в тамбуре, курил и смотрел в окно на огни, которые при приближении к городу все чаще мелькали подобно ярким звездам, которые, блеснув на мгновение, вновь окутывались мглой. И виденное в реальности я сопоставлял с игрой моего воображения и находил в этом свое, одному мне ведомое удовольствие, радость быть свободным. Даже мать не тревожила меня, зная, что я рядом и никуда не денусь, ей одной, видно, только и дано было понять мои чувства. А разве есть на свете человек, которому дано более, чем матери, знать душу своего ребенка, почувствовать и предопределить его желания и порывы сердца. С того самого момента как я вышел из ворот тюрьмы и очутился в материнских объятиях, я постоянно чувствовал такую заботу и такое внимание, какие могут исходить только от матери. О дне нашего приезда не знал никто, хотя отец помнил день моего освобождения. Он знал также и то, что у меня будут поручения из тюрьмы на свободу, а исполнение их – святая обязанность порядочного человека. А вот какое время у меня займет выполнение этих поручений, он не знал, но был спокоен, ведь со мной была мать. Мама не стала давать телеграмму, так как время, которое мы должны были провести в пути, было меньше суток, а как часто бывало в то время, люди давали телеграмму и, уже приехав на место, получали эту самую телеграмму через несколько дней. Так что нас никто не встречал, багажа у нас не было, если не считать симпатичного маминого ридикюля и дорожной сумки, этого неизменного атрибута пассажиров отечественной железной дороги. Вот так, налегке, мы приехали, взяли на привокзальной площади такси и уже через десять минут были дома.
Несколько дней я не выходил на улицу. Днем приходили люди, поздравляли меня и моих родителей с освобождением (а в то время было принято поздравлять с этим событием), а вечером я был целиком во власти матери и бабушки, и, пока я не удовлетворил их любопытство относительно моей одиссеи, многое, естественно, в ней опустив, они меня от себя не отпустили.
Мне кажется, мало найдется сейчас людей, которые любили бы свой город так, как люблю его я. У каждого столичного города есть своя история, своя летопись, которая выражает его сущность и своеобразие. И хотя, на взгляд нынешнего обывателя, трудно представить себе Махачкалу того времени столицей, все же это была столица. А вот границы ее были действительно невелики, если не сказать – крохотны. На юге города был рынок, на севере – русское кладбище, на востоке и западе – море и горы, как и сейчас. На манер столичных европейских городов Махачкала тоже имела излюбленные места прогулок и отдыха, забав и развлечений. Летом, когда солнце заходило где-то вдали, за величественной цепью гор, и сумерки медленно окутывали город, когда уже не было видно ни блеска, ни серебряного перелива волн седого Каспия, ни монолита не менее величественной, чем Главный Кавказский хребет, горы Тарки-Тау, когда взошедшая луна заливала улицы белым, холодным сиянием, зажигались огни моей родной Махачкалы. И почти весь город выходил к морю, спасаясь от вечерней духоты. Эта благодать, посланная Всевышним, и сейчас радует и ублажает горожан. В наше время, когда люди живут на одной лестничной площадке и не знают друг друга или чураются соседей по каким-то причинам, трудно, конечно, понять ту душевную простоту и непринужденность, стремление к общению и знакомству людей того поколения. Вся Буйнакская улица была буквально заполнена народом. В ту и другую сторону медленно и чинно, не подавая повода для злословия, прохаживались влюбленные пары. С гордостью и достоинством, приличествующими горянке, идя под руку со своим мужем, не менее важным и гордым своей половиной, а другой держа за руку свое маленькое чадо, прогуливались дамы с мужьями. Достаточно было увидеть человека несколько раз, чтобы при очередной встрече поздороваться с ним как со старым знакомым и даже поинтересоваться его настроением и здоровьем, – и это ни в коей мере не считалось фамильярностью, напротив, было признаком хорошего тона. До глубокой ночи слышны были музыка и веселье, доносившиеся с танцевальной площадки, которая находилась на Приморском бульваре – там, где сейчас памятник Гамзату Цадасе. Освещение города, конечно, оставляло желать лучшего, но на бульваре было светло как днем. Что замечательно, так это что и милиции почти не было видно, да она и не нужна была, по большому счету. Редко происходили какие-либо нарушения, в основном, конечно, это были драки. Но как только начиналась драка, дерущихся разнимали и напоминали о том, где они могут оказаться, если не прекратят свое занятие. Ну а что касается моря, то как днем, так и ночью здесь загорали, купались или сидели на скалах влюбленные пары, глядя на волны, которые, мерно вздымаясь, отливали то изумрудом, то всеми цветами и оттенками опала, а на горизонте мерцали огни идущего в порт корабля. Днем помимо моря от летнего зноя и духоты люди спасались в Вейнерском саду. До революции сад принадлежал баварцу Вейнеру. В глухой и темной провинции, коей считалась Махачкала конца XIX века, он приобрел некоторую недвижимость, которая, надо отдать ему должное, способствовала развитию культуры и просвещения в городе, – это были сад и пивоваренный завод на его территории. С установлением советской власти всю недвижимость Вейнера конфисковали, а самого его расстреляли как врага народа. На территории этого великолепного сада находился питомник, а на границе с этим морем зелени и благоухания стоял пивоваренный завод. Мало кто знает из махачкалинцев, что со дня его пуска, а было это в конце XIX века, завод целое столетие выпускал настоящее баварское пиво.
Вейнера расстреляли, но у него оставались жена и дочь. Обе эти женщины ничем, кроме благотворительности, не занимались и никакой собственностью не владели. Видимо, поэтому власть оставила их в покое. Когда же после своих кровавых дел большевики решили попотчевать себя пивом, оказалось, что оно совсем не то, какое варили при Вейнере. Вот тогда и вспомнили о жене и дочери человека, которого они без всяких на то причин лишили жизни. Но обе женщины наотрез отказались выдать секрет изготовления пива. Искушенные в подобного рода нюансах коммунисты поняли, что силой и угрозой здесь ничего не добьешься, и пригласили их на работу. Таким образом, каждый день утром эти две женщины приходили на завод, составляли нужную пропорцию компонентов для изготовления пива и уходили, чтобы прийти на следующее утро.
Когда жена и дочь Вейнера умерли, они унесли с собой в могилу и рецепт изготовления баварского пива, которым так славилась Махачкала.
Огромная территория Вейнерского сада могла бы вместить всех горожан, желающих отдохнуть в его чудных аллеях, в тени и прохладе его вековых деревьев. Трава здесь была по пояс. За исключением некоторых детских конструкций, на территории сада не было никаких сооружений, и весь сад был вотчиной отдыхающих. В основном сюда приходили семьями. Брали с собой еду на целый день и располагались на траве под сенью какого-нибудь тенистого дерева. Ну и детворе тоже было где разгуляться, это был их земной рай.
Много лет тому назад я смотрел по телевизору юбилейный вечер Юрия Никулина, трансляция шла из цирка на Цветном бульваре, а вспомнил я об этом вот почему. Оказывается, как рассказывал Юрий Владимирович, во время войны цирк был эвакуирован в Махачкалу. Голодные и измученные артисты прибыли в город, а лучшего места для отдыха после всех дорожных перипетий, чем Вейнерский сад, трудно было найти. Поэтому им и посоветовали отдохнуть в саду, пока не решат, куда их поселить. Так вот, еле держась на ногах, уставшие люди стали искать место для отдыха, как вдруг подошли несколько человек и пригласили разделить с ними трапезу. Отказаться значило бы обидеть людей, а о том, что такое обида для кавказца, они имели некоторое представление, поэтому решили принять предложение. Хотя большинство труппы составляли молодые и красивые девушки, все же они поняли, что их пригласили по законам гостеприимства и обычаям страны гор, и, надо сказать, они поступили правильно. Не успели они присесть за импровизированный стол, как люди, узнав, что это эвакуированные артисты из Москвы, стали им нести разнообразную еду, хотя особой необходимости в этом не было. Но отказать было невозможно. Их приглашали в гости, старались хоть как-то помочь – в общем, люди к ним не были безучастны.
Артистам еще и дали продукты с собой и проводили их до гостиницы. И, как вспоминал Никулин, не только ему, но и всем артистам тогда впервые довелось попробовать черную икру. И пока они жили в Махачкале, они непременно приходили в парк, где со многими местными жителями познакомились и подружились.
В городе были два кинотеатра: «Темп» и «Комсомолец». Каждый кинотеатр имел два зала и еще летний кинозал. Иногда было интересно посмотреть по сторонам во время демонстрации фильма. На заборе, на деревьях, на будке киномеханика – всюду, откуда только можно было смотреть, сидели мальчишки и смотрели на экран, это было верхом удовольствия для них. Но главным культурным центром был, конечно, махачкалинский Русский драматический театр. К сожалению, интеллигенции на спектаклях почти не было, так как в то время она почти вся была уничтожена большевиками, так же как и во всей стране.
Что касается молодежи, то она, как и во все времена, была легкомысленной и беззаботной. Город делился на отдельные районы, но не в административном плане, естественно, в Махачкале тогда районов не было вообще. Молодежными районами были: «портовские», «Десятка» (по Буйнакской улице), Гургул-аул (тупики в квадрате улицы 26 Бакинских Комиссаров), Грозненский, Батырая, городок нефтяников, поселок рыбников, 4-й и 5-й поселки, поселок Тарки. Их границы нельзя было определить с точностью, равно как и отдать пальму первенства какому-то из этих районов. Между ними постоянно происходили битвы, другое слово я затрудняюсь подобрать, шли не только квартал на квартал, улица на улицу, но и район на район.
Надо было видеть, как, с каким апломбом приходили представители одной из противоборствующих сторон в другой район и вызывали противника на драку. Перед дракой они вели переговоры: о количестве бойцов, о виде оружия (под словом «оружие» имелись в виду велосипедные цепи, дубинки, иногда арматура) и о месте встречи. Обычно встреча происходила в питомнике, близ 5-го поселка (сейчас поселок весь застроен домами). В массовых драках я никогда не принимал участия, так как для такого ответственного боя выбирались здоровые, сильные и крепкие ребята. Я же отличался выносливостью и настырностью, но этого для драки было мало. Но я всегда присутствовал на таких побоищах. Вот как это происходило. На день битвы в городе объявлялось перемирие, то есть любой молодой человек мог зайти в чужой район, и на него никто не смел поднять руку. С самого утра вся молодежь города тянулась к месту сбора, чтобы успеть к намеченному часу. И вот представьте себе – огромная поляна, на которой с обеих сторон стоят примерно по сто, а иногда и поболее молодых, атлетического вида ребят, сжимающих что-то в руках. Они ждали (рефери всегда выбирали из взрослых, обычно сидевших и всеми уважаемых людей), и когда команда звучала, то обе стороны устремлялись друг на друга с громкими криками гладиаторов, идущих на смерть. Картина, уверяю вас, была не для слабонервных. Основные правила были почти всегда одинаковы: ножи не иметь, лежачих не бить и т. д. Время битвы также определялось заранее – час или полтора. По истечении назначенного времени велся подсчет. Та из сторон, у которой больше людей оставалось стоять на ногах, была победителем, а значит, и район их считался самым крутым, как сейчас принято говорить. В общем, «весело» жила молодежь того времени. Иногда были драки один на один, но происходили они только на горе Тарки-Тау. Так уж повелось, а вот откуда – не знаю. По вечерам в городе, чуть ли не до утра, почти на каждом углу ребята играли на гитарах и пели, резались в нарды, иногда курили анашу и пили сухое вино. Можно было ночью спокойно идти с девушкой, зная заранее, что никто не посмеет к вам пристать. Даже если кто-то и имел какие-то претензии к парню, он обязательно должен был дождаться, когда тот проводит девушку домой. Ночью почти все набережные города были усеяны парочками – как грибами после дождя, никому и в голову не могло прийти их потревожить.
Глава 2
Нравы моего города
Есть люди, которые остаются честными из страха перед законом, но есть и такие, которые честны по природе, на мой взгляд, мои земляки принадлежат ко вторым. Как бы ни было тяжело людям жить после войны, все же детей своих они старались воспитывать честными и порядочными. Мне кажется, что из десяти заповедей, посланных нам Всевышним, в Дагестане на первом месте стояла – не укради. После войны пацанва, будем так говорить, подворовывала, не без этого, но с возрастом все это уходило, и лишь немногие, кому на роду, видно, было написано воровать, занимались подобным ремеслом. И среди этих немногих, к сожалению, был и я и мои друзья.
Мало кто знает, что «воровская Махачкала» того времени была в немалом авторитете среди признанных блатными российских городов – такими, как Ростов, Москва, Баку, Одесса и прочие. С ней считались, и уж на задворках «блатной империи России» она не была, это уж точно. Хотя, если брать в соотношении, то меньше всего так называемых воров в законе было, наверное, в Махачкале, но зато это была, безусловно, воровская элита, которую знали далеко за пределами города. Достаточно назвать несколько имен: Паша, Гаджи (Халил), Мухтар (Джибин), Нави.
У наших евреев (татов) самая святая клятва – «папа муно». Так вот, когда они хотели показать значимость своей клятвы, они говорили «Нави муно». Нави по национальности был еврей, его именем и клялись евреи. Какими же качествами должен был обладать человек, чтобы целая нация клялась его именем. Воровская профессия у него была – карманник. Возвращался он однажды в воскресный день из Дербента, у него в автобусе пошла горлом кровь, Нави был чахоточником, – так и умер, не доехав до Махачкалы.
Паша по профессии был тоже карманником, да к тому же еще и игроком. В «третьими» (самая сложная воровская игра в карты) равных ему не было не только в Махачкале, но и почти по всему Северу, за исключением Монгола и Хирурга. Но жить на свободе одной игрой вор не имеет права, ибо тогда он уже им не будет. Он обязательно должен еще и воровать, это незыблемый воровской закон. Кстати, и карманником Паша был незаурядным. Мы жили через забор, на улице Ермошкиной, и когда я родился, то из роддома вынес меня именно он, ведь отец мой сидел – это мне уже потом рассказали.
Гаджи (Халил) прошел на Севере сучьи войны, в крытых тюрьмах ломки и подписки и нигде не сломался, везде на Севере его уважали и знали, так же как и Мухтара (Джибина). Очевидцы рассказывали, как они вдвоем целый барак блядей вырезали, сами, конечно, тоже пострадали, но выжили. У Гаджи (Халила) был младший брат Арслан, правда, в законе он не был, но был удостоен многих воровских привилегий и по праву пользовался ими. Ему тоже пришлось немало отсидеть, о нем даже в одной из своих песен упоминает Высоцкий как о достойном каторжанине, вот слова этой песни: «А через стенку сидит (Халил) Руслан, а там, где он, всегда ништяк, всегда житуха». Правда, Высоцкий называл Арслана Русланом – так, видно, было созвучней.
Да, вот еще что хотелось бы отметить: после смерти последнего вора у нас в Махачкале, где-то в конце 60-х годов, больше тридцати лет не было воров. Что же касается карманников, то Махачкала в этом отношении никому не уступала. Эту воровскую профессию, кроме как иллюзионом, другим словом не назовешь, и у нас в городе были такие иллюзионисты. Мало того, об их мастерстве ходили легенды, но об этом в следующей главе. А сейчас я бы хотел рассказать немного о правосудии того времени, при этом сделать некоторый акцент на милицию и уголовный розыск.
Я вообще не представлял жизни без милиции, так же как и она почти полвека не представляла ее без меня и мне подобных. Пытаясь быть объективным, я постараюсь кое-что воскресить в памяти из прошлого. К сожалению, у меня не было доступа к архивам МВД, иначе читатель узнал бы куда более интересные истории, да и самому мне было бы любопытно. Но, увы, может, после выхода этой книги у меня появится такая возможность, а пока приходится писать по памяти, которая, хвала Всевышнему, подводила меня в жизни очень редко, если не сказать не подводила вообще.
Во всей Махачкале работал один горотдел милиции, находился он на Пушкинской, 25. Районов тогда не было, а «гоношились» еще маленькие отделения: водное (в порту), 1-е впервой Махачкале, 2-е в 5-м поселке и 3-е на месте нынешнего суда. В то время, если мне память не изменяет, начальником горотдела был полковник Лавров, его заместителем – Анохин, а начальником уголовного розыска – Багдасаров, дядя Яша. Частенько мне приходилось бывать в этом самом горотделе, потому и запомнил их всех, особенно начальника уголовного розыска. Сейчас родители пугают маленьких детей, если они не слушаются, чертом, домовым или, на худой конец, Бабой-ягой. Нас же, маленьких, пугали милиционером, и это моментально давало свои результаты. То есть дети милицию боялись, ну а взрослые ее уважали. И уважать было за что. Надо было столько натворить дел, набедокурить и так надоесть, чтобы тебя внаглую посадили, да и то в самой милиции это считалось верхом неприличия. И уже сами работники смотрели на такого человека косо, ожидая от него чего угодно. А о том, чтобы подсунуть что-то в карман, не было и речи. В милиции того времени существовали свои этика и мораль: либо брали взятку, либо предупреждали: я неподкупен, бойся. Таких, честно говоря, было большинство. И уж если сажали, то ты знал, что преступил закон, а потому и не было обидно сидеть. По большому счету, работа милиции была – ловить, наше же дело было – не попадаться, даже такая поговорка бытовала: «Не тот вор, кто ворует, а тот, кто не попадается». К сожалению, в наше время всеобщего беспредела и хаоса даже старые поговорки такого рода, увы, неактуальны. Ничего не было удивительного в том, что начальник уголовного розыска или его заместитель могли смело прийти на любую воровскую хазу и обратиться за помощью, и редко когда им отказывали. Равно как и воры иногда обращались за помощью к ним, в основном, конечно, это были просьбы о собратьях, попавших в беду. И в действиях тех и других не было ничего удивительного и предосудительного, потому что никто не переходил рамки дозволенного. Если это не противоречило канонам общества, к которому принадлежали те и другие, почему не помочь. Да и, ко всему прочему, все это делалось открыто и честно. А разве можно не уважать партнера, если он честен? Вот так и жили в тесном соприкосновении милиция и преступный мир, взаимно уважая друг друга (если их поступки заслуживали такового), не считая того времени, когда одни ловили, а другие старались не попасться. И это тесное соприкосновение давало огромный опыт как уголовному розыску, так и милиции в целом. То есть я хочу сказать, что, хорошо зная нравы и обычаи преступного мира, манеру, характер и специфику «работы» той или иной воровской профессии, будь то карманник или домушник, медвежатник или майданщик, сотрудники очень редко ошибались в выборе метода раскрытия преступления. А опыт сей можно было почерпнуть, лишь контактируя непосредственно, естественно, в хорошем смысле этого слова. Огонь и вода тоже могут быть союзниками, пример тому – гидроэлектростанция. Конечно, без ренегатов тоже не обходилось, но этот фактор уже можно отнести к производственному браку. Если, например, где-то происходило убийство, а для Махачкалы это было огромное ЧП вто время, то никогда не собирали всех судимых, чтобы с утра и до вечера держать их во дворах милиции, да еще задействуя при этом почти весь штат уголовного розыска. Такой подход к делу говорит не только о недостатке профессионализма, но и о самом что ни на есть попустительстве и никчемном отношении работников уголовного розыска к своей работе. А наоборот, обладая все тем же опытом общения, тогда подходили к делу логически, то есть путем исключения, ибо опираться стоит лишь на знание, которое подскажет путь к истине. Зубры уголовного розыска знали, что преступный мир огромен, это целое государство со своей конституцией, своими канонами, царями и их подданными. И то, что было приемлемо для одних, для других – строгое табу, то, что могут сделать одни, другим не под силу. Так что, если даже в районе или просто в доме жило много судимых людей, то из них порой никого и не трогали, зная почти наверняка, что данное преступление к ним никакого отношения не имеет. Надо ли повторяться, говоря, что такой подход к делу был абсолютно выгоден обеим сторонам. Молодые сотрудники смотрели на своих старших товарищей, брали с них пример в полном смысле этого слова, а потому это была организация, где каждый думал не о том, как бы подкинуть сверток с анашой какому-нибудь бедолаге, а как, опираясь на опыт старших, по возможности правильно подойти к делу. Каждый старался внести свою коррективу, а значит, и свою лепту в общее дело. Вот почему это была организация, которую боялись одни, но за деловитость уважали другие. Ведь главный бич для преступного мира – беспредел. Он исключает или почти исключает такие понятия, как благородство и честность, что, думаю, весьма немаловажно для нашего времени. Видя благородство и честность со стороны людей вне закона, то есть с нашей стороны, менты порой тоже проявляли благородство и порядочность, человечность и сострадание, и не отметить это обстоятельство, мне кажется, было бы несправедливо. Хотя бы даже по отношению к тем, о которых не грех вспомнить добрым словом. К сожалению, то время кануло в прошлое, и сейчас уже трудно встретить что-либо подобное. Вот один из характерных примеров, хотя, откровенно говоря, в жизни моей жиганской такой пример был единственным. Было это очень давно, в столице нашей златоглавой, этак годов тридцать назад. Гоняли мы тогда бригадой «резину»: от «Детского мира» идо самого ресторана «Арбатский». По ходу, «на трассе», у нас все было увязано. Довольно часто встречался нам один ширмач, он гонял марку постоянно один, мы это заметили, но к нам он никогда не подходил, и мы держались в стороне до поры до времени. Был он, видно, таким же любителем пива, как и мы, потому что в пивбаре «Жигули», что находился тогда в переулке за «Валдаем», мы его частенько видели. Как-то так получилось, что мы познакомились «по ходу пьесы», а среди крадунов так часто бывает, и в конце концов сошлись. Кликали ширмача Тушканчик, но настоящего его имени мы так и не узнали. Сам по себе он был молчуном, но плохо втыкал, а главное – кореша в беде никогда не оставлял. И вот однажды, а в то время Тушканчик уже месяца три работал с нами, получает от сестры из Сибири телеграмму о том, что она в тяжелом состоянии. И вот когда он собрался поехать к ней, нам дает наколку один старый домушник на дачу одного жирного бобра с условием, что с нами же пойдет на дело. Предложение со всех сторон было выгодным. Во-первых, сулило нам неплохой барыш, а во-вторых, накольщик все же шел с нами на дело, а это обстоятельство вселяло в нас надежду на безопасность, так как скурвленный, по нашей логике, сам в деле обычно не участвует. Но мы, к сожалению или к счастью – не знаю, просчитались. При обсуждении, принять или не принять предложение, Тушканчик молчал, а вот когда спросили его мнение, он сослался на какие-то крайне неотложные дела и неожиданно покинул хазу, сказав, что одобрит любое наше решение и скоро вернется. Мы, естественно, были в некотором недоумении, но тормозить его не стали, он еще ни разу не дал нам повод думать о нем плохо. Это прихоть, мало ли, подумали мы и продолжили обсуждение. В конце концов решились идти на это дело. Но прошел уже целый день, а Тушканчика все не было, мы уже стали беспокоиться, как вдруг услышали звонок в дверь. Кроме Тушканчика, никто не знал эту хазу, и мы никого не ждали, но это был не Тушканчик, а какой-то оголец, лет десяти-двенадцати. Он протянул нам конверт, сказав: «Это вам», и убежал. В конверте оказалась маленькая записка, вот ее содержание: «Бог вам в помощь, и не поминайте лихом. Тушканчик», но чуть ниже был постскриптум: «Выгляните в окно». Мы кинулись к окну. Напротив нашего дома стоял «Москвич», капот был открыт, и в моторе ковырялся водитель. Возле машины стоял офицер милиции, звезд на погонах было не разобрать, и не торопясь, видно, что-то объяснял шоферу, который успевал и копаться в машине, и, подняв иногда голову, слушать, что ему говорят. Этим офицером был Тушканчик. Если бы рядом разорвался боевой снаряд, я думаю, эффект не был бы таким, каким он был в тот момент, когда эта картина предстала перед нами. Мы стояли как парализованные, с выпученными, как у молодых бычков, глазами до тех пор, пока водитель не закрыл капот и машина не тронулась с места, увозя нашего бывшего кореша в неизвестность. Он даже напоследок не помахал нам рукой. Мы были в шоке довольно долго, но, как говорил все тот же ветхозаветный еврей, все проходит, и шок тоже прошел. Ни я, ни мои друзья никак не могли понять, в чем дело. И лишь годы спустя я понял хитрый ход легавых, да, им ума и профессионализма, конечно, было не занимать. МУР всегда был конторой серьезной, и с этим заведением все считались. А дело было, видно, в том, что им, вероятно, нужен был кто-то из старых и авторитетных воров. Войти в воровскую среду дилетанту практически невозможно, а менту тем более. Это только в кино показывают – сказки наподобие «Черной кошки». Ну а нам, молодым крадунам, Тушканчик смог промести пургу, мы ее проглотили, хотя он и был где-то нашим ровесником. Ну а с нами ему были открыты двери любых воровских хаз и «малин», ибо нас там знали каждого чуть ли не с пеленок. Это негативная сторона истории. Что же касается позитивной стороны, то выходит следующее. Видно, выполнив свое задание, мент уже собрался кануть в небытие, как читатель помнит наверное, сославшись на телеграмму от больной сестры, как вдруг увидел провокатора, который пришел дать нам наколку. Видно, эта сука не знала Тушканчика, но зато он его хорошо знал. И вот, помня наше простое, доброе жиганское отношение к себе, нашу честность и порядочность, он решил отплатить нам той же монетой, ответив таким оригинальным способом, что у некоторых чуть не отнялся дар речи. Вообще, честно говоря, муровцы в то время были большие оригиналы буквально во всем, что касалось их профессии. О том, почему я пришел к такому выводу, читатель найдет ответ позже на страницах этой книги. Неясно мне осталось лишь одно – зачем было посылать к нам этого перевертыша? Ведь если надо было, они и так могли в любое время любого из нас пригасить. В тот же день мы поставили в курс воров о случившемся и затаились, как кроты, а когда прошло некоторое время, мы разыскали эту старую падаль и разобрались с ним, как у нас поступали с такими, чтобы он уже никогда не смог давать такого рода наколки никому. Но это уже другая история.
Глава 3
Любовь
Еще в дороге мать отдала мне письмо от Валеры, которое пришло почти месяц назад домой. Находился он в городке Наур (Ингушетия). Писал, что все у него хорошо, просил не беспокоиться, тем более что оставалось ему до свободы три месяца. Как только я приехал домой, тут же написал ему ответное письмо, пообещав приехать к его освобождению. Благо было недалеко, да и я успел бы к этому времени подсобрать кое-что из мануфты, подумалось мне. Ну а мама по приезде тут же послала ему посылку, которую принимали только по паспорту, а у меня его еще не было.
Преступный мир того времени был почти всегда на высоте, так что, когда освобождался достойный человек, независимо от возраста, а тем более если его профессия в преступном мире – воровство, его всегда встречали как и подобает: давали, а вернее, выделяли из общака деньги на первое время, чтобы можно было немного отдохнуть от тюремных тягот, опять-таки не рискуя потерять свободу. Так что до Нового года я мог спокойно прийти в себя, отдохнуть, чему не преминул предаться со всем пылом, свойственным людям моего возраста. Говорят, с кем встретишь Новый год, с тем и проведешь его, и мне довелось убедиться в правоте народной мудрости, когда наконец праздник наступил.
Была у моей мамы самая близкая подруга, они вместе учились в молодости, вместе воевали, вместе и работали после войны. Считайте, что примерно в одно время они и родили своих детей, правда, я был на три месяца моложе Оли. Всегда наши семьи встречали Новый год вместе, не был исключением и этот Новый год, с той лишь разницей, что предыдущие пять лет меня с ними не было. Из двенадцатилетней девчушки, какой я запомнил Олю, она превратилась в красивую и статную девушку. Мое общение с женским полом, по сути, ограничивалось мамой и бабушкой. В детстве мы с мамой часто ходили к Симе Семеновне, и тогда маленькая Оля была моим постоянным партнером в разных играх и забавах, но сейчас все это казалось каким-то сказочным сном. А если учесть, что переход из детства в юность я совершил в заключении, где почти не имел времени для передышек, чтобы хоть немного помечтать на этот счет, то, надо полагать, в юной фее я увидел божественное создание. Как она была хороша в своем белом бальном платье! Я же сидел как истукан, не смея поднять голову, уткнувшись носом в тарелку. Если бы до этого мне кто-нибудь сказал, что я окажусь в таком положении, я бы рассмеялся ему в лицо, сейчас же я не узнавал самого себя. Уже несколько раз в жизни мне приходилось делать над собой усилия и сдерживать свои чувства, сейчас же оно навалилось на меня как медведь, зажав со всех сторон, только лишь не кусая, и я даже не знал, как оно называется, ибо никогда не испытывал еще ничего подобного, и я, естественно, не знал, как мне поступать. Конечно, за всем этим наблюдали наши матери, а когда они поняли, в чем дело, пришли мне на помощь. Нас по очереди пригласили в другую комнату и оставили наедине. Каким бы шумным и веселым ни было застолье за стеной, мне все же казалось, что стук моего сердца слышен далеко вокруг. Как ни странно, но Всевышний наделил женщину храбростью и решительностью, которые необходимы именно тогда, когда мужчина, наоборот, их теряет. Обладая врожденным тактом, Оля повела себя так, что через несколько минут мы оба смеялись, вспоминая что-то забавное из нашего не такого уж и далекого детства, а вспоминать, оказывается, было что. Женщины, ко всему прочему, обладают неоценимым преимуществом перед мужчинами – они умеют хорошо скрывать свое волнение. Потихоньку я раскрепостился и стал приходить в себя, когда же окончательно взял себя в руки, чтобы по возможности лучше разглядеть подружку моего детства, мы уже сидели за общим столом друг против друга. Напротив меня сидела очаровательная шатенка, с черными выразительными глазами, со сдержанной и милой улыбкой на устах. Ее волнистые волосы ниспадали на плечи, на ней было белое как снег бальное платье. Это все, что я запомнил, и, думаю, нетрудно догадаться, что все это свело меня с ума в тот же вечер, вернее, в новогоднюю ночь. Я влюбился. Хочу заметить, что нравы того времени были таковы, что ставили массу препятствий перед юношей, который хотел поухаживать за девушкой. Да и воспитывались мы в строгом благонравии, так что, будь то бандит, вор или даже убийца, границы дозволенного он не переступал никогда. Родная мать могла проклясть и выгнать из дому сына, если он, не дай бог, обидел девушку. Когда мы заходили к друзьям, у которых были либо молодые жены, либо молоденькие сестренки, головы наши были постоянно опущены, если они находились рядом. Так что в нравственном плане наше воспитание было на высоте, и это трудно оспаривать даже по прошествии сорока лет. И хотя Оля была наполовину еврейка, наполовину русская, это в принципе ничего не меняло, ибо в Дагестане не знали, что такое национальность. Все жили по одним нравственным законам, и придерживались их тоже все без исключения. Преимущество же мое, дававшее мне право на некоторые льготы в плане ухаживания за девушкой, было в том, что выросли мы с Олей почти рядом, матери наши были ближе родных сестер. А главное – Сима Семеновна любила меня как сына и также верила мне. Естественно, я не преминул воспользоваться своим положением и, Бог тому свидетель, ни разу не дал даже малейшего повода для сомнений в моей порядочности. Каждое воскресенье мы проводили вместе целый вечер. Ходили в кино, гуляли по бульварам, сидели у моря, наслаждаясь прохладой и уединением. Это было незабываемо, и много позже, сидя в одиночных камерах, я так ясно все представлял себе, что предо мною оживали картины этого небольшого отрезка времени, когда я был счастлив.
Так почти незаметно пролетели три месяца, приближались два важных для меня события: это освобождение Валеры и буквально через несколько дней должен был наступить день рождения моей принцессы.
За Харитошей мы поехали почти всей бригадой, дома остался только старый Чует. Воровское братство, как я писал, было дружно и свято, достаточно было моего рассказа о наших злоключениях, и все уже считали Валеру своим братом. Так что встретили мы его и привезли в Махачкалу, как и подобает, чисто по-жигански, а родители мои отнеслись к нему как к родному сыну, равно как и Оля тут же признала в нем брата. Надо отдать должное моему корешу, он заслуживал уважения и внимания. В общем, считайте, весь март мы кайфовали, а в начале апреля проводили Харитошу домой. Выглядел он уже как новый рубль, при полном прикиде, отдохнувший и довольный. Мы даже о его бабушке не забыли, такой огромный платок ей купили, что, если его разрезать, запросто хватило бы четырем женщинам. Я обещал, что летом, даст Бог, приеду с корешами в златоглавую, и, передав привет нашим товарищам, мы простились как родные братья. И уже через несколько минут паровоз, тяжело пыхтя и выпуская тучи пара, увозил моего кореша домой.
В моем повествовании постоянно приходится нарушать хронологию, для того чтобы объяснить читателю ту или иную ситуацию: нравы, быт как преступного мира, так и общества в целом, да и массу других деталей, без которых очень трудно будет понять отдельные главы этой книги. Поэтому я просил бы читателя быть немного терпеливым.
В те времена, о которых я пишу, в заключении молодежь делала себе татуировки. Это считалось признаком хорошего тона у малолеток, особенно в ходу была решетка, переплетенная колючей проволокой, за нее ухватились две руки в кандалах, на этом фоне роза и надпись: «Цени любовь и дорожи свободой». Рисунок был впечатляющий, да и надпись нравилась юным зекам, ведь, безусловно, кто-то в этом возрасте уже успел кого-то полюбить, а тут нежданно-негаданно – тюрьма, как не сокрушаться и не проклинать всех и вся, кроме конечного, истинного виновника своих бед и страданий – самого себя. И все это потому, что в этом возрасте человек еще почти не способен анализировать свои поступки, а тем более делать соответствующие выводы из свалившегося на него горя. А ведь именно в этом возрасте молодежь должна понимать настоящее значение таких слов, как эти, либо кто-то из взрослых должен объяснить им их суть, чтобы впоследствии не знать, что такое тюрьма и вообще преступный мир. Поэтому ценой любви должна быть всегда сама любовь, а она не способна толкнуть на дурной поступок – это аксиома. Что же касается свободы, то ею нужно дорожить всегда и везде ради той же любви, ради самой свободы, как таковой, ради того, чтобы никогда не узнать и не увидеть всю мерзость тюремного бытия, как те, кто завязал в болоте, кто не в силах был совладать с собой перед теми искушениями, которые поначалу жизнь предоставляла нам во всех своих радужных красках, как бы испытывая нас, чтобы затем повергнуть искушенного в земной ад, название которому – тюрьма.
Глава 4
Сема Чуст
К сожалению, сколько помню себя, всегда и везде меня считали лучшим из карманников. Хоть это высказывание звучит не очень-то скромно и, наверно, режет слух любому честному человеку, но было именно так. Я не знаю, откуда взялись у меня такие способности, может, от кого-то из прошлой жизни, но вот откуда пошло мое прозвище, помню хорошо.
Воровали карманники в основном бригадами. То есть собирался коллектив с почти равными способностями в своем ремесле. Основой бригады был втыкала, человек, который умеет лучше других членов данного сообщества извлекать содержимое карманов, сумочек и прочих тайных мест, куда люди обычно прячут деньги, золото и другие ценности. Остальные исполняют функции ставщика, человека, который старается любыми путями подвести объект, чтобы тому, кто втыкает, легче было извлекать содержимое карманов. Далее идет тот, кто на отводе, он старается отвлечь как потерпевшего, так и любого другого, кто слишком любопытен. Ну и, наконец, тот, кто на пропуле, ему втыкалы тихонько передают украденное, чтобы он мог незаметно уйти с ним либо просто отойти в сторону. Все понимают друг друга по взглядам, разговаривают глазами, в «работе» все равны, так же как и в жизни. Единственная и не особо значительная привилегия предоставляется тому, кто водит бригаду, – обычно это человек старше всех по возрасту, опытнее других.
Нас было пятеро, самым младшим был я, все же остальные были самое малое на 15 лет старше меня. Самым старым был Чует – он и водил бригаду. Это был типичный представитель рода иудеев – чуть выше среднего роста, тонкий, но крепкий, черная борода и усы тщательно пострижены. На широком волевом лице с несколько выдающими скулами лежал отпечаток многих страданий, однако глаза под припухшими веками плутовски поблескивали. Но главной особенностью этого человека были его руки, точнее, ладони рук, они были вывернуты почти наоборот, он таким и родился. И вот этими руками он умудрялся вытворять невероятные чудеса – никогда в жизни я не встречал человека, который мог бы сделать что-либо подобное. Это был, пожалуй, своего рода иллюзионист, равных которому я не знал, да и по сей день не знаю, хоть давно порвал со своим воровским прошлым. Как-то раз, еще до того как мы стали вместе красть, он сказал мне: «Ты не по годам способен, Заур, и во многом превосходишь остальных, и я знаю, что говорю тебе это не первый. Но запомни, лишь тогда ты станешь профессионалом, когда сможешь делать то, что своими руками делаю я». Надо учитывать, что воровство считалось одним из доходных «ремесел» того времени, а любой из моих сверстников-«коллег» пытался превзойти другого во всем, что касалось мастерства ловкой добычи денег. И на тот момент, о котором пишу сейчас, мало того что я демонстрировал старым ширмачам свои недюжинные способности, я еще кое в чем умудрился превзойти даже своего учителя. Но для того чтобы тебя считали профессионалом своего дела, этого все же было мало. Нужно было еще и хорошо работать письмом, то есть уметь работать мойкой-лезвием, а это действительно было целое искусство, которое требовало постоянных тренировок. Для того чтобы научить красиво, а главное – незаметно украсть, вешали на чучело колокольчики, чтобы по звону определять нерадивость ученика. Для меня это был уже пройденный этап. Достаточно представить себе несколько такого рода картин, чтобы определить сложность, ловкость и почти ювелирное мастерство работы письмом. Женщины в то время прятали деньги в основном в чулки, затем резинкой их перетягивали, либо в лифчик, это считалось кладовыми за семью печатями. И вот в автобусе или в толпе нужно было так тихо вырезать деньги, чтобы ненароком не задеть тело и чтобы потерпевшая не почувствовала даже малейшего прикосновения, ибо эти места, с позволения сказать, одни из самых интимных у женщин и очень чувствительных. Про мужчин я не говорю. Им вырезали карманы рубашек, брюк, галифе, для ширмачей-писак фантазии не было предела, лишь бы красиво утащить деньги. Думаю, читатель согласится, что умение так ловко орудовать как пальцами рук, так и лезвием дано не каждому, и даже тем, кто обладал этим талантом, все же следовало постоянно учиться, так как каждый раз приходилось совершенствовать свое ремесло. Люди старались прятать свои деньги подальше от воров, а милиция решила ужесточить закон по отношению именно к писакам. За использование лезвия статья 144 уже трактовалась как применение технических средств, давали сразу 4-ю часть, и срок мог быть от 4 до 10 лет. Но и мы не дремали, решив полностью исключить лезвие из своего арсенала, а заменили его монетой. Брали двадцатикопеечную монету, оттачивали полукругом до толщины лезвия и смешивали с остальной мелочью, бросая ее в карман. Работать письмом с лезвием было само по себе сложно, ну а с монетой было еще сложнее и требовало дополнительных навыков. Но зато того, кто владел этим мастерством, уважали и чтили в любой воровской среде, уже не говоря о том, как его почитали «коллеги», – это был профессионал. Далеко за пределами своей вотчины воры знали друг друга, а особенно карманники, потому что, как только начиналась весна, они уезжали на «гастроли» и почти до самой осени странствовали по стране, общаясь друг с другом, узнавая что-то новое и полезное для себя. По приезде в какой-нибудь город, прежде чем идти воровать, они ехали на «малину», чтобы повидать людей, пообщаться, да урок в курс дела поставить, что прибыла бригада ширмачей. Такие «малины» были в каждом городе. В Махачкале, как я писал ранее, это была Биржа, в Нальчике – Колонка, в Грозном – Шидовка, в Пятигорске – Горпост, в Орджоникидзе – Малаканка, в Баку – Кубинка, в Ростове – Вагонка, в Одессе – Молдаванка. В общем, в каждом городе были свои излюбленные места, где собирались и коротали время представители преступного мира.
На этот раз мы прибыли в Пятигорск. Был конец весны, а значит, пора гастролей ширмачей, ведь на Кавказе весна приходит раньше, чем в других регионах страны. А значит, и «работали» ширмачи до лета в этом теплом регионе. В Пятигорске я был впервые. Для нас Пятигорск считался одним из самых богатых городов Союза – в том плане, что приезжали сюда одни толстосумы на отдых, да и жители жили не на зарплату, это были в основном армяне, евреи, ну и, конечно, русские. Долго мы здесь оставаться не могли, ибо в таких денежных метрополиях существовала своего рода очередность. То есть без залетных бригад ни один из таких городов не оставался. Так что, не успев прибыть, мы сразу наведались куда надо и, кого надо увидев, поехали на хазу, где обычно и останавливались залетные ширмачи. Попали мы как с корабля на бал. У одного из крадунов был день рождения. И вот, изрядно повеселившись и немного охмелев, вся братва, которая была в этот день здесь, расположилась полукругом во дворе под цветущими фруктовыми деревьями, от которых исходил такой дивный аромат, что его трудно забыть даже по прошествии почти сорока лет. После обильного застолья, когда оставались одни крадуны, по воровской традиции полагалось всегда перейти к рассказам о новостях, которые происходили в преступном мире последнее время. Здесь обычно были люди почти из всех регионов страны, так что услышать их рассказы было все равно как узнать что-то новое. Ну и, конечно, не обходилось без ставшего уже почти традиционным спора, где лучшие карманники в стране. Кто лучший на то время, когда происходил спор? Если определить сразу лучшего не могли, спор этот всегда можно было разрешить наглядным образом, на следующий день. Благо рефери были все профессионалами, если не сказать больше. Но даже если они признавали чье-либо превосходство, это не давало его обладателю никаких привилегий, кроме, пожалуй, одной, самой, на мой взгляд, важной. О нем, а точнее, о его способностях знали уже далеко за пределами его вотчины, а это, с воровской точки зрения, было очень серьезно, учитывая воровские критерии. В спорах такого рода участвовали урки и те из карманников, кто был постарше, молодежь обычно только слушала. Почти одновременно с нами в Пятигорск из Питера прибыла бригада ширмачей, которую водил Леня Дипломат, все они находились здесь на дне рождения. Я был непьющий и поэтому, изрядно захмелев, сидел почти полулежа, облокотившись о ствол дерева, положив голову на плечо Гундоса (это был младший брат Чуста, но до старшего ему, конечно, было далеко), и немного дремал. Своим чередом шло застолье с тостами и разговорами, но я ничего не слышал, мне хотелось, чтобы меня никто не трогал, чтобы никто не видел, что я пьян и не в состоянии поддерживать разговор. Но, как обычно довольно часто бывает, чего мы очень не желаем, то и происходит. Как я уже сказал, я дремал, покоясь под каким-то душистым деревом, когда неожиданно почувствовал толчок. Это Гундос тормошил меня. Сквозь какую-то пелену я услышал слова Чуста: «Ну как, братишка, согласен?» – «Да», – машинально ответил я, как будто внимательно слушал, а вопрос меня нисколько не удивил. Я постарался вникнуть в суть разговора, но мне это не удавалось. Хочу заметить, что бахвальство, от кого бы оно ни исходило, в таких кругах исключалось, ибо в базаре всегда принимали участие урки, и это налагало свой отпечаток. И поэтому лаконичный и скромный ответ молодого ширмача приняли как приятную воровскую неожиданность. Когда же я пришел в себя, Чует объяснил мне, в чем заключался спор. Хочу также заметить, что Чует был очень знаменит в воровских кругах, способности его были незаурядны, да и прошел он некоторые лагерные этапы своей жизни достойно, всюду, где был, он постоянно общался с урками, никогда ничего лишнего не делал и не говорил. Так что сказанное что-либо таким человеком воспринималось на полном серьезе, тем более что дело касалось той части нашей жизни, с которой он был знаком намного лучше, чем некоторые из присутствующих. А должен был я ни много ни мало на следующий день показать свое мастерство и тем самым удивить и бригаду урок, и не просто удивить, а чтобы и они признали мои способности незаурядными. Надо ли говорить, что я ни на секунду не сомкнул глаз в эту ночь. Задача передо мной стояла не просто трудная. Под утро, проснувшись и видя, что я не сомкнул даже глаз, Сема сказал мне: «Если бы я хоть на секунду сомневался в твоих способностях, я никогда не затеял этот спор. Да ты и сам знаешь себя. Так что вперед, Заур, либо ты будешь сегодня на Олимпе воровской славы, либо о тебе вообще никто не будет знать или будут знать как о болтуне. Сегодня ты поймешь, что для достижения намеченной цели одного упорства, силы воли мало, нужно иногда и рисковать». Сказав все это, Сема (а так звали Чуста) пошел ставить чайник и умываться, а я еще долго кубатурил его слова, но уже на душе было чуть полегче. Многие урки, с кем я был уже знаком, знали, как я прошел малолетку, с какими урками виделся и знался, иначе бы они меня и близко не подпустили. Я отмечал в предыдущих главах, как было строго в воровской среде, после всех этих сучьих войн и последствий после них. Урки уважали меня как молодого крадуна, а это в моем возрасте было совсем немало, так как уважение нужно заслужить, а тем более в такой среде, как воровская. И вдруг из-за пары слов, сказанных спьяну, я мог разом лишиться уважения и тех немногих привилегий со стороны урок, на которые давало право мое маленькое, но достойное прошлое. Так что оснований для переживаний и бессонной ночи у меня было больше чем достаточно. Не знаю, как сейчас, но в то время, о котором я пишу, в Пятигорске в воскресный день все дороги вели к «Людмиле», на базар. С раннего утра и где-то до обеда забитые до предела трамваи, автобусы и частный транспорт устремлялись на базар, чтобы приблизительно в такой же последовательности возвратиться с покупками после обеда. В общем, до вечера движение было подобно движению в муравейнике.
Глава 5
Я Золоторучка
Редко кому оказывалась такая честь – «работать» в одной бригаде с урками, но честь эта могла обернуться для меня позором, и я это прекрасно понимал. Единственно, в чем я был абсолютно уверен, – это в своих способностях, и, уповая на Бога, ранним воскресным утром вышел с урками «на трассу».
Где бы ни была или куда бы ни заходила бригада ширмачей, будь то базар или автобус, магазин или лабаз, карманники всегда держатся особняком, при этом ни на секунду не упуская из виду друг друга, и при первой же необходимости устремляются на помощь подельникам.
Мы стояли у трамвайной остановки, рядом со входом на базар, откуда недавно вышли, когда мимо меня прошел Дипломат, успев бросить мне на ходу фразу: «Фраер в робе, левяк, вторяк, паковал грины, будешь торговать, маякни!» Фраера даже искать глазами не пришлось, он стоял рядом, в сварочном комбинезоне, с пачкой электродов в руке. Меньше минуты мне хватило, чтобы оценить всю сложность ситуации, все было бы ничего, если бы не вторяк. Откуда выкопал Дипломат этого детину, подумалось мне, но в то же мгновение, еще ничего не зная, я маякнул: да. С этого момента вся бригада работала на меня, я втыкал. Из-за поворота показалась глазастая морда трамвая, но, прежде чем он должен был подойти к остановке, объясню, что мне предстояло сделать. Думаю, нетрудно представить себе мужчину, у которого поверх кальсон надеты брюки, а в левом кармане лежит упаковка банковских десятирублевок. Горловина кармана застегнута на булавку, а поверх этих брюк надеты еще одни, видно рабочие, и сверху брезентовый комбинезон. Ко всему прочему, он держал пачку электродов в той руке, где лежали деньги, кстати, он их так и держал, пока мы не разошлись.
Как только подошел трамвай, я вместе с этим фраером поднялся и по дороге промацал его, да так нежно, как, наверно, не снимает жених фату в брачную ночь с невесты. А убедившись, что все так и есть, как сказал Дипломат, я стал «работать». Одна лишь мысль, проскользнув, исчезла тут же: где и как Дипломат мог увидеть все, если мы не выпускали друг друга из поля зрения все утро. И впоследствии, где бы мы ни были вместе, я почему-то так и не спросил его об этом.
Никто, по-моему, еще не объяснил тот феномен, что, когда мозг еще только ищет решение той или иной задачи, руки уже непроизвольно делают то, что в конечном счете и будет единственно правильным решением задачи, которое примет мозг. Так получилось, пожалуй, и в этот раз. Я еще толком даже не мог сообразить, как же я доберусь до этих злосчастных и заветных десятирублевок, но рука моя уже лезла в карман за монетой. Сам я перешел на противоположную сторону от кармана, где лежали эти самые деньги. Затем, достав монету, я отстегнул правую лямку комбинезона, а подол аккуратно опустил. Кореша мои поставили этого фраера так красиво, что он почти не трепыхался, стоял, зажатый со всех сторон, грех было не проявить инициативу и не воспользоваться обстановкой, и я уже весь ушел в «работу», увлекшись ее оригинальностью. Стоял я почти лицом к лицу с фраером, поэтому мне необходимо было быть крайне осторожным, одно мало-мальски неверное движение – и все бы было кончено. Вытянув ладонь и зажав монету между кончиками пальцев, указательным и средним, левой руки, я аккуратно стал срезать пуговицы на ширинке его брюк. А срезав все пуговицы, стал потихоньку просовывать в ширинку пальцы с зажатой на конце монетой, до тех пор пока не дотянулся монетой до левого кармана, вернее, до того, что в нем лежало. Аккуратно сделав надрез вдоль упаковки – настолько, насколько это было возможно, я уже успел ухватиться за кончик упаковки и хотел было уже ее тянуть, как вдруг услышал прямо перед собой: «Да, жарковато сегодня, прямо лето натуральное». Мгновенная реакция вора не заставила себя ждать, я понял, что реплика адресована в мой адрес, ибо по лицу моему пот стекал струями, я на первых порах этого и не заметил, так увлекшись «работой». Но пот мог выдать меня. «Да, – ответил я, уже взяв себя в руки, вытирая ладонью правой руки струйки пота. – Сегодня действительно очень жарко». При этом я даже попробовал улыбнуться. И похоже, это мне неплохо удалось, ибо фраерок успокоился и повернул голову в сторону, давая понять, что больше не желает говорить. Представьте мое положение: левая рука почти до запястья в ширинке у фраера, кончики пальцев этой руки держат упаковку десятирублевок за уголок, а если еще учесть, что половой член у мужчины (прошу прощения за пикантную подробность) – самое чувствительное место, и я, мило улыбаясь этому фраеру, еще и веду с ним какой-никакой диалог, хоть и короткий, то уверен, картина могла бы показаться более чем впечатляющей, если бы, не дай бог, я спалился.
Теперь мне предстоял самый важный этап моего предприятия – извлечь эту упаковку. Как впоследствии рассказывал Дипломат, только привычка к строгой дисциплине в «работе» удерживала его на месте, ибо он не мог никак понять, что я делаю с правой стороны фраера, когда левая сторона, где лежат деньги, была почти свободна. Рука с электродами была не в счет, ее можно было по ходу хоть на голову ему положить, так у нас все было отработано. Был бы на месте моем старый ширмач, это еще можно было бы как-то объяснить своеобразием почерка, например, или еще чем другим. Но я был, с точки зрения старого крадуна, еще слишком молод, чтобы иметь свой почерк, а тем более опыт в таком тонком деле. Но это только лишь так казалось и думалось Дипломату, на самом же деле он, как и многие другие наши собратья, и не только собратья, но и ярые враги, впоследствии поняли, что, касаемо «работы», со мной нужно считаться. Ведь ни в чем никому не уступил бы, о большем из скромности чисто воровской воздержусь. Но уверен и знаю, что многое где-то было записано и запомнилось как в памяти воровской, так и в мусорских архивах о способностях Заура Золоторучки.
Теснее прижавшись к фраеру, помогая себе коленом правой ноги, я потихоньку стал извлекать эту упаковку наружу. Из разреза, то есть из кармана, она вышла нормально, главное было протащить ее, не задев член, это было самое сложное, ибо, как я ранее упоминал, член – самое чувствительное место у мужчины. Но с этой сложной задачей я вроде справился, а вот чтобы вытащить пачку через ширинку, мне пришлось повозиться и немало поволноваться. Но уже за несколько секунд до остановки я пихал пропаль Дипломату и по ходу прочел такое недоумение у него на лице, что для меня это была лучшая из наград за те труды и нервотрепку, которые я испытал. Даже держа пропаль в руках, он все равно не мог понять, как я утащил деньги. Глядя на мой сморщенный лоб, он пытался осмыслить это.
Пуговицу на комбинезоне я не смог застегнуть, вернее, не стал этого делать, чтобы не рисковать. Как только мы вышли, фраер увидел расстегнутую пуговицу и, застегивая ее, решил на всякий случай проверить содержимое левого кармана. Обнаружив пропажу денег, он стал орать что есть мочи, еще даже не понимая и не веря собственным глазам, каким образом могли пропасть деньги, если все запоры на месте. Он даже хотел все свалить на нечистую силу, пока ему в горотделе не объяснили, что, видимо, «работал» профессиональный карманный вор, хотя и сами они до сих пор ни с чем подобным не сталкивались. И все это при том, что в любом большом и малом городе уголовный розыск имел солидный, если не сказать огромный, опыт работы с карманными ворами. То есть я хочу сказать, что любой писака, а, как я упомянул ранее, их было не так уж и много, имел свой, неподражаемый почерк в работе. Это как отпечатки пальцев. Иными словами говоря, глядя на «работу» писаки, работник уголовного розыска, который непосредственно курировал этих «тонких ценителей оригинального», мог точно определить, кто это сделал, но, конечно, только в том случае, если был знаком с этим человеком, а точнее, с его почерком. А узнал я такие подробности от самого начальника уголовного розыска, вернее, он оговорил их в моем присутствии, но кто я, он не знал. Меня не поймали, нет. В тот день мы больше не «работали». Во-первых, мы никогда не жадничали, это одно из золотых воровских правил, а во-вторых, случай был неординарный, мы знали, что уже через час весь угрозыск Пятигорска будет «на трассе» ловить карманников и искать среди них меня. Так и произошло впоследствии, поэтому по дороге домой мы постарались оповестить по возможности как можно больше коллег о том, что может произойти. Это было тоже одно из неотъемлемых воровских правил. Пока мы не пришли домой, все молчали, но главное, конечно, для меня было мнение Дипломата. Это была личность, о которой, я уверен, стоит рассказать подробнее. Во-первых, потому, что это была личность, а во-вторых, читатель еще не раз прочтет это имя по ходу моего повествования. Леня Дипломат был питерским вором, в большом воровском авторитете. На вид ему было чуть больше пятидесяти, высокий, стройный, всегда подтянутый и аккуратный. Это был джентльмен во всем, кроме одного: он был вором, – может быть, это звучит парадоксально, но верно. Он был всегда серьезный, а иногда и довольно хмурый, и весь его вид давал понять окружающим, что человек этот не склонен к шуткам и сантиментам. И лишь глаза, добрые и мягкие, выдавали его простую и отзывчивую душу. Как-то давно от одного старого вора я услышал такое выражение и запомнил его: «дворянин преступного мира», это он говорил о Дипломате. Родился он в Питере еще до революции в дворянской семье, детство провел среди беспризорников Северной столицы и многих других городов Советского Союза. Родителей своих он помнил хорошо, часто в узком воровском кругу с любовью вспоминал о них, при этом поносил на чем свет стоит советскую власть. На его глазах мать и отца забрали в ЧК, и больше он их никогда не увидел. Так что немудрено, что бродяжничество стало его образом жизни, а воровство – профессией.
Уже в 14 лет он сидел за воровство – да еще умудрился в лагере выколоть глаза надзирателю и зарезать одного ренегата, за что, естественно, получил «довесок». А в 20 лет он был признан безоговорочно всеми ворами вором. Впоследствии, так же как и многие его собратья, он прошел все муки тюремного ада: сучьи войны, подписки, ломки. Прошел, естественно, достойно, но без крайней надобности не любил вспоминать об этом этапе своей жизни. Карманником он был незаурядным, как и все, кто были с ним рядом, так что знали его и почитали не только как урку, но и как ширмача. И надо думать, что мне, пацану, видевшему жизнь лишь сквозь колючую проволоку да чугунную решетку, по большому счету, мнение такого человека было небезразлично. Несколько его слов открывали большое воровское будущее для любого, на ком бы он ни остановил свой выбор. Возможно, схожесть наших судеб и сыграла роль в дальнейших наших отношениях, кто его знает.
Еще некоторое время все обедали молча, пока Дипломат не сказал мне: «Ну что, босяк, может, снизойдешь да поведаешь, как умудрился этот паковал утащить, или тебя придется упрашивать?» Упрашивать меня, конечно, не было нужды, я бы сам уже сто раз все рассказал, если бы не воровская скромность, которая, кстати, была позже отмечена урками. Надо ли говорить, что все время, пока мы оставались в Пятигорске, весь город, а точнее, все крадуны только и говорили об этой покупке. Так что, оставаясь с виду скромным и серьезным, я в душе ликовал. Да и друзья мои были горды за меня, особенно Чует. Сейчас, в наше время, не всегда можно понять поступки, эмоции и всякого рода нюансы людей того времени, но все было именно так. Я уже писал ранее, что начальник уголовного розыска, или его заместитель, или еще кто из них могли смело прийти на любую воровскую хазу, и в этом не было ничего удивительного. Не стал исключением и начальник уголовного розыска Пятигорска. Полковник, уже в преклонном возрасте, седой как лунь, высокий и дородный, но с виду шустрый (все называли его дядя Жора), появился на следующий день на той хазе, где мы притухали, и попросил, если можно, показать ему того Золоторучку, который умудрился так обокрасть человека. Имелось в виду – так красиво обокрасть, ибо как потерпевший, так и сами работники уголовного розыска были буквально ошарашены увиденным. Знакомство с начальником уголовного розыска – палка о двух концах. Первое и самое главное – мент теперь тебя будет знать в лицо, да еще какой мент – вся шпана Пятигорска была о нем очень высокого мнения. Братва знала его порядочность и честность по отношению к представителям преступного мира – настолько, насколько может проявить эти качества начальник угро. Ну а второе – какая может быть менту вера? Хотя и в этом плане понять его было можно, ибо он давал присягу. Все это мне, конечно, объяснили, и естественно, ни о каком знакомстве у меня с ним не могло быть и речи, ну а вот кличка Золоторучка так и осталась за мной на всю оставшуюся жизнь, хотя навряд ли кто-то мог догадаться, откуда она пошла, если бы я сам не написал об этом.
Глава 6
Меня разоблачили близкие
Перед отъездом Дипломат сказал мне: «Будешь в Москве, Заур, найдешь меня, я пока там притухаю, буду всегда рад тебя видеть». На том мы и попрощались. После Пятигорска, поколесив по стране еще несколько месяцев, мы все приехали домой в Махачкалу. Если мать я еще мог как-то обмануть относительно цели столь длительного вояжа, то отец не оставил мне на это никаких шансов, рассказав ей, куда я ездил, с кем и для чего. Да и мой вид выдавал меня. Одет я был как юный денди, сын богатых и респектабельных родителей. На указательном пальце левой руки красовалась увесистая золотая печатка в несколько десятков граммов, на руке были золотые часы с золотым браслетом, на шее висел миниатюрный полумесяц на золотой цепочке (кстати, это был подарок одного самаркандского вора). В общем, все, что было на мне, считалось в то время роскошью. Я уже не говорю, сколько денег было у меня в карманах. Да и тряпья я с собой привез немало. Я и раньше уезжал, но больше недели, ну от силы двух, никогда не задерживался, зная нрав своей матери. Но тогда я всегда умудрялся что-то придумать, как-то скрыть все то, что касалось моей жизни вне дома. Здесь же меня не было целых три месяца, да и, честно говоря, я устал лгать и изворачиваться и решил все как есть рассказать матери, приблизительно догадываясь о последствиях. К сожалению, я не намного ошибся. Звонкая пощечина поставила все точки над «и». Мать приказала забрать все, что я привез, и выгнала меня из дома. Для таких, как я, двери всех блатхат и «малин» были всегда открыты настежь, и я поселился на одной хазе в Новом поселке, тогда это был пригород Махачкалы. Дома я появлялся, когда там не было родителей, исключительно лишь для того, чтобы увидеть или, точнее говоря, показаться бабушке на глаза, которая абсолютно не знала и даже не догадывалась ни о чем, думая, что все в семье нормально, – так я умудрялся разыгрывать перед ней спектакли. Мать, конечно, об этом знала и не препятствовала, понимая, что бабушка не должна знать, чем я занимаюсь. (Забегая вперед, скажу, что, когда в очередной раз я сел, еще долго бабушка была в неведении. Но однажды, выпив лишнего, отец сказал ей: «Твой внук вор, за это и сидит в тюрьме». В тот же день она слегла, а через месяц бабушки не стало. Я узнал об этом много позже, а причину ее смерти понял еще позже, но мать моя не простила отцу эту нечаянную реплику.)
Родителей я теперь почти не видел, иногда только мать – и то издали, и не скучал особо, ибо улица стала для меня главным и единственным домом, засосав в свою трясину.
Надо ли говорить, что за время моих странствий не было такого дня, чтобы я не вспомнил о предмете своей любви. Ее-то мне легко удалось обмануть, когда я предстал перед ней, сжимая в руке миниатюрную коробочку с перстнем – это был мой подарок.
Прямо перед отъездом я окончил автошколу и получил водительские права, правда, учиться я не учился, приходил лишь показаться кому нужно, да и то нечасто, но машину я водил и для своих лет знал ее неплохо, этому уж меня отец поднатаскал. Вот и пришла мне в голову мысль сказать, что, пока я не нашел работу, поехал в рейс с одним знакомым, ну и подзаработал немного. Раньше многие так делали, так что в этом ничего ложного усмотреть было нельзя, да и о какой лжи могла идти речь? Причину моего столь долгого молчания она приняла на веру. Тогда я представил себе дальнейшую жизнь: вот так я приезжаю из рейса, меня встречает любимая жена, а чуть позже – еще и с детишками, я рассказываю ей о трудностях дальнего рейса, нежно обнимаю ее в ночной тиши брачного ложа. Она рассказывает о своих переживаниях и волнениях, связанных с моим долгим отсутствием, о детях, еще о чем-то, и под ее приятный и мелодичный голос я засыпаю. А назавтра все начинается сначала. Все меня в этой семейной идиллии устраивало, за исключением работы. Я ни на минуту не мог представить себя в роли работяги, это было выше моих сил, и я тут же отгонял «дурные» мысли. Какое-то время мы так же безмятежно и счастливо проводили свои воскресные дни. Всю неделю Оля училась, а я воровал, но мне удавалось это скрывать. Главное – я боялся, что мать моя придет и скажет все своей подруге, я даже удивлялся, почему до сих пор она не сделала этого. Я, конечно, не мог тогда понять, что у матери моей и в мыслях не могло возникнуть, что я наберусь наглости и предстану перед самыми близкими мне людьми после родителей в таком качестве. Вот так я жил меж молотом и наковальней. Больше всего Олю беспокоило то, что я перестал заходить к ним домой, я ждал ее теперь всегда неподалеку от дома, в сквере. Я уже не помню, что придумывал в свое оправдание, но не заходил, так как боялся того взгляда, той улыбки, которыми меня с детства одаривала ее мать. Я считал ее своей второй матерью и знал, что солгать я не смогу. Не знаю, на что я надеялся, обложив все самое чистое и светлое, что было в моей жизни, ложью, ведь я знал, что рано или поздно все откроется. Но думать об этом не хотел, отгонял от себя эти мысли и довольствовался настоящим – в общем, был я типичным эгоистом, да еще и, мягко выражаясь, лжецом в придачу. Разве мог человек, имеющий такие пороки, надеяться на ответную любовь? Тогда я этого, видимо, не понимал, да и не хотел понять, иначе бы обратился за помощью к матери, а я избегал ее. Шло время, но ложь все же выходит наружу. Я до сих пор поражаюсь, как я мог пренебречь этим ангелом, отказаться от Оли, которая меня так искренне любила. Каким нужно было быть слепцом, чтобы не разглядеть эту чистую, непорочную душу? Но, к сожалению, жизнь не повернешь вспять.
Каким образом Оля узнала обо всем, для меня и по сей день остается загадкой. Да я и не интересовался этим никогда, зная уже и тогда, что «доброжелателей» всегда хватает в этом мире. Всю неделю она не выходила из дома ни в институт, ни куда бы то ни было еще. С каким нетерпением она ждала воскресенья, я узнал позже. Бедная Сима Семеновна, она боялась потревожить ее даже расспросами, ибо дочь ее прямо на глазах превратилась в красивую статую. Вся надежда у этой бедной женщины была на меня, она даже и не подозревала, что я и был причиной всему. Как только наступило это злосчастное воскресенье, которое я на всю жизнь запомнил с тоской и болью в сердце и которое, можно сказать, и определило мою дальнейшую жизнь, вместо Оли в сквер пришла ее мать. Еще издали мы увидели друг друга, ретироваться было поздно, я понял, что произошло самое худшее, и я пошел несмелой походкой навстречу своей судьбе. Сима Семеновна привела меня к себе домой, зашла вместе со мной в Олину комнату и, оставив меня у дверей, удалилась, тихонько прикрыв за собой дверь. Женщины, как правило, умеют сохранять присутствие духа даже в самые сложные минуты жизни. Оля сидела в кресле почти у самого окна. Как только мать закрыла за собой дверь, она встала, подавив в себе какую-то внутреннюю дрожь, я это даже почувствовал, и, не взглянув на меня, медленно подошла к окну. Видно, эти несколько шагов ей были необходимы для того, чтобы собраться с мыслями после всего пережитого ею. После длительной паузы она повернулась. Мы стояли молча, глядя друг другу в глаза, но ее глаза, как два черных бриллианта, пылали таким гневом, таким пламенем, что, казалось, хотели меня испепелить. В них была и любовь и ненависть одновременно. С гордостью оскорбленной царицы, которая заранее прощает оскорбление, зная, что оно не может ее унизить, она сказала мне: «Заур, несмотря ни на что, я люблю тебя, ты это знаешь, и скрывать это было бы глупостью. Ни в помыслах моих, ни в действиях я никогда не солгала тебе, я всегда руководствовалась своими чувствами, а они, как ты знаешь, были всегда чисты и непорочны. Как же ты мог, ты, в чьих жилах течет столько благородной крови, втоптать в грязь нашу любовь? Как ты мог стать вором? Да еще дарить мне ворованные подарки?» Сорвав перстень с пальца левой руки, она, видно, хотела швырнуть его в меня, но затем в замешательстве зажала его так крепко в ладони, что вены взбухли на тыльной ее части, и уже в следующий момент она взяла себя в руки, подошла ко мне и, раскрыв ладонь, медленно подняла голову. Глаза ее, еще несколько минут назад пылавшие огнем, были полны слез. Я был потрясен тем, что произошло, и не мог найти слов в свое оправдание и вообще не знал, что предпринять. Как я очутился на улице и как добрел до места, где жил, сейчас уже не помню. Если бы в бригаде во время «работы» не было бы столь строгих правил, которые запрещали любой кайф, я бы, наверно, либо спился, либо стал наркоманом.
Шло время, а с ним и таяли надежды на то, что наши отношения когда-нибудь возобновятся. Мне уже стало невмоготу жить в одном городе с ней. Как только я оставался один, меня тут же тянуло к дому, где жила Ольга.
Иногда я по нескольку раз в день проезжал мимо ее дома в надежде просто увидеть ее издали, часами прятался возле института и провожал ее глазами, находясь на расстоянии. В общем, я сходил с ума, замкнулся в себе и почти ни с кем не разговаривал. Естественно, так долго продолжаться не могло, и я решил уехать. Несколько дней я раздумывал, написать ей письмо или пойти проститься, и все же не мог собраться с духом, вновь увидеть ее глаза было выше моих сил. Я решил написать ей, ну а текст этого письма, запечатлелся в моей памяти на всю жизнь. Вот оно:
«Мой милый и нежный ангел, любовь моя, здравствуй! Всевышнему, видно, было угодно преподнести мне одно из ангельских своих созданий и зажечь пламень в моем сердце, чтобы затем ввергнуть меня в бездну мук и страданий. Но я не ропщу. Бог всегда знает, что делает, он всегда прав. В жизни моей, даже в детстве и юности, мне ничего не давалось просто так, за все всегда приходилось бороться, сейчас же я опускаю руки, ибо знаю заранее, что потерплю фиаско. Однажды ступив на стезю, по которой я теперь иду, свернуть с нее не могу, это выше моих сил, ну а коль я должен сделать выбор между моим образом жизни и тобой, я выбираю первое. Прости, если можешь, меня за это, ведь я не должен был лгать тебе, но, к сожалению, влюбленные все эгоисты. Думаю, пройдет время, ты поймешь меня и не осудишь. Хочу сказать тебе на прощание, что никогда и никто не будет любить тебя так, как любил тебя я. Когда ты будешь читать эти строки, я уже буду далеко от тебя, но где бы я ни был, если нужна будет моя помощь, я брошу все и приеду. А пока прощай, всех благ тебе земных. Заур».
Написав это послание, я в тот же вечер бросил его в почтовый ящик, который висел у них на воротах, а уже ночью, лежа на верхней полке в купе спального вагона Махачкала-Москва и глядя в ночную мглу, представлял, как утром Оля будет читать мои прощальные строки и, конечно, будет плакать.
Тот, кто лишился сокровища, поступит неразумно, если обернется, чтобы еще раз посмотреть на него.
Часть VI
Моя напарница Ляля
Хайям
- Как нужна для жемчужины полная тьма,
- Так страданья нужны для души и ума.
- Ты лишился всего и душа опустела?
- Эта чаша наполнится снова сама!
Глава 1
Я в Москве
Мы ничего не знаем. Мы считаем себя хозяевами своей жизни. Нам кажется, что мы управляем своей судьбой. Но у каждого удара колокола свое значение на небесах…
Первопрестольная встретила меня морем огней и проливным дождем. Сидя на заднем сиденье такси, я смотрел сквозь пелену запотевших стекол на город, и мне почему-то вспомнилось древнее поверье: во время свадьбы дождь – к долгой и счастливой жизни. Интересно, подумал я, какую жизнь готовит мне судьба-злодейка с красавицей невестой, имя которой Москва. Мне кажется, что тот, кто однажды посетит этот город, долго не захочет с ним расстаться, если только крайняя необходимость не заставит это сделать. Москва во все времена манила и манит к себе всех: авантюристов разного пошиба, студентов и бродяг, артистов и воров. И с уверенностью могу сказать, что на одной шестой части суши второго такого города нет. Первая заповедь «артиста на гастролях», прибывшего в незнакомый город, – найти крышу над головой, но об этом-то как раз я мог не беспокоиться. Уж друзья-то у меня здесь были, да еще какие – каждого из них я мог смело назвать братом. Но не только друзья жили в Москве, здесь жил отец моей матери, мой дед. Знал я и адрес: Арбат, 25, это угол Староконюшенного переулка и Арбата. Звали его Гусейнов Аббас-Али, по профессии был он дамский парикмахер, и, к слову сказать, очень даже неплохой. Навряд ли моя бабушка выжила бы в той далекой и дикой провинции, коей считалась Махачкала того времени, если бы на пути ей не встретился молодой, красивый и богатый турок. Целый квартал на Буйнакской улице в Махачкале, от кинотеатра «Дружба» до гостиницы «Каспий», был его собственностью. На одной стороне улицы делали зеркала, на другой – фаэтоны. Любил он бабушку безумно, признаться, ее было за что любить, а когда они поженились, появилась на свет моя мать. Но дед был, оказывается, страшный бабник, чего бабушка простить ему не могла. И после его очередного романа она выгнала его из дома или сама ушла, точно не знаю. Так что мою мать воспитывала она одна, без чьей-либо помощи. Правда, когда революция добралась до Дагестана, у него все конфисковали, а сам он еле унес ноги. И как ни странно, устроился в Москве. Но, надо отдать ему должное, пока училась моя мать, сначала в техникуме, а затем и в институте, он помогал ей чем мог. Все это я знал, конечно, и раньше, все-таки какой-никакой, а семейный архив у нас был, а это всегда свято. Так вот, когда я пришел домой перед отъездом попрощаться с бабушкой, я сказал, что еду учиться в Москву. Она написала письмо своему бывшему мужу и дала мне его адрес. Письмо это находилось при мне, но я не собирался тут же разыскивать деда, так как бабушка сказала, чтобы я обратился к нему только в случае крайней необходимости. Я не знаю, чем руководствовалась бабушка, говоря мне это, возможно, чрезмерной гордостью своей, возможно, чем-то еще. Но мне и в голову не приходило ослушаться ее, так глубоко я чтил и уважал ее. Естественно, я не знал, что было написано в письме, но догадывался.
Так что таксисту я дал Женькин адрес и уже через полчаса вышел из такси недалеко от метро «Бауманская», а еще через десять минут оказался в братских объятиях своего друга. После освобождения я, естественно, поддерживал постоянную связь с друзьями. А здесь вот свалился как снег на голову, да и, честно сказать, до самого последнего момента и сам не знал, что предприму первым делом в Москве. Лишь только резкая смена обстановки да мерный стук колес поезда внесли некоторую ясность. Но в принципе предупреждать было и необязательно, главное – кореш мой был дома, ну а здесь я был всегда желанным гостем. Всю ночь напролет мы проговорили, даже не заметив, как наступило утро. Наконец-то я выговорился, и от этого на душе стало легче, ибо Женька был тогда первым и единственным человеком, которому я рассказал обо всем, что накопилось у меня на душе. Под утро приехал отец Жени, был он, как я упоминал ранее, в полноте, а потому и знал все воровские новости столицы, которые обязан знать уркаган. Он долго расспрашивал меня, в основном, конечно, о наших тюремных злоключениях, при этом хитровато щурился, как бы сверяя про себя рассказ своего сына с моим. Но сомневаться ему не приходилось, так как мы уже давно были научены жизнью и воровская честность была для нас свята. Ну а когда мы имели дело с урками, то тем более хорошенько думали, прежде чем ответить на тот или иной вопрос. Знал он, естественно, и где живет Дипломат и обещал на днях свозить к нему. А пока мы втроем предавались беззаботному времяпрепровождению, друзья мои знакомили меня с Москвой. Забыл сказать, что, пока я спал днем, Женя сбегал к Харитоше, и встреча с ним была не менее радостной, чем с Женей. Целыми днями мы мотались по городу, здесь мне все было интересно, я сразу полюбил Москву, и она, забегая вперед скажу, платила мне всегда взаимностью. А прожил я в Москве, к слову сказать, совсем не мало лет, суммируя разные отрезки моего жизненного пути. А с Дипломатом, как ни странно, я встретился сам, вернее, случай свел нас. Через день после того, как я познакомился с отцом Жени, он уехал куда-то, пообещав, что скоро вернется и выполнит свое обещание. А пока посоветовал получше познакомиться с городом, что я и делал, совмещая приятное с полезным. В тот день мы шныряли возле «Ударника», и «труды» наши не были напрасны. Большое кожаное портмоне, которое Харитон сумел стащить, с крупным содержимым было нам очень кстати. Когда мы, перейдя через мостик, остановились возле поплавка «Буревестник» (так он тогда назывался), который был пришвартован тут же рядом с мостом, то решили отметить удачу. Музыканты да и почти вся обслуга здесь были цыгане. Московская шпана считала «Буревестник» лучшим местом для отдыха, частенько впоследствии заглядывал сюда и я.
Засовывая в карман брюк свою долю краденого, которую мне протянул Валера, я вдруг увидел Дипломата под ручку с очень красивой и элегантной женщиной – они направлялись к стоявшему тут же «ЗИМу». Дама уже скрылась в салоне машины, а Леня занес было ногу, чтобы сесть рядом, когда я стремглав бросился к нему. Он был искренне рад нашей встрече, мы по-братски обнялись, и я, торопясь, стал рассказывать ему, что уже больше месяца в Москве. Он перебил меня и тоном, не терпящим возражений, сказал, чтобы я располагался сзади, – здесь не место для разговоров, сам же сел впереди. Не успела машина тронуться, как я в двух словах объяснил, что не один. Мгновения мне хватило, чтобы перекинуться со своими корешами парой-тройкой слов, и уже в следующую минуту «ЗИМ» рассекал жижу грязи, смешанную со снегом. Поначалу я был ошарашен, когда, проехав немного, Леня, обернувшись к нам вполоборота, сказал даме, что сидела рядом со мной: «Это и есть тот Золоторучка, о котором я вам рассказывал, знакомьтесь». Как же тут было не прийти в замешательство, ведь рядом со мной сидела истинная леди, по крайней мере, мне так показалось. Она была действительно похожа на герцогиню, возвращающуюся с бала, ну а учитывая представления о женщинах провинциального вора, каким я был в то время, думаю, можно понять мой восторг, равно как и замешательство. Но леди, нисколько не удивившись, а скорее, наоборот, грациозно повернула ко мне голову, одарив меня при этом ангельской улыбкой, протянула руку и будто пропела: «Ляля». Я от неожиданности поцеловал протянутую руку, тут же вспомнив уроки моей бабушки, и ответил: «Очень приятно, Заур». – «Глянь, Дипломат, а ведь он еще и джентльмен», – услышал я мелодичный голос Ляли, но в следующую секунду Дипломат разразился громким смехом. Я еще даже не успел понять, что же произошло, как Дипломат тут же стал серьезным и сказал мне: «Не обижайся, бродяга, просто я вижу, ты во всем большой оригинал, а церемонии эти сейчас не встретишь даже в самых высших кругах. Ну да ладно. Если будет на то нужда, цапки у дам будешь на работе лобызать, а здесь расслабься, ведь это наша Ляля». А «нашей» оказалась уже тогда знаменитая на всю Москву карманница Ляля (Цыганка). Пытаясь быть объективным и нисколько при этом не умаляя своих способностей, хочу сказать, что у кого и были золотые руки, так это у нашей Ляли. Своих родителей она не знала и, сколько помнила себя, росла среди цыган, пока табор не пришел в Самарканд. Там, шныряя по Регистану, и встретилась она с урками-ширмачами, сними и осталась. Способности к воровству у нее были действительно незаурядные. Гастролируя по стране с ворами, она порой показывала чудеса ловкости, ну и воры тоже учили ее всему, что должна знать, как должна выглядеть, как вести себя юная леди. Вот почему, увидев ее впервые, я нисколько не усомнился в том, что передо мною дама из высшего общества. На тот момент, когда мы познакомились, ей было где-то около тридцати. В воровском братстве она жила больше десяти лет и была всеобщей любимицей. Но ее ценили и уважали не только потому, что она была необыкновенной красавицей, но и за поступки. Первый и последний раз в жизни она полюбила одного молодого уркагана. Однажды после неудачного скачка на хату одного жирного бобра его подстрелили в побеге. Он, возможно бы, и выжил, если бы не легавый, который гнался за ним. Увидев, что человек лежит раненый и не может уже оказать никакого сопротивления, он сказал: «Пусть лучше умрет, тогда на одного будет меньше» – и добил его выстрелом в голову. На могиле любимого Ляля поклялась, что отомстит, и действительно выполнила свое обещание. Узнав, где работает этот мент, она прокралась к нему в кабинет. Учитывая ее внешние данные, ей это не составило особого труда, и, приблизившись к менту на вытянутую руку, сказала, зачем пришла, и, не дав тому опомниться, выдавила пальцами ему оба глаза. Из десяти лет, которые ей дали, она отсидела три, но воры не оставили ее в беде. Не один год впоследствии мы с Лялей заставляли изумляться уголовный розыск как Москвы, так и всей страны в целом. Я всегда уважал и любил ее как друга и как сестру, она платила мне тем же, но судьба, к сожалению, не была к ней благосклонна. Она умерла в мордовском лагере в Потьме, на станции Явас, одиннадцать лет спустя. Я же в то время находился в одном из лагерей Коми АССР.
Вот какая дама сидела рядом со мною на заднем сиденье «ЗИМа» и мило, дружески улыбалась мне. Мы ехали довольно долго, наконец машина остановилась у дома, где-то на окраине Москвы. Я помог Ляле выйти из машины, и мы пошли к дому, Леня, о чем-то перекинувшись с водителем, нагнал нас почти у самой калитки. А «ЗИМ» мгновенно растаял в ночи, шофер даже не включал фары дальнего света. С волчьим остервенением лаяла собака, готовая сорваться с цепи, до тех пор пока мы не вошли во двор. При виде Ляли и Дипломата она замолчала, но на всякий случай оскалилась на меня и спряталась в своей будке. Мы вошли в дом. Огромная комната была залита ярким светом, исходившим от громадной люстры, висевшей прямо над столом посередине комнаты. В дальнем углу в печи, приятно потрескивая, горели дрова, отчего в комнате было жарко. Прямо перед нами, на диване, сидел дедушка в очках, с газетой в руке, а справа, недалеко от печки, небрежно облокотясь на стул, сидел парень приятной наружности, он увлеченно смотрел «КВН» на маленьком экране. При нашем появлении дедушка отложил в сторону газету и вперил в нас, а точнее, в меня пронзительный взгляд, парень же встал и, подойдя вразвалочку, протянул мне руку для знакомства. «Паша», – представился он, внимательно глядя прямо мне в глаза. «Заур», – ответил я, ни на мгновение не отводя взгляд в сторону, и пожал ему руку. Затем подошел к дедушке, поздоровался с ним. Дедушкой оказался Гена (Карандаш) – живая легенда воровского мира. Что касается парня, то это был Паша Захар (Сухумский), который в преступном мире стал известен чуть позже как Паша Цируль. Много о чем мы переговорили в этот вечер. В конце разговора я понял, что все единодушно готовы принять меня в свою семью. Назавтра я переехал к ним на хазу, и воспитанием моим занялась Ляля. Да, это было время, которое трудно забыть. Я уже писал, что иметь незаурядные способности было недостаточно, для того чтобы тебя уважали и почитали. Я знаю бригаду карманников, лагерных педерастов, крали они не хуже других, и, естественно, никто их не обижал, они даже приезжали в лагеря к своим собратьям и грели их. Но этих карманников не уважали. Так что не имей я свое хоть и короткое еще, но все же достойное прошлое, никогда бы мне не быть вместе с урками. С этим всегда было строго, и ранее в главах, касаясь воровской темы, я писал почему. Если в родной вотчине меня считали чуть ли не «денди-кошелечник-универсал», то здесь, в Москве, Ляля ясно дала мне понять, что я самый натуральный провинциальный лапотник, хотя и способный ширмач. Я говорил, что многому мы научились у воров как на свердловской пересылке, так и в ростовской тюрьме, да и на свободе я постоянно общался с урками, насколько это было у нас возможно. Но оказалось, что всех моих знаний еще недостаточно для «чистодела». Вот какие нормы определяли человека, о котором могли сказать в любом кругу заслуженных воров – это карманник по большому счету. И тогда все без исключения могли это признать. Карманник должен был уметь идеально владеть собой, особенно мимикой лица, знать язык жеста и взглядов, должен был уметь импровизировать, как заправский артист, чтобы в случае чего выйти из неблагоприятной ситуации. Он должен был обладать интеллектом и эрудицией и еще одним важным качеством – умением вести разговор. И все это не считая твоих незаурядных способностей вора. Я думаю, нетрудно догадаться, что приобрести и усвоить эту науку можно было только с годами, да и то при постоянной практике.
Глава 2
Моя «работа» с Лялей
Бригады ширмачей были разные, одна сколачивалась только для поездки на «гастроли», другие крали годами вместе, пока тюрьма или смерть не разлучала их. Так же и мы несколько лет «работали» вместе, пока нас не разлучила тюрьма, а впоследствии и смерть некоторых из нас. Немало интересных, а порой и курьезных случаев произошло у нас за это время; думаю, читателю будет интересно узнать подробней о некоторых из них.
Однажды после трудов наших «праведных» по дороге домой мы заехали в гостиницу «Националь». К тому времени я уже смело мог считать себя универсалом, таким, какими были мы все, недаром блатная Москва того времени знала нас, равно как и уважала. Конечно, в этом была большая заслуга наших урок, но и способности каждого из нас были признаны безоговорочно всеми.
Карандаш с Дипломатом зашли внутрь, а мы вчетвером остались сидеть в машине. В то время гардеробщиком в гостинице работал Пантелей (Деревяшка). Сидели они с Карандашом где-то еще при нэпе. Говорили, что в свое время Пантелей был в авторитете, но потом началась война, он попал в штрафной батальон и в атаке потерял ногу, с тех пор он костылял на деревянной, отсюда и такое погоняло. Как инвалида войны, его устроили работать в «Националь», куда и простых-то смертных брали с трудом, и то после ста проверок. Отсюда шпана сделала вывод, что пашет Деревяшка на Комитет. Но Комитет была контора серьезная, к преступному миру почти не имела никакого отношения, да и босоту Деревяшка по ходу никого и никогда не сдавал. По крайней мере, базару такого не было, ну и шпана делала вид, что ничего не знает и ни о чем не догадывается. Фарцевал понемногу Деревяшка, да сигаретками импортными приторговывал – в общем, на нынешний манер был центровым барыгой. Кстати, в то время почти в любой аптеке можно было купить морфий, а вот сигарет импортных, таких как «Филип Моррис», в пластмассовой упаковке, «Кэмел» и прочие, кроме как у барыг, взять было негде, да и то не у каждого. Потому и отоваривались мы постоянно сигаретами у Деревяшки, как, впрочем, и многие урки в Москве.
Стояла тихая, морозная и безветренная погода. В машине же было тепло и уютно. Мы сидели с Лялей на заднем сиденье и о чем-то спорили, а Цируль с водилой впереди, все мы созерцали величественный фасад «Националя», как вдруг рядом заскрипел снег под колесами подъехавшей машины. А еще через минуту Паша, повернувшись к нам, произнес: «Гляньте-ка, какого фраерка фильдеперсового занесло к нам как на подносе». Протерев запотевшее стекло, мы увидели иномарку и слегка согнувшегося, франтовато одетого мужчину, пытавшегося найти замочную скважину в двери машины. Но наше внимание, естественно, привлекло не это. Верха и клифт (одежда) у фраера были не в порядке, а, судя по прикиду, он должен был быть «жирным». Успев только цинкануть Паше, что «работаем», мы выскочили с Лялей из машины с разных сторон, чтобы нас не было видно. И уже в следующую минуту по тротуару в сторону, противоположную нашей машине, шел прилично одетый слепой мужчина, с тростью в руке, под руку с элегантной молодой женщиной. В то время, да и позже, мне иногда приходилось «работать» слепым, поэтому я постоянно носил в чердаке очки с черными и круглыми стеклами, а раздвижная трость была в дурке у Ляли. Поравнявшись с фраером, я, поскользнувшись, упал на тротуар в снег, а Ляля сразу стала звать на помощь, грациозно разводя руками, ибо я на некоторое время «потерял сознание». Почти одновременно фраер и выскочивший из машины Цируль оказались рядом и помогли мне прийти в себя и подняться на ноги, что я проделал с неохотой, медленно, больше опираясь на широкие плечи джентльмена. А уже в следующее мгновение я благодарил их обоих, нервно теребя дужки очков, водружая их на нос. Ляля же, взяв меня вновь под руку, слегка журила за неуклюжесть, сбивая с меня снег. Я видел, как фраер поедал Лялю глазами, но и Ляля, оценив обстановку, ибо фраерок был чуть навеселе, грациозно, с редким достоинством, приличествующим испанской королеве, повернув голову, поблагодарила его и, протянув руку, разрешила ему поцеловать ее. Фраерок был в шоке, а я, кстати, дал понять Ляле, чтобы она не переиграла, я знал ее спектакли, которые она разыгрывала перед такого рода фраерами. Сейчас был другой случай, фраер уже был голый, и нам нужно было сваливать. Сделав несколько шагов, мы услышали хорошо знакомый нам звук взревевшего двигателя нашего «ЗИМа» и, убедившись, что фраер уже не видит нас, мгновенно юркнули в машину. Паша же, наоборот, выпрыгнув из нее, остался ждать Дипломата и Карандаша, чтобы они не искали нас. Конечно, на все про все у нас ушла пара минут, а еще через какое-то время мы уже все вместе мчались по вечерней Москве, раскладывая содержимое карманов незадачливого джентльмена на заднем сиденье автомобиля, которое действительно оказалось «жирным». В то время, когда мы с Лялей торговали у этого фраера скулу (карман) его клифта, Цируль в придачу снял с его цапки котел (часы), в общем, как сейчас помню, покупка была гарная. Но вот что было дальше, а точнее, весь расклад, связанный с этой покупкой, по большому счету, я узнал лишь пять лет спустя, в 1974 году, когда был принят в Петровском пассаже опергруппой, которую водила легавая, майор, по фамилии Грач. Мы были старые знакомые, и она же мне и обрисовала весь расклад, который уже давно не был секретом в МУРе.
По содержимому портмоне сразу стало ясно, что фраер залетный, из какой-то англоязычной страны, уже не помню, по каким приметам мы это определили. Но то, что он окажется агентом, нам не могло присниться даже в самом страшном сне. Хорошо еще, что, взяв деньги и часы, Ляля куда-то засовала это злосчастное портмоне, уж больно оно ей понравилось, может, кому-то подарить решила. А знаю, факт, что на следующий день вся блатная Москва была в движении, а МУР искал «слепого втыкалу» с «бубновой дамой», чтобы сделать возврат. Ну и возврат, естественно, был сделан, как и положено, кроме денег и часов, а они вроде и не нужны были, о них никто и не вспомнил.
Вот что произошло на самом деле, как мне рассказала в МУРе майор Грач (имени, отчества, к сожалению, не помню).
На хвосте у этого типа плотно сидел Комитет. В тот день они, видно, решили взять его в гостинице и взяли в номере, но портмоне при нем не оказалось. А предмет интереса КГБ находился, видно, именно там. Но ни я, ни кто другой из тех наших, кто остался в живых, до сих пор не знает, что там было. В общем, как бывает в таких случаях, узнав все, что им было надо от задержанного, а как мог быстро узнавать КГБ то, что им нужно, я не буду писать, чекисты стали, видно, прокручивать все события поминутно. И как раз те несколько минут, что они стояли у светофора, а затем заворачивали за угол, объект их наблюдений был вне поля зрения. Именно этих нескольких минут хватило нам с Лялей и Цирулем, чтобы выставить этого фраера и исчезнуть. КГБ в то время боялись, и перед ним дрожали почти все. МВД тем более не было исключением. Уже ночью, когда все стало ясно, подняли с постели министра, он дал свои распоряжения, и где-то кто-то собрался на экстренное совещание. В общем, уже к утру из МУРа пришло сообщение на улицы Москвы с просьбой о возврате портмоне, иначе последуют крутые меры, если ширмачи проигнорируют просьбу конторских. Я уже писал ранее, в каких отношениях был в то время уголовный розыск с преступным миром, то есть по возможности старались помочь друг другу, если это было необходимо, но, естественно, в хорошем смысле слова. Вот почему после возврата портмоне нас никто не трогал, честно сказать, мы даже и не предполагали, что в МУРе знают, как и кто его украл. И лишь пять лет спустя я узнал об этом случайно. А еще через 20 лет, в 1994 году, когда я отдыхал у Цируля на даче в Подмосковье, Паша показал мне газету, которая чуть ли не вся была посвящена его особе, он даже шутил на этот счет. В то время власти были зациклены на держателе российского воровского общака Паше (Цируле), в этой газете я и прочитал о себе как о непосредственном участнике этой кражи. Только, видно, информацию эту журналист черпал явно не из архивов МВД, так как там было написано следующее: «Один из действующих лиц этого спектакля Зугумов Заур, по кличке Золоторучка, был застрелен при попытке побега где-то в тайге Коми АССР в 1975 году». Да, действительно, в том году я был в побеге в Коми, за что и получил небольшой довесок к сроку – один год, да и потрепали нас здорово, но, к счастью, не убили, подтверждением чему может служить эта книга. Я даже хотел написать в редакцию этому журналисту, думал «обрадовать» его, но, к сожалению, вскорости сел, кстати тут же следом за Пашей. И уж никак не мог ожидать, что больше мы с ним никогда не увидимся. Он упокоился в Лефортове 10 или 12 марта, точно не помню, потому что ровно через год, находясь в Бутырках в качестве положенца в «аппендиците», я отмечал с босотой моего корпуса годовщину смерти двух воров – Паши (Цируля) и Гриши (Серебряного). У одного она была 10, а у другого – 12 марта, я решил объединить обе даты. Ведь Бутырки – это не то место, где каждый день можно отмечать подобные мероприятия, вот потому я и запамятовал. Но это не столь важно, главное – людская память. Как я писал ранее, Москва того времени была не только столицей нашей Родины. Москва была, да и остается по сей день, воровской столицей России. В наше время, не побоюсь сказать, многие чиновники как аппарата правительства, так и силовых ведомств стараются создать в стране как бы искусственный хаос и неразбериху, сталкивая отдельные мафиозные структуры и всякого рода сброд. А задумывался ли кто-нибудь из среды аналитиков, я имею в виду тех, кто искренне переживает за нашу страну, откуда взялись эти самые сообщества рэкетиров и бандитов, наркоманов и насильников? Почему раньше ни преступный мир, ни сама милиция, я больше чем уверен, и представить себе не могли, что в нашей стране может быть что-то подобное, называемое сейчас модным словом «демократия». А демократия в России – это беспредел. Зачем и для чего сеять смуту, это ясно – где, как не в мутной воде, легче рыбка ловится. А вот климат, благоприятствующий беспределу, создали сами правящие, руководящие чиновники силовых структур, уничтожая воров либо при помощи интриг, либо отстреливая их. А ведь они-то никогда не допустили бы беспредела, творимого сейчас не только за колючей проволокой, но и вокруг нас. В последние годы Россия стала почти сплошным преступным миром, исключая, конечно, стариков и детей, ну и еще, пожалуй, немногих честных людей, которые еще остались здесь. А во времена тоталитаризма, как принято сейчас говорить, какие бы деспоты ни стояли у власти, они прекрасно понимали, что любая смута и последующий за ней хаос приведут страну к развалу, то есть еще к одной революции. А откуда берется брожение умов и затем открытое противостояние, они прекрасно понимали. С одной стороны, это почти гении – диссиденты. Кого-то из них высылали, а кого-то изолировали плотным кольцом ренегатов и колючей проволокой. А с другой стороны – элита преступного мира, воры в законе. Возможно, некоторые из читателей будут склонны думать, что я несколько субъективен и поэтому пытаюсь возвеличить до государственного уровня значение этого клана, игравшего иногда очень важную роль в жизни нашей страны. Что же, могу привести несколько примеров.
Прежде чем открылся фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году, высшими чиновниками из МВД было принято решение обратиться именно к ворам. Это обращение письменным, конечно, не было, но в нем говорилось следующее: «Преступный мир, наравне с другими слоями общества, должен показать всему миру нашу единую сплоченность. Пусть это преступный мир, но он наш, советский, а отсюда следует, что он должен быть на высоте». Звучит, конечно, парадоксально, не правда ли, но смею вас уверить, что за время фестиваля не было, по большому счету, зарегистрировано ни одного преступления. Только несколько карманных краж, да и то они на совести залетных ширмачей. Скептики, кому доступен архив МВД, могут туда заглянуть, я же это знаю наверняка. Да что там говорить. Несколько слов, обращенных урками к преступному миру, могут парализовать нормальный уклад жизни не только такого мегаполиса, коим является Мосьсва, но и страны в целом. Обо всем этом коммунисты прекрасно знали, а потому урок боялись, считались, а по мере надобности и частично уничтожали в крытых тюрьмах и дальних лагерях, но ни в коем случае не истребляли под корень. А сила воровская была в незыблемости законов, в строгом их соблюдении и в братстве воровском. Приведу еще такой пример. В 60-х годах, преимущественно о которых я сейчас пишу, был такой вор Юра (Монгол). Кстати, как я говорил ранее, он представлял на воровской сходке Славу (Япончика), и с его легкой руки Япончика окрестили. Монгол же был в большом авторитете среди урок Союза, был хорошим домушником, прекрасным организатором, «третьими» ему вообще равных не было, насколько я помню. По крайней мере, те, кто приезжал играть с ним, уезжали из Москвы в замазке. Так вот, иногда Монгол позволял себе выходки, мягко выражаясь идущие вразрез с воровскими этикой и моралью. Старые урки часто были недовольны его действиями, а жаловались на него многие. В частности, было несколько таких дел, когда Монгол с дружками, помимо обычных бобров, выставили крадунов в милицейской форме. Те умудрились весь день возить в гробу по Москве Фатиму-татарку, требуя у нее деньги. Пока не поймали ее красавицу дочь, деньги она им не отдавала. Фатима была самой центровой барыгой в Москве, банковала лекарством, деньги же, которые ей пришлось отдать, были из разных воровских московских бригад, собранных на лекарства. Такие вещи никому не прощают, в общем, оставили Монгола не вором. А это значит, что никогда ему уже быть им не суждено. Я одно время сидел с ним в Бутырках в 1974 году, а вот с подельником его Жлобой, отдыхал в одной камере. О многом мне, конечно, приходится умалчивать – не только в этом эпизоде, но и в воровской теме вообще, дабы не давать карты в руки тому, кто играет не по правилам или вообще не знает никаких правил. Просто хочу еще раз сказать, как всегда уважали закон воровского братства сами урки. И таких примеров я мог бы привести множество, но, думаю, ни к чему бередить на воровском теле кровоточащие раны.
Глава 3
Воровской трюк
Со всех регионов страны люди, обладающие тем или иным талантом, устремлялись в Москву, и здесь, если столица их принимала, точнее, признавала, в скором времени их уже знали, уважали и любили. То же самое можно было отнести и к ворам того времени. Во-первых, немного возвращаясь назад, напомню, что, где бы ни крестили урку, он отвечал за этот регион перед ворами. А потому надолго оставить его не мог. Но в Москве он обязан был побывать, так как почти вся воровская элита Союза находилась здесь. Если же тот регион, где был сделан подход к юному уркагану, был насыщен ворами (а это в основном Грузия), то урка ехал в Москву для знакомства или на сходняк, на котором решалось, в какое место его следует направить, где от него будет больше пользы. И лишь немногие надолго обосновывались здесь, Москва становилась для них вторым домом, если можно назвать домом весь город. Вообще, у воров нет и не может быть понятия «свой дом», дом воровской – тюрьма. Воровская элита, которая жила в столице, была известна всем как в преступном мире страны, так и в правовых ее органах. Одним же из ключевых органов правосудия был МУР, который играл главную роль в жизни преступного мира столицы. С этой конторой никто и никогда не шутил, а к представителям ее относились серьезно все без исключения. И когда однажды меня предупредили муровцы, чтобы я уехал из Москвы (а это было тоже одной из примет того времени – предупреждать, прежде чем сажать), то я покинул ее тут же. Но ведь ни за что ни про что не выгоняют, а признаться, у МУРа были на то веские причины, об этом речь пойдет впереди, да и выгоняли они не одного меня, а вместе с Лялей.
Дипломат с Карандашом сидели уже почти год. Взяли их в Питере, на Московском вокзале, сразу после сходняка. Им инкриминировали сопротивление властям и нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции. Дали обоим по восемь лет. Обычно, если сходняк был не в Москве, а в другом городе, мы ездили туда все вместе, а после его окончания также все вместе возвращались домой. На этот раз такой особой необходимости не было, мы нужны были больше в Москве, так как Паша лежал в больнице с двухсторонним воспалением легких и к тому же был в очень тяжелом состоянии. Кроме нас, у него не было никого, так что Ляля почти не отходила от его постели, круглосуточно дежуря в больнице. А я улаживал все остальные дела, связанные с нашей жизнью. Вскоре мы получили письмо от наших корешей из Иркутска (Ангарлаг), и когда Паша выздоровел, то, подсобрав немного денег, мы поехали к ним на свидание в Иркутск. Лагерь находился прямо в устье Ангары, где она впадает в озеро Байкал. Места там до того живописные и красивые, что мы после всех наших дел, связанных с корешами из Ангарлага, решили несколько деньков отдохнуть, но, к сожалению, провести там больше двух дней нам не удалось. Нас, можно сказать, выпроводили, хорошо еще Ляля была с нами. Она все шутила на этот счет да сыпала восточными стихотворными наставлениями типа: «В мире временном, сущность которого тлен, не сдавайся вещам несущественным в плен. Сущим в мире считай только дух вездесущий, чуждый всяких вещественных перемен».
Но с тех пор как мы были там, прошло уже почти полгода. Мы знали, что Дипломата и Карандаша отправили оттуда, а вот куда, не знали, все ждали письма. В то время жили мы уже в Москве, в Текстильщиках, во 2-м Саратовском проезде, снимали полностью трехкомнатную квартиру. На тот момент, о котором пойдет речь, Паша уехал по срочным делам домой, в Сухуми. Уже не помню, что-то у него там было важное и срочное, потому что за ним приехали ребята. Но свои двойные координаты он на всякий случай оставил. Мы же с Лялей остались вдвоем. Скучать нам не приходилось. Целый день у нас уходил на дела, а вечера мы проводили обычно в каком-нибудь из центральных ресторанов столицы. Нас все там знали, начиная от гардеробщика и кончая посудомойкой. Людям и с более благородной профессией такие знакомства были всегда нужны, нам же тем более.
В один из морозных декабрьских дней мы сидели за столиком у окна в ресторане «Пекин». Видно было, как за окном, огромным и запотевшим, шел крупный пушистый снег. Почти непрерывно подъезжали и отъезжали машины от главного входа в гостиницу, рыхля черный вперемешку с грязью лед. Здесь же, в зале ресторана, было тепло и уютно. Мы с Лялей сидели друг против друга, наслаждаясь терпким ароматом какого-то заморского вина, слушали музыку и вели неторопливую беседу. Тема, как правило, была одна и та же: как побольше украсть, и так, чтобы не попасться. В какой-то момент музыка стихла, послышались редкие аплодисменты, а затем погас свет, но официанты тут же стали разносить канделябры со свечами, на наш столик также поставили канделябр и зажгли свечи. Некоторое время все сидели в тишине, слышно было только, как потрескивают свечи. И вдруг послышалась затейливая восточная мелодия и началось представление в самом центре зала. Маленький китайчонок прыгал в горящий обруч, утыканный ножами, который держала красивая узкоглазая ассистентка в зеленом халате с золотыми драконами на спине. Испуганные и в то же время восторженные возгласы дам и их кавалеров говорили о том, что зрелище нравится публике. Мой же взгляд был устремлен на Лялю. Как она была хороша! Я и любил эти вечера в ресторане, потому что мог вот так, сидя напротив нее, открыто наслаждаться ее красотой. Ляля знала себе цену, знала и то, что я любуюсь ею, но, главное, она знала, что я никогда не скажу ей о своих чувствах и буду выказывать ей только уважение и братскую любовь. Мы бывали не только в ресторанах, но и в театрах. Наверное, не было в Москве ни одного театра, где я бы не побывал с Лялей. Она любила театр не меньше меня, а потому я нисколько не удивился, когда она, повернувшись к окну, сказала мне: «Ну что, мистер Паркер, совместим приятное с полезным для поднятия тонуса, а то что-то скучновато здесь стало». Взглянув в окно, я утвердительно кивнул ей и, подозвав официанта, который хорошо знал нас, попросил его, чтобы он заказал нам два билета в концертный зал. Подобного рода услуги, естественно, входили в счет его чаевых. А дело в том, что из окна ресторана был виден фасад Концертного зала имени Чайковского, где толпилась масса народу. Чуть в стороне, возле Театра сатиры, было безлюдно, а потому я тут же понял и по достоинству оценил своеобразное желание моей подруги. Что же касается ее обращения ко мне «мистер Паркер», то она имела в виду лучшую в мире фирму по изготовлению ручек с золотыми перьями. И иногда, когда она хотела дать мне понять, что мы идем на дело, связанное с моей профессией, она называла меня так, при этом у нее было совсем неплохое английское произношение, не хуже, чем у выпускника Оксфорда. Заполучив билеты, мы уже через несколько минут стояли у центрального входа в театр в толпе шикарно одетых дам и их импозантных кавалеров. Нежно прижавшись друг к другу, мы стали разыгрывать пару влюбленных испанцев, неведомо почему избравших местом проведения своего медового месяца русскую столицу. Уже открылись двери, и мы не спеша вошли в фойе, затем, так же не торопясь, направились к гардеробу, на ходу сбивая снег с одежды. Возле самого гардероба была обычная театральная суета. У огромного зеркала дамы кокетливо сбрасывали с себя дорогие манто на руки кавалеров и не менее кокетливо поправляли прическу и украшения на запястьях ручек, на шейках и на мочках ушей, в которые были вправлены бриллианты, александриты, рубины и другие камни. Ну а кавалеры, положив все эти шубы из норок, лис и соболей на стойку гардероба, терпеливо ждали своей очереди, чтобы сдать их и получить номерок. Гардеробщик, с виду неказистый старичок, сновал туда-сюда, будто детская заводная машина. Наконец и мы с Лялей подошли к гардеробу, и я с манерами светского льва принял ее норковую шубку, которую она грациозно скинула мне на руки. В тот день она была необыкновенно хороша. Я сам давненько не видел ее такой красивой и, довольный впечатлением, которое производила на всех моя дама, направился к гардеробу. Здесь, как я уже упомянул, была обычная театральная суета. В тот момент, когда гардеробщик протягивал руку, чтобы взять наши вещи, какой-то мордатый фраер, тяжело дыша, опустил свою мануфту на стойку гардероба, прямо впритирку со мной. Повернувшись вполоборота, он не мог отвести вожделенный взгляд от Ляли, при этом не забывая правую руку держать на вещах. В голове у меня тут же промелькнуло – купец, и я не ошибся. Но главное, почему я обратил внимание на него, это портмоне, которое лежало у него в левой скуле клифта (пиджака) и которое он как бы нарочно подставил мне, слегка обернувшись в сторону Ляли. И уже непроизвольно, в тот момент когда я протягивал гардеробщику вещи правой рукой, левой я отогнул слегка левую часть ворота клифта и, чуть приподнявшись на цыпочки, выудил портмоне наружу. Действие это заняло не больше десяти секунд, все было чисто и красиво сработано, мне даже самому понравилось, но, оказывается, я зря радовался. Взяв жетон и соединив его с гомонцом, я положил их наверх и повернулся к фраеру спиной, чтобы, на всякий случай, он меня не узнал. Я двинулся по направлению к Ляле и поднял голову. И тут по моему телу пробежала дрожь. Прямо на меня смотрели две пары бульдожьих глаз, налитые кровью от бессонных ночей. Их нельзя было спутать ни с чем, это была контора. «Но как и откуда они взялись?» – моментально промелькнуло у меня в голове. Я взял себя в руки и пошел к своей даме, которая, ожидая меня, мило улыбалась, отвечая на комплимент франтоватого хлыща, проходившего мимо. Ляля увидела их раньше в огромном зеркале, когда поправляла прическу, но дать мне знать никак не могла. А они, увидев ее, стали искать меня глазами, а когда нашли, вроде успокоились, и это говорило о том, что они знают, кого пасут. Естественно, никто не ожидал, что я утащу этот злосчастный бумажник именно тогда, когда на хвосте у нас будет контора. И это не предвещало ничего хорошего, мы были как бы в западне. И сейчас мы старались не подать виду, что взволнованы, но мозги наши работали в одном направлении: как избавиться от этого неожиданного налета конторы, который тянет этак лет на пять тюрьмы? А прямо след в след за нами шла пара легавых, которые были очень довольны тем, что загнали наконец дичь в угол, на которую давно и безуспешно охотились и которой уже никак не выбраться из этой западни. И, наслаждаясь своим триумфом, они не спешили бросаться на нас, видно предвкушая и предвидя картину нашего задержания. Для муровцев это всегда был спектакль, и надо отдать им должное, артистами они были совсем неплохими. Но человек – всего лишь человек, будь он хоть чекист в квадрате. А вот Всевышний, тот действительно располагает, беря иногда в сообщники случай. А случай – это великий Промысел Божий, которому подвластны все. Но не дай вам Бог, чтобы случай свел вас с МУРом, то есть с профессиональными сыщиками, какими они всегда себя считали и которыми были на самом деле. Но, видно, сегодня мы были обласканы самой фортуной, и удача была сегодня на нашей стороне. Ситуация же была такова, что, когда мы остановились с Лялей где-то посередине этого огромного фойе, то тут же поняли, что спасти нас, кроме Бога, некому. Мы стояли лицом друг к другу, поэтому нам хорошо было видно все, что делается вокруг. Оказывается, обложены мы были действительно мастерски, с присущим МУРу опытом. Оба входа и оба выхода из зала на улицу были под бдительным присмотром. Сзади, как я уже упоминал, стояла пара легавых, впереди была стена, а справа от меня стоял треугольный щит, своего рода реклама, что в то время можно было часто встретить в театрах или в больших кинотеатрах. Не знаю почему, делая вид, что я увлечен разговором с Лялей, я стал рассматривать этот щит. Но не сам щит заинтересовал меня, а батареи отопления, которые были расположены вдоль всей стены, под огромными окнами. Видимо, чтобы скрыть не радующие глаз радиаторы, их обтянули алюминиевыми листами, которые возле пола были загнуты приблизительно на два пальца шириной и, с интервалом в десять сантиметров, были прибиты гвоздями. Прямо напротив щита одного гвоздя в ряду не хватало, и поэтому это место как бы вздулось. Вот куда был устремлен мой взгляд, и, возможно, если бы не звонок, возвещающий о начале концерта, я бы никогда и не понял, какой подарок в очередной раз приготовила мне фортуна в этот вечер. Мне хватило нескольких секунд, чтобы объяснить свой план Ляле. Как я уже упоминал, у нас был круговой обзор, и вот в тот момент, когда мне показалось, что нас на секунду выпустили из поля зрения, я изо всей силы пустил портмоне, которое уже давно приготовил, вскользь по полу в направлении этого зазора. Трудно себе представить, что пережили мы оба за ту секунду, которой хватило, чтобы наша улика скрылась под этим нагромождением алюминия. А о том, что она там скрылась, думаю, читателю нетрудно догадаться, иначе я не вспомнил бы этот случай. Все эти приготовления и действия заняли не больше минуты, и мы уже снова стояли, также мило улыбаясь друг другу. А когда прозвенел второй звонок, мы медленно пошли к залу, но у самого входа нас попросили задержаться, что мы и сделали, молча отойдя в сторону. Когда же мы остались одни в окружении своры гончих псов, то увидели, что к нам деловой походкой направляется женщина в строгом темном костюме. Когда она подошла и пропела на своем легавом наречии пару куплетов о сдаче краденого, последние сомнения у меня насчет облавы тут же улетучились. Все-таки надо отдать ей должное, она была красивая женщина, и если бы не принадлежность ее к ненавистному мне клану легавых, то я готов был даже за ней приударить. Дальше пошел натуральный спектакль, а храм искусств, где мы находились, вполне оправдывал свое предназначение. Маски мы, естественно, сразу сбросили, так как перед нами были профессионалы, а если быть точным, асы сыска. И представьте себе – эти муровские асы, тут же обыскав нас с Лялей, ничего не обнаружили. Мы же с Лялей ликовали про себя, глядя на их недоуменные лица, но вида, естественно, не подали. Они стали обыскивать каждый метр вокруг, чуть ли не разобрали целиком рекламный щит, но их поиски были тщетными. Через некоторое время привели и потерпевшего. Как я и предполагал, он был работником торгпредства, и, пока ему не сказали, кто мы, он был крайне возмущен, как можно подозревать в краже такую красивую и элегантную даму. Про меня он почему-то не сказал ни слова и даже суверенностью утверждал, что не видел меня вместе с Лялей – и вообще не видел. Два этих важных обстоятельства сводили к нулю всю работу муровцев, да еще такого высокого ранга.
Конечно, самолюбие ментов было ущемлено, но они не хотели сдаваться. Когда старшая опергруппы, а это была майор Грач, поняла весь комизм ситуации, она с интонациями побежденного врага сказала: «Ну что ж, как профессионал, я отдаю должное вашему артистизму и ловкости, сыграно все было прекрасно. Но мне бы хотелось продолжить сей спектакль с некоторой расстановкой действующих лиц, но уже в другом театре – на Петровке, 38». Это означало, что все самое худшее было впереди. Мы, конечно, не подали вида и молча пошли к выходу в сопровождении озлобленных легавых. Много раз за годы совместной работы с Лялей мы попадали в разные ситуации и хорошо знали психологическое состояние партнера в том или другом случае, даже на момент ареста. Так что мы были абсолютно спокойны друг за друга в плане совпадения показаний. Что же касалось всего остального, то здесь никогда ничего нельзя было предугадать – это был МУР. Их принцип гласил: «Для достижения цели все средства хороши». С нами был случай совсем неординарный, в этой конторе нас знали уже давно, и знали, естественно, что выколотить из нас показания будет невозможно. К тому же потерпевший оказался еще и коммунистом, и этот фактор сыграл главную роль в том, что мы остались на свободе. Рассказывать, как мы подвергались многочасовой процедуре допросов, думаю, не имеет смысла, главное то, что к утру мы были уже на свободе. Но в течение суток мы должны были любыми путями вернуть портмоне. О деньгах разговора не было, главным являлся партбилет – такой у нас был уговор с начальством. Видно, все же мы смогли их убедить в том, что, пока они охотились за нами, кто-то под шум волны «сработал» и ушел. Факт тот, что наши показания во всем совпадали. Я хорошо помню, как, закутавшись в свои шубы, спасаясь от утреннего зимнего холода, мы шли по Петровке в сторону Большого театра и ломали себе голову, как заполучить этот лопатник? Но все оказалось проще простого. У Жениного кореша отец работал декоратором в Зале Чайковского, он и помог на следующий день извлечь интересующий нас предмет. После того как мы вернули портмоне, а это было сделано в тот же день, легавые повели себя как обычно они действуют в таких случаях. Они выдвинули ультиматум: 72 часа – и чтобы духу нашего не было в столице. В течение этих трех суток мы были заняты тем, что послали сообщение Цирулю о том, что случилось с нами, и оставили мои домашние махачкалинские координаты. Затем мы заплатили за квартиру за полгода вперед, оставили ключ от квартиры и деньги на тот случай, если придет известие от Дипломата или Карандаша, и на исходе третьего дня покинули столицу, уверенные в том, что мой кореш Женька сделает все как надо и по ходу дела будет нас информировать обо всем. У меня хотя бы были дом, мать, отец, бабушка, а у Ляли не было никого, и поэтому она безоговорочно приняла мое предложение ехать со мной в Махачкалу.
Глава 4
Дома в Махачкале
Каждый раз после долгого отсутствия, когда ты вновь посещаешь город, где родился и вырос, тебя всегда охватывает волнение. Так было и в этот раз. Мы с Лялей остановились в гостинице «Дагестан» как командированные специалисты по электронике. Эта отрасль науки тогда еще только начинала развиваться, и поэтому нам легко было изобразить ее представителей. В столице я умудрялся играть разные роли, и они почти всегда удавались мне, как у профессионального артиста, что же касается Махачкалы, то здесь выдавать себя за кого-то было опасно, так как меня здесь хорошо знали. О Ляле я и не говорю, она была, на мой взгляд, прирожденной актрисой. Паспорта у нас были в порядке, с московской пропиской (кстати сказать, первое, что сделал мой дед после нашей встречи, это прописал меня в Москве, хотя при моих судимостях это было непросто). Сейчас мне нужно было время, чтобы осмотреться, ведь я не был здесь почти три года. Да и Лялю одну я никак не мог оставить, а о том, чтобы нам вместе появиться у меня дома, не могло быть и речи. Так что, набравшись терпения, я стал потихоньку зондировать почву. Все то время, что жил в Москве, я, естественно, держал связь с домом и с некоторыми из друзей, а потому имел кое-какие представления о реальном положении дел. Но одно дело знать из писем, а другое – увидеть своими глазами. Признаться откровенно, больше всего меня интересовала или, скорее, мучила мысль об Оле, ведь о ней я не знал ничего. И это не давало мне покоя. Я переписывался только с бабушкой, которая считала, что я учусь в Москве. Мать так и не простила меня, она просто выгнала меня из дома, а в нашем кругу о женщинах не принято было говорить вообще. Но здесь меня ждал удар, после которого раны заживают лишь только с годами, а иногда и вообще не заживают. Несколько месяцев назад моя Оля, закончив мединститут, вышла замуж и буквально перед самым нашим приездом уехала с мужем в ГДР, по месту его службы, он был военный. Я принял эту весть, можно сказать, стоически и хотя я очень страдал, но ни разу ни с кем не говорил об этом. Даже Ляле, которая знала все о моей прошлой жизни, я ничего не сказал. По дороге в Махачкалу она уговаривала меня сразу повидаться с Олей, а уже потом заняться другими делами. И в дальнейшем она ни разу не коснулась этой темы, видимо чувствуя, как мне тяжело. А я все думал, думал об Оле, и мое воображение рисовало мне картины наших встреч с ней, воскрешало подробности, детали этих встреч, когда я, безусловно, был счастлив. Но прошло время, и я перевернул эту страницу своей беспечной молодости, хотя и не забыл пережитое мною чувство, которое называется любовью. Что же касается друзей, то и здесь было мало утешительного. Почти половина из них сидела, об этом я знал давно из писем, которые они же мне и писали. До Нового года оставалось всего несколько дней, и мы с Лялей решили справить его здесь, в гостинице, вдвоем, уповая на все то же старое поверье: с кем встретишь Новый год, с тем и проведешь его. Ну а потом, решили мы, будем предпринимать какие-то шаги касаемо нашего дальнейшего воровского будущего.
В начале января я повстречал своего старого кореша Витю Костинского, с которым вместе сидел еще в ДВК в Каспийске. Он и теперь жил в том самом Каспийске с женой Светой, и ее я знал хорошо, они и крали вместе. Так вот, после непродолжительной беседы он пригласил нас с Лялей к себе в гости, чем мы не преминули воспользоваться через несколько дней. Мне пришла в голову неплохая мысль. Можно было обосноваться в Каспийске, где нас с Лялей никто не знал, тем более что оттуда можно было спокойно ездить куда угодно. Мы так и сделали и уже через неделю справили новоселье в тихом и скромном доме на берегу моря, хозяйкой которого была хорошая, добрая женщина. Никто не знал, где мы живем, и в дальнейшем так никто и не узнал, пока мы вообще не уехали из Каспийска. А за то время, что мы жили в гостинице в Махачкале, мне даже не нужно было выходить из нее, чтобы узнать интересующие меня городские новости. В буфет ресторана на первом этаже с утра и почти до ночи заходила остограммиться вся блатная Махачкала. Два ресторана в городе – «Лезгинка» и «Дагестан» – пользовались абсолютной прерогативой в этом плане. Ляля тоже не сидела на месте. Она была впервые не только в Дагестане, но и вообще на Кавказе. Поэтому с самого утра, надев платок на голову, главный аксессуар горянки, она уходила знакомиться с городом, с его неповторимым колоритом и горным ландшафтом.
В результате она заявила, что море и горы – это бесподобно, но остальное оставляет желать лучшего. Но это была земля моих предков, это была моя родина, которую, какая бы она ни была, я любил, как, наверно, и каждый нормальный человек. Деньги у нас еще были, поэтому, прежде чем заняться выуживанием их из чужих карманов, мы решили в виде экскурсии проехаться по тем местам, где, как нам показалось, можно было бы неплохо поживиться и которые я сам когда-то посещал с бригадой Чуста. Женщине-горянке свою красоту, если таковая имеется, приходится прятать от любопытных глаз – так принято у мусульман. Поэтому Ляля перевоплощалась чуть ли не каждый день, а иногда и по нескольку раз на дню, в персонажи, которые ей нужно было играть вкупе со мной. И делала она это, надо заметить, с великим мастерством. Мне же перевоплощения были ни к чему, зато играть приходилось тонко и осторожно, ибо я знал, где нахожусь, я здесь родился, и мне было хорошо известно, как поступает с пойманным вором этот дикий и необузданный народ. Здесь нельзя было допустить ошибку, равно как и переиграть. И если в России при запале нас отводили в милицию или, на худой конец, били, то здесь самосуд кончился бы трагедией. Здесь нередко удар кинжала мог остановить жизнь вора. Особенно это касалось базаров, куда мы выезжали в воскресные дни. Хасавюрт, Хошгельды, Курчалой, Шали, Буйнакск, Ая-Базар – вот неполный перечень базаров, куда мы ездили воровать. Некоторые воришки оттуда не возвращались. Иногда приходилось тянуть из кармана кошелек, а тыльной стороной пальцев чувствовать присутствие кинжала. В общем, приходилось рисковать. Риск давно стал нормой нашей жизни, нашим вторым «я». Пришлось мне, конечно, появиться и дома. Бабушке я сказал, что приехал на зимние каникулы. Мать с отцом были честными людьми и к тому же большими тружениками, смириться с мыслью, что их сын вор, они никак не могли. Так что неудивительно, что только в кругу равных себе я находил душевный покой и удовлетворение. Так прошло несколько месяцев. Весна на Кавказе наступает рано, и в первых числах марта мы с Лялей решили покинуть Дагестан. Меня здесь ничто не удерживало, я, глупец, тогда еще не понимал, что придет когда-то время, когда я буду сильно об этом сожалеть. Сожалеть, что не воспользовался возможностью подольше общаться с людьми, которые дали мне жизнь. Да и Ляля рвалась отсюда, не нравилось ей здесь почему-то, но открыто она этого не выражала, – видно, не хотела обидеть меня.
Я все чаще стал замечать грусть в ее глазах, на нее порой находили приступы меланхолии, чего я раньше никогда не замечал. В общем, глядя на все это, я решил, что нам опять пора отправляться в путь-дорогу. Я немного догадывался, куда бы хотелось направить свои стопы моей спутнице, моему верному и испытанному другу. У нас было так много общего с ней, мы одинаково любили жизнь и приключения. Здесь, пожалуй, я ненадолго прервусь, чтобы объяснить читателю все, что касается наших отношений с Лялей, ибо считаю, с моральной и нравственной точки зрения, сделать это необходимо. Описывая в предыдущих главах наши похождения, я рисовал ее образ в общих чертах, применяя банальные эпитеты: красивая, грациозная, милая и прочее. Так можно было описывать лишь холодную статую, но не женщину. Поэтому я берусь исправить свою ошибку, тем более что оригинал стоит того.
Она была выше среднего роста, со спокойной и уверенной поступью, порой она напоминала львицу пустыни, – кстати сказать, родилась она в Средней Азии. Ее лицо напоминало цветок: красивый лоб и великолепно очерченные яркие губы, огромные черные, блестящие глаза, которые обрамляли черные изогнутые ресницы. От этих глаз нельзя было оторвать взгляд. Ляля отличалась ясностью ума, живостью и чистосердечием. Если бы не злой рок, который уготовила ей злодейка судьба, она могла бы стать хорошей женой и прекрасной матерью, но увы! Как часто мы пытаемся принять желаемое за действительное. Ляля была умной женщиной, намного старше меня, а потому, когда мы оставались одни, она догадывалась обо всем, что творится у меня в душе. И вот однажды в Москве… Помню, лил проливной дождь, мы вернулись домой, промокшие до нитки. И после горячего душа сели на кухне пить чай. Казалось, обстановка была самая что ни на есть обыденная, да и в ее облике не было ничего необычного: пирамида из полотенца на голове да батистовый халат. Но меня почему-то начало трясти, и она со свойственной ей проницательностью поняла все. Взглянув на меня, она вдруг сказала: «Заур, родной, я уважаю твои чувства и ценю твое отношение ко мне. Твое терпение и выдержка порой восхищают меня. Мы можем переспать, и я уверена, что Бог нас за это не осудит, но я надеюсь, ты понимаешь, что тех отношений, что были между нами, уже не будет. Да и сами мы станем другими, я больше чем уверена в этом. Ведь друг и любовник – это абсолютно разные понятия». Сказав все это, она встала и, взглянув на меня с достоинством и мудростью жрицы, добавила: «И да поможет тебе в правильности выбора Всевышний». И Ляля пошла спать своей уверенной и неторопливой походкой. В этот миг бледная молния залила свинцово-фиолетовым цветом все вокруг, как бы предостерегая меня от неверного шага.
Откровенно говоря, я долго не мог заснуть, но не потому, что мучился и делал выбор, нет. После слов Ляли на меня будто вылили ковш ледяной воды. Я тут же пришел в себя, еще толком не понимая, как все это могло произойти. Я пролежал почти до утра, думая совсем о другом, скорей всего, это были думы о превратностях судьбы и разного рода жизненных перипетиях.
Но после этого случая ни я, ни она и не приближались к этой щекотливой и опасной теме. Отношения наши оставались даже больше чем дружескими. Как у брата с сестрой.
Глава 5
С лялей в Самарканде
Еще в детстве вкус к прекрасному мне привила моя бабушка, а значит, выглядеть элегантным у меня не было проблем. Были бы средства, а они были. В первых числах марта в поезд Ростов-Баку, прибывший в 20:55 по московскому времени на Махачкалинский вокзал, садились двое: элегантно одетая дама в красивом платье и в модном в то время плаще-болонье, зажав под мышкой маленький лаковый ридикюль, тоже модный в то время, и не менее элегантный молодой человек в синем бостоновом костюме, с шикарным китайским макинтошем наперевес в одной руке и большим дорожным чемоданом в другой. Путь нам предстоял неблизкий, конечный же пункт нашего маршрута был Самарканд – единственное место на земле, о котором Ляля хранила нежные воспоминания. Маршрут нашего путешествия мы с ней выбрали заранее: поездом до Баку, оттуда паромом через весь Каспий до Красноводска, и уже потом, опять поездом, до самого Самарканда. Путь был тяжелый и утомительный даже для меня, молодого и сильного человека, каким я был в те годы.
Но этот маршрут выбрала Ляля для того, чтобы я смог постепенно подготовиться к «работе» в Средней Азии. Она изображала из себя невесту, как будто нам в скором времени предстояло соединить наши судьбы законным браком. Я не противился причудам моей подруги, и, как показало время, она оказалась права. С тех пор как Ляля с ворами покинула Самарканд, прошло около десяти лет, и ни разу после этого она не была здесь. Мы довольно часто покидали пределы Москвы и колесили по стране на «гастролях». Удивительно, но никогда взгляд воров не был устремлен на Восток. В основном это были республики Прибалтики, Белоруссия, Украина, потому что их границы с просвещенной и богатой Европой были рядом, а значит, нам было где и у кого поживиться.
Да и сходняки воровские происходили чаще всего в таких городах, как Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Харьков, самым дальним считался Ростов. И что удивительно, на всем протяжении нашего пути на проверяющих документы московская прописка действовала просто магически. Мы в свое время поняли это и тут же взяли на вооружение. Мало того, мы даже старались подчеркнуть свою принадлежность к столичной аристократии.
От Баку до Красноводска паром шел 11 часов. Каюты были почти такие же, как купе в поездах, но более вместительные и просторные. Была и большая кают-компания, где все пассажиры сидели в креслах, установленных так, чтобы можно было смотреть телевизор над большим проходом. Перспектива сидеть в этих креслах во время всего пути нас не радовала. Скорее наоборот, я уже начинал нервничать, глядя на алчные глаза кассирши, которая повторяла как заведенная: билетов в каюты нет. Ляля, кокетливо улыбаясь, протянула ей наши паспорта, тихо промолвив при этом: «Будьте любезны, дайте два билета, пожалуйста». Сейчас трудно сказать, что больше возымело действие – сами паспорта или вложенные в них хрустящие червонцы, но места, правда последние, для нас все же нашлись. И вот какой забавный, а скорее, печальный случай произошел на пароме – это был случай, который заставил меня поглубже вникнуть в нравы Средней Азии. Был вечер, уже около пяти часов паром находился в море. Мы сидели в баре, с наслаждением потягивая коктейль, прекрасно приготовленный барменом, и слушали медленный блюз. Народу в баре было мало. Вдруг откуда-то послышался такой душераздирающий женский крик, что даже у меня холодок пробежал по коже. А Ляля от неожиданности вздрогнула, как раненая пантера. В следующую минуту все, кто находился в баре, бросились в коридор, а оттуда в кают-компанию, откуда доносился крик. На полу, посреди широкого прохода между кресел, сидела, а скорее, полулежала женщина. С первого взгляда ее можно было принять за цыганку, но маленькие чумазые детишки с чуть раскосыми глазами, сидевшие вокруг матери полукругом и причитавшие ей в унисон, не оставляли никаких сомнений в том, что она была представительницей азиатской народности. Раскачиваясь из стороны в сторону, она рвала на себе волосы, била руками об пол – казалось, что она лишилась самого дорогого, что есть у нее на свете, – своего дитя. Но лишилась она, как оказалось, кошелька, так как его у нее украли. В принципе этот факт для нее не имел никакого значения, главное, что дети ее оставались голодными, а путь до места назначения был неблизкий. Согласитесь, такая картина никого из присутствующих не могла оставить равнодушным. Почти половину пассажиров кают-компании составляли военные пограничники с женами, как я узнал позже, направляющиеся на новое место службы. Так вот, один из офицеров снял с головы фуражку, и она пошла по кругу, наполняясь рублями, трешками, пятерками, а иногда и червонцами.
Не буду описывать, сколько времени понадобилось окружающим, а это были жены все тех же военных, чтобы успокоить эту несчастную женщину Успокоившись, она стала благодарить всех с именем Аллаха так, как это могут делать только восточные люди. Помню только, что, когда ажиотаж вокруг нее поутих, мы подошли к этой женщине поближе. То, что я увидел и ненароком услышал в маленьком диалоге между матерью и ее дочуркой, надолго сохранилось в моей памяти. С детства я знал два языка, кумыкский и турецкий, и это давало мне возможность понимать все тюркские наречия. Так что все языки Средней Азии, кроме таджикского или фарси, я понимал неплохо и по мере надобности мог говорить на этих языках. Так вот, когда старшая дочь, а ей на вид было лет шесть, с детской наивностью протянула руку, чтобы взять одну из купюр, мать резко ударила ее по протянутой руке.
С быстротой хорька мать огляделась вокруг и быстро сказала плачущей девчушке: «Не смей прикасаться своими грязными руками к тому, что еще не успела заработать, благодарите Аллаха, что я вас еще кормлю». Я был поражен услышанным. Ляля, улыбнувшись, потянула меня за рукав в бар. Естественно, и она тоже все прекрасно поняла, ибо хорошо знала тюркский язык, да еще и цыганский в придачу. Почти весь оставшийся путь мы молча цедили коктейль в баре и слушали музыку. Ляля, видно, давала мне время осмыслить увиденное и услышанное, а на лице ее играла загадочная улыбка царицы Востока. Дальнейший наш путь ничем примечательным, можно сказать, не отличался, не считая верблюдов, которых я с удовольствием разглядывал, ведь ранее я видел их только в кино. Если на Кавказе весна наступает рано, то сюда, в Азию, она приходит еще раньше. Я никогда не думал, что пустыня может быть такой красивой, а больше половины нашего пути проходило именно в пустыне. У меня была возможность присмотреться к некоторым людям, и вывод, который я сделал, был далеко не в пользу тех, кто живет на этой земле, хотя, наверное, мнение мое было субъективно, и поэтому Ляле я не сказал ни слова. Но, видно, она давно научилась читать мои мысли. Мы с Лялей стояли у окна, рядом с купе проводника, окно было открыто, и я не без наслаждения вдыхал свежий воздух. И тут я услышал спокойный и уверенный голос своей подруги: «Зачастую, мой милый, не всегда первое мнение нужно принимать за основу, часто оно бывает ошибочным». К счастью, Ляля опять оказалась права. Самарканд нас встретил морем солнца и шумом на привокзальном базаре, когда мы зашли туда, чтобы справиться о своих знакомых. Как я уже писал ранее, Ляля больше десяти лет не была здесь. Многое, конечно, за это время изменилось, но главное, естественно, были люди. Где они? Остался ли кто-то из прежних знакомых? Я видел, как она волновалась, когда мы поднимались в лифте гостиницы «Интурист» к себе в номер. Как только мы вошли, я тут же заказал шампанское. И уже через несколько минут я увидел ее благодарную улыбку сквозь прозрачный хрусталь фужера. Тост у нас был в то время неизменен: «За матушку удачу и сто тузов по сдаче, за жизнь воровскую и смерть мусорскую». Но я еще добавил: «За славный город Самарканд». Откровенно говоря, этот город заслуживает и большей чести, чем провозглашение тостов в его честь, хоть, думаю, для его жителей это тоже приятно. На следующий день мы решили, так же как и в Махачкале, только с точностью до наоборот, совместить приятное с полезным. Ляля поехала по делам, я же решил немного познакомиться с городом. Ксивота у меня была в порядке, мало того, как я упоминал, московская прописка действовала на всех магически, и правоохранительные органы Самарканда в этом плане не были исключением.
Когда говорят, что Самарканд – это жемчужина Востока, нет ни одного слова неправды в этом изречении. Город действительно был великолепен. Первое, куда я направил свои стопы, был, конечно, Регистан. Этот древний архитектурный ансамбль буквально завораживает своим величием и неповторимостью не только знатоков истории и ценителей древности, но и людей с менее развитым интеллектом. Помню, в детстве я читал книгу «Звезды над Самаркандом», так вот, стоя у подножия этих шедевров древнего зодчества, все герои книги будто ожили в моем воображении. Рядом с подножием башни Биби-Ханым или возле обсерватории Улугбека изумляешься их красотой и неповторимым величием. За целый месяц невозможно было обойти все, осмотреть и осмыслить, поэтому я решил не торопиться, ибо в ближайшие дни не собирался покидать этот город. Другая же причина была чисто житейская. Я здорово проголодался. Под стенами Регистана шумел старый восточный базар. Его жизнь и неповторимый дух описаны многими поэтами и прозаиками Востока. Я уверен, что не смогу внести ничего нового при его описании, а потому не буду даже пытаться делать это. Достаточно читателю представить себе самаркандский базар, и думаю, что сам Восток оживет в его воображении во всем своем красочном, неповторимом колорите. Аппетитный запах, исходивший из духана, привлек мое внимание, и я не преминул воспользоваться услугами духанщика, когда услышал, как и в каких выражениях он зазывает к себе прохожих. Духанщик был прав – обед был великолепен, узбекская национальная кухня вообще славится во всем мире. Хорошо пообедав, я направился к выходу. До гостиницы я решил идти пешком, тем более она была недалеко, а вечер выдался изумительный. Ляли еще не было дома, когда я добрался до своего номера, и, удобно расположившись на диване, я заснул глубоким сном. Проснувшись, я взглянул на часы, был поздний вечер. Ляли еще не было. Я начал волноваться и не знал, что предпринять. Через полчаса раздался условный стук в дверь, это пришла Ляля, но она была не одна. Двое ребят, приблизительно одного со мной возраста, приятной наружности, азиаты, сопровождали ее. Я понял, что это ее друзья, и немного успокоился. Оказалось, Ляля нашла кое-кого из своих знакомых, от них она узнала, что в городе находится Хасан (Каликата). Попасть к нему было нелегким делом, но только не для Ляли, тем более она его лично знала, а это в корне меняло дело. Переговорив с ней, он послал с Лялей двух ребят, чтобы они доставили нас к нему. Через несколько минут мы были в машине, которая ждала нас у входа в гостиницу, а еще через полчаса нас провели в комнату, обставленную в восточном стиле. На ковре сидели двое мужчин преклонного возраста, они пили чай и вели неторопливую беседу. Это были Хасан (Каликата) и Толик Жид – одни из самых авторитетных урок того времени в Средней Азии. Я поздоровался с обоими и сел без приглашения – так было принято. С Жидом читатель еще встретится на страницах этой книги, в Коми АССР, поэтому у меня еще будет возможность рассказать о нем. Что же касается дедушки Хасана, как любовно и уважительно называла шпана этого урку, то с ним придется встретиться лишь спустя 18 лет здесь же, в Самарканде, да и то мимоходом. Он приедет из Ташкента, где жил в то время, на похороны своей старенькой жены. Так что, думаю, было бы воровским неуважением не посвятить ему несколько строк, ибо описывать человека во время похорон жены я считаю верхом неучтивости. Хочу тут же обратить внимание читателя на то, что в последние годы я довольно часто слышал, как некоторые молодые бродяги путают Хасана-курда, которого шпана тоже называет дедушкой Хасаном, с Хасаном Каликатой, который к тому же был татарином. Они, конечно, оба урки, достойные всяческого уважения, но это разные люди.
Да и Каликата уже давно упокоился, а дед Хасан живет и здравствует, Бог ему в помощь. О таких старых и авторитетных ворах, каким был Хасан Каликата, очень часто можно слышать в воровских кругах, если, конечно, имеешь туда доступ. Я, естественно, о нем слышал и раньше, а вот только сейчас довелось встретиться. Он был чуть выше среднего роста, немного сутуловатый, серьезный, даже суровый, из тех, кто смотрит на жизнь сквозь призму долга и идет своим путем, стараясь доказать, что воровской образ жизни стоит превыше всего. Все муки ада, которые на земле придумали люди, он прошел, как и подобает вору, с честью и достоинством. Говоря о Хасане, я нисколько не хотел умалить заслуги и достоинства другого урки, Толика Жида. Ибо в братстве воровском нет понятий: мал или стар, здесь все равны между собой. Одно слово вор – этим все должно быть сказано для любого, кто имеет честь принадлежать к нашему сообществу. Но вот что касается авторитета, это другое дело, его надо заслужить. А значит, человек, пользующийся всеобщим уважением среди избранных людей преступного мира, то есть среди урок, должен обладать незаурядными качествами, присущими сильным и цельным натурам. Таким и был Хасан Каликата. И пожалуй, не ошибусь, если скажу: на то время авторитетней его в Средней Азии не было вора. Почти до самой ночи мы с ним проговорили. Некоторые события, естественно, воровского характера, очевидцем которых я был или слышал от кого-либо из урок, я рассказал ему со всеми подробностями. В общем, мы очень интересно и с пользой друг для друга провели время. На следующий день Хасан с Толиком познакомили нас с Мишей (Косолапым) и еще несколькими самаркандскими ширмачами.
Никого из них Ляля не знала. Мишаня тоже был в большом авторитете среди крадунов не только Самарканда, но и всей Средней Азии. Напротив старого базара, прямо у стен Регистана, находилось 4-е отделение милиции. Сотрудники его были страшным бичом для всех ширмачей. Если им в лапы попадался карманник, у которого не было денег, чтобы откупиться, то его избивали до полусмерти, а потом еще и сажали на срок. Общеизвестна изощренная жестокость азиатских народов, она, как правило, беспощадна. Вместо КПЗ они использовали старую башню времен Средневековья. Внизу размещалось караульное помещение, а наверху содержали арестантов. По всей вероятности, верхние этажи этого некогда величественного сооружения были апартаментами какого-нибудь хана, а внизу располагалась челядь. Там они издевались, как могли, над нашим братом, прежде чем отвезти в тюрьму. Тюрьма же была в 60 километрах от Самарканда, в Каты-Кургане. Однажды и мне довелось просидеть в этой башне 12 суток, но меня и пальцем не тронули. На то, конечно, у них были свои причины, но зато нервишки попортили. Хотя это было уже не в счет, главное – кореша вытащили меня и я был на свободе. Что же касается нервишек, то, как известно, в молодости эмоциональные стрессы проявляются не так ярко, как в преклонном возрасте, и уже на склоне лет, вспоминая обо всем этом с глубоким сожалением, удивляешься: неужели ты еще жив? Самарканд в то время буквально кишел карманниками со всей Средней Азии, иногда сюда приезжали бригады с Кавказа, иногда из России. Здесь можно было неплохо поживиться, так как помимо приезжих из самой Средней Азии всегда было много иностранных делегаций и просто любителей и ценителей глубокой древности из-за границы. А значит, это была валюта, то есть большие деньги. Кстати, за сохранность карманов иностранных граждан отвечало все то же 4-е отделение. Конкуренция была большая, поэтому, как и везде, местные выезжали на «гастроли» иногда даже чаще, чем залетные гастролеры приезжали к ним. В общем, происходил обмен информацией и некоторого рода опытом. В этом плане, естественно, и наша бригада не была исключением. Выезжали мы в разные места, в основном в Ленинабад и Термез, потому что там была «работа» в основном для чистоделов и соответственно куш был немалый. Мне бы хотелось поговорить о Термезе.
Во-вторых, это приграничный город, и, чтобы попасть туда, мы за несколько остановок выходили из поезда и порознь садились в рейсовый автобус. В трех местах до Термеза пограничники проверяли документы и багаж. В самом Термезе «работа» была в основном письмом, а писак, по большому счету, в Средней Азии я встречал очень редко. И в то время я по праву гордился тем, что мог причислить себя к избранной плеяде русских воров-карманников. Среди нас, пятерых, письмом, по большому счету, работал я один. Представьте себе бабая: в «пехе» – так называется скула, то есть внутренний карман пиджака или халата, – у него лежат деньги.
Сверху надет еще один халат, да еще завязан своего рода кушаком прямо посередине живота. Или представьте себе бабая, у которого прямо на голое тело надет пояс с большими ячейками для разных купюр в виде патронташа. Здесь, кроме как письмом, украсть было никак невозможно. Конечно, это было рискованно, требовался немалый опыт, абсолютное понимание партнеров, но зато цель всегда оправдывала средства, куш мы срывали всегда большой. Что касается разговорной речи, которую употреблял преступный мир Средней Азии, то есть жаргона, или, как чаще его называли, фени, то она была своеобразна и резко отличалась от российской. Вообще в преступном мире существуют такие выражения: российская феня, колымская и питерская. Самой простой и распространенной была российская, самой же сложной и витиеватой – колымская, все же остальные были не чем иным, как пародией на ту же феню. Но помимо общепринятой фени преступного мира страны была еще и чисто индивидуальная феня, придуманная только для карманников. Везде она имела одинаковое значение, только в некоторых регионах варьировалась. К слову сказать, всеми ими в свое время я овладел в совершенстве. И думаю, будет нелишним в конце этой книги дать маленький словарь этой фени.
Термез того времени напоминал большой караван-сарай – кого здесь только не было. Однажды возле духана за кирпичным заводом я разговорился с одним старым таджиком: нам нужен был хороший терьяк для отправки в Андижан, в крытую, и на «Караул-базар» в зону – там, кстати, был единственный в Узбекистане особый режим. Засомневавшись в качестве товара, я сказал об этом погонщику. Он молча повел нас к еще не развьюченным ишакам, которые стояли за оградой в стойле, и, чуть прищурив и без того узкие глаза, сказал нам: «Посмотри, могут эти ишаки быть коммунистическим видом транспорта?» И, ловко нагнувшись, достал откуда-то из-под хурджина сверток, весь пропитанный маслом, в котором был завернут чистый афганский терьяк. Здесь, в Термезе, я даже встретил своих земляков, золотых дел мастеров. Много среди них было пограничников и чекистов. И что удивительно, чекистов было больше, чем милиции. То есть внутренние проблемы, видно, тогда отодвигались на второй план перед внешним врагом, коим считался Афганистан и весь капиталистический мир в целом. Тогда еще наши войска не вступали в Афганистан, кругом был мир и относительное спокойствие. После одной из поездок, когда мы возвратились назад в Самарканд, а жили мы в то время все вместе в одном частном доме, возле фабрики 8 Марта, меня ждало письмо из дома. Я сразу понял, что известия в письме важные, так как почерк на конверте был материнский. В письме мать писала, что бабушка находится в тяжелом состоянии, и, будучи медиком, она была уверена, что долго ей не протянуть.
Заканчивалось письмо такими словами: «Если ты еще совсем не потерял совесть, то приезжай повидаться, а возможно, и проститься, с человеком, который тебя воспитал, она тебя ждет». Такое письмо я, естественно, не мог проигнорировать. Провожала меня в аэропорту вся бродяжня, с которой я последнее время жил и воровал. Ляля даже прослезилась, что с ней бывало очень редко. Мы друг другу ничего не обещали, уже наперед зная, что судьба все равно сделает по-своему. И кто бы мог подумать или предположить, что в следующий раз я смогу ступить на эту землю лишь 18 лет спустя. Но это особая глава в моей жизни, и о ней я расскажу позже, а пока, простившись со всеми чисто по-жигански, я сел в самолет и уже через несколько часов был в Баку. А еще через час мчался на такси в Махачкалу и уже вечером был в объятиях своей бабушки, которая, лежа в постели, прижимала меня к своей груди и тихо плакала. С моим приездом мою бабулю будто подменили. Через несколько дней она уже поднялась с постели, а еще через неделю была почти здорова и отпускала всякие шуточки в адрес пессимистов. Бывает такое в медицине, когда встреча с родным человеком замедляет процесс болезни, а порой и останавливает его. В общем, так или иначе, а бабушка моя была здорова. Мать моя хотя и была медиком, но была глубоко верующим человеком, она, естественно, причисляла выздоровление бабушки к воле Всевышнего, а потому заставила меня поклясться, что никогда больше я не возьму ни у кого ничего чужого. И если я нарушу свою клятву, то Бог тут же покарает меня. Чтобы не обидеть мать, я, конечно, дал ей такую клятву, в душе же не веря ни в Бога, ни в черта. Так мне тогда казалось. Впоследствии я понял, что данную клятву действительно нужно держать, ведь сделка с Богом чревата самыми страшными последствиями. Прямо перед Новым, 1971 годом, 17 декабря, я сел, и, как я писал ранее, в скором времени умерла моя бабушка, случайно услышав от моего пьяного отца, что внук ее вор и сидит за это в тюрьме.
Часть VII
Странствия и между прочим женитьба
Честность – прекрасная вещь, если кругом все честные, а я один среди них жулик.
Гейне
Глава 1
Лагерь в Орджоникидзе
Человек, попавший в тюрьму, даже если он знал, что не сегодня завтра его могут лишить свободы, чувствует себя зверем, попавшим в капкан. Мозг его работает в двух направлениях: во-первых, как выбраться из этого капкана, вплоть до того что он готов отгрызть себе лапу, и, во-вторых, как лучше обустроиться в этих, ничего общего не имеющих с человеческими условиях. Что же касается душевного состояния… Во времена далекой древности человеку при очень серьезных ранениях делали надрезы либо на руке, либо на ноге. Организм, таким образом, на некоторое время переключался на ту боль, которая была ему причинена только что, и тогда лекарь получал возможность обработать серьезную рану. Проще говоря, боль отвлекали болью. То же самое происходит и в душе арестанта. Все жизненные невзгоды и проблемы, которые могут возникнуть на воле, меркнут перед ужасом заключения под стражу. И даже если на свободе человека постигло большое горе, тюрьма посодействует в его быстром выздоровлении, как бы парадоксально это ни звучало. Боль, связанная с тюремным бытием, отвлечет человека от любых бед, которые случились с ним или его близкими вне тюрьмы. Махачкалинская тюрьма начала 70-х годов ничем не отличалась от других тюрем страны, за исключением, пожалуй, некоторого рода нюансов регионального характера. Но эти отличия могли увидеть только те, кто уже побывал в заключении, и поэтому могли делать соответствующие выводы. В зависимости от принадлежности арестанта к определенной ступени иерархической лестницы в преступном мире можно было видеть разное проявление чувств и эмоций. Если они выражались только в виде устных жалоб, без нарушения тюремного устоя, то это было мужицкое проявление недовольства. Если же заключенный вел себя дерзко и без каких-либо уступок отстаивал интересы других зеков, а также учил их, как нужно правильно вести себя в тюрьме, то это были люди из воровской масти. В большинстве случаев к ним прислушивались, но иногда бывало, что и коса находила на камень. Однако все же основная масса понимала, что справедливость, порядок и дисциплина, к чему призывали эти люди, были необходимы в этих условиях. Национализм – этот главный бич не только преступного мира, но и человечества в целом – здесь проявлялся крайне редко. Возможно, из-за того, что в Дагестане живут люди многих национальностей. Главными критериями оценки человека были стойкость, смелость, смекалка, все остальное отодвигалось на второй план. Сила также не играла главной роли, на этот счет в заключении даже бытовала поговорка: «И слона в консервную банку закатывают». В основном, конечно, больше всего неприятностей происходило с сельскими людьми. Выросшие, как правило, в горах, они никогда ни в чем не имели ограничений, и поэтому очень тяжело переносили тюремное бытие и никак не хотели мириться с устоями тюремного общества. Но обычно уже в первые полгода они перевоспитывались, а впоследствии их было не узнать. В общем, как я и писал выше, тюрьма Махачкалы ничем особым не выделялась среди заведений подобного рода. После моего первого заточения в эту тюрьму прошло десять лет. По большому счету, здесь ничего не изменилось, только крытого режима уже не было. Ну и некоторые незначительные перемены произошли, о которых не стоит упоминать. Так же как и десять лет назад, пробыл я здесь недолго, около шести месяцев, а летом 1972 года меня перевели в лагерь общего режима в Орджоникидзе, поселок Дачный, где мне предстояло отбывать два года. После того как этап впустили в зону, в течение нескольких дней, как обычно, пришлось знакомиться с ней и, как ни печально было признать, но это не лагерь, не обитель каторжан, а раковая опухоль на теле преступного мира. Здесь процветал полный беспредел во всех его проявлениях и ярый национализм. За людей признавались только представители трех наций: дагестанцы, чеченцы и осетины. И хоть это был осетинский лагерь, но в разборках они значительной роли не играли. Если и происходили какие-либо противостояния, то в основном между дагестанцами и чеченцами. Русские признавались только в том случае, если они были коренными жителями Кавказа, да и то если они что-то из себя представляли, все же остальные подвергались всякого рода издевательствам, вплоть до изнасилований. Я много слышал на свободе о лагерях общего режима, сам интересовался некоторыми вещами, потому что знал: рано или поздно и мне не миновать этих стен. Знал, конечно, и то, что почти все эти лагеря за исключением некоторых лагерей Грузии были беспредельными. Это происходило из-за первоходочников – основной массы контингента общего режима. Наркотики здесь не переводились, в каждом отсеке были гитары, водка, анаша. Кто как хочет, тот так кайфует. Захочешь подраться, дерись хоть каждый час, даже для этого дела в лагере было выделено определенное место. И все это происходило в то время, когда в любом другом лагере за найденную пачку чая могли посадить в бур.
Есть у меня старый кореш, Сомярой кличут, сейчас он уже дедушка, живет, кстати, по соседству со мной. Также как и я, он отдал свою жизнь преступному миру и тоже пару десятков лет отмотал, но отсидел достойно, как и подобает бродяге. Так вот, за тот период времени, что мы с ним пробыли в зоне в Дачном, больше нас в карцере не сидел никто. На администрацию в зоне грех было жаловаться, но, как говорится, в семье не без урода. Так вот, было там два надзирателя, о которых стоит немного рассказать – исключительно из личной «симпатии» к этим служителям Фемиды. Одного из них звали Дуркес, у второго было не менее оригинальное прозвище – Могила. Я уверен, что даже те, с кем они работали не один год, их настоящих имен не знали, так к ним прилепились эти прозвища. Дежурство Дуркеса начиналось именно с нас, то есть с нашей с Сомярой изоляции. Шла проверка по карточкам, и, как только зачитывались наши фамилии – Зугумов, Самадов, – Дуркес тут же нас останавливал, и мы ждали окончания проверки. Затем он водворял нас на всю ночь в изолятор, правда, давал полпачки махорки. «Когда вы здесь, на душе у меня спокойно и я могу хоть немного отдохнуть, не ожидая от вас подвоха», – говорил он. И так продолжалось весь срок. Конечно, его слова были не беспочвенными, но все же это был самый натуральный произвол, к которому мы уже давно привыкли. Могила, в отличие от Дуркеса – осетина, был русским. Но способы его издевательств больше походили на кавказские. Оба эти стража лагерного порядка были старшими по нарядам, к тому времени они проработали уже долгое время в системе ГУЛАГа, и, когда попадали в изолятор я, Сомяра или наши единомышленники, они бросали все свои дела и специально приходили поиздеваться над нами. Откровенно говоря, по сравнению с тем, что я повидал ранее, карцер лагеря в Дачном был более терпимым, кстати, назывался он чулан. Это была небольшая, почти квадратная комната: ровно девять шагов вдоль и чуть меньше поперек. Посередине два пенька, на которых можно было сидеть, но всего лишь одной ягодицей. Правда, пол был деревянный, но другим он и не мог быть, так как на нем спали все, кто был сюда помещен. В углу, слева от входа, стояла параша, а на стене противоположной двери – две решетки, сплошь покрытые железом, с просверленным в них множеством дырочек, но очень мелких. Иногда трудно было понять, глядя в эти дырочки, день сейчас или уже ночь. Карцер всегда был забит до отказа. Зимой было еще терпимо, спина к спине мы умудрялись как-то кемарнуть часок-другой, да и вещи наши нам оставляли, но вот летом это был сущий ад. Что ощущает человек, когда ему на рану сыплют соль? Приблизительно то же самое испытывали мы, когда эти два садиста умудрялись удваивать наши муки. Двери в чулане были двойные: одна решетчатая, другая сплошная. Надзиратели открывали сплошную дверь, чтобы не было видно, но хорошо слышно, и ставили два ведра, одно с водой, другое пустое, и заставляли кого-нибудь из осужденных непрерывно переливать воду из одного ведра в другое. По закону воду обязаны были давать в любое время, когда бы мы ни попросили, но нам давали один раз в сутки, и то вечером. Представьте себе до отказа набитый карцер, пот льется градом, растрескавшиеся губы, высохшие глотки, вонь, смрад, – вот в таких адовых муках проходил у нас день. Но этим надзиратели не ограничивались и постоянно вносили новшества в свои изуверские методы. Самым большим нарушением режима в лагере в то время считался отказ от работы. В лагере была промзона, где сколачивали ящики разных размеров, было еще маленькое мебельное производство, ну и мелочи – разного рода товары ширпотреба. Помимо этого, выводили за пределы зоны, под конвоем разумеется, на строительство птицефабрики и новой зоны, которая вырастала рядом с нашей. Так вот, всех нарушителей режима записывали для работ в новой зоне.
Лагерная администрация того времени слишком хорошо знала нравы преступного мира. Уважающий себя человек никогда не будет строить себе лагерь, и мы считали ниже своего достоинства выходить на этот объект. Но мы уже знали тактику легавых в подобного рода мероприятиях. Стоило только выйти, и ты никто. Вот поэтому-то карцер был нашим домом и в прямом, и в переносном смысле. Больше чем на 15 суток сажать в карцер не имели права, но администрация и здесь, как, впрочем, и во всех лагерях того времени, придумала оригинальный способ ломать волю тех, кто не желал мириться с их режимом. Сажали через «матрац». То есть давали возможность переспать одну ночь в зоне, а затем снова водворяли в карцер. И так, пока не кончатся очередные 15 суток. Альтернатива, конечно, была, но, естественно, с красным оттенком. Стоило лишь постучаться в дверь, и твои муки, связанные с карцером, кончились бы. Кормили через день, но, я думаю, нетрудно догадаться, каким скудным был паек. Но и этого им, видно, было мало, а потому эти два мерзавца постоянно старались разнообразить способы перевоспитания. Так, открывали одну из дверей, только теперь уже ставили не ведра с водой, а керогаз. На нем стояла раскаленная скворода с огромным куском сала, издавая шипение и треск. Ну а запах? Тяга всего изолятора была направлена в сторону карцера, и можете представить, что мы при этом испытывали. Думаю, эти несколько примеров из огромного числа методов, которыми так славилось наше правосудие, нарисуют живую картину происходящего в ту пору. Больше трех раз по 15 суток почти никто не выдерживал, бывало, что арестантов выносили на носилках и тут же помещали в санчасть. В основном диагноз был один: истощение. Ну а если у кого-то обнаруживали что-то серьезное, то везли в областную больницу, которая находилась тоже в лагере, так называемом Лесозаводе. Лагерь размещался в самом городе Орджоникидзе, рядом с цинковым заводом, режим здесь был строгий. Однажды и меня, приморенного и изможденного, на носилках доставили на Лесозавод, у меня была желтуха в запущенной форме. Здесь уже начальство шло на некоторые уступки тем, кто пострадал от их чрезмерного усилия в нашем перевоспитании. Разрешались лекарства, привезенные из дома в любом количестве, были и другие послабления, мне даже разрешили лишнюю передачу с пятью килограммами сахара, когда приехала моя мать. Естественно, после приезда матери, ее хлопот, а оставалась она в городе до тех пор, пока ей не сказали, что моя жизнь вне опасности, я пошел на поправку. К сожалению, свидание нам с матерью не дали, аргументируя моей болезнью, но это была, конечно, отговорка. Никому из родных, кто мог как-то помешать их произволу, свиданий с нами не давали. За два года, что я провел в стенах этого лагеря, я дважды был на общем свидании по два часа каждое, да и то в самом начале срока. Все остальное время я был лишен его. Поправлялся я быстро, но еще еле ноги передвигал, слаб был. Но все же ночью почти каждый день я пробирался в зону, конечно не без помощи единомышленников, ибо санчасть находилась на территории лагеря, огороженная со всех сторон забором с колючей проволокой. Здесь, на строгом режиме, люди жили совсем по-другому, а точнее, как и положено арестанту жить в лагере. Не было ни беспредела, ни национализма. Лагерное общество, как и положено, делилось на три масти, и поэтому здесь был порядок. Нас, пострадавших от режима администрации, лагерная братва встречала всегда очень тепло и дружелюбно, по-братски. Все объясняли, всем, чем могли, делились, помогали буквально во всем. Я поначалу даже не чифирил со всеми из одной кружки, боясь заразить их, но меня тут же так осадили, что я на всю жизнь это запомнил. Чуть позже читатель поймет, почему я вспомнил именно об этом эпизоде. В общем, никто не брезговал, никто ни от кого не боялся заразиться, это были действительно бродяги без примеси. К слову сказать, в то время Лесозавод считался одной из самых лучших зон в стране во всех отношениях, а такой показатель не мог не радовать братву, которая здесь сидела. Но, к сожалению, и тут я недолго задержался, а точнее будет сказать, опять фортуна повернулась ко мне задом. Начальником всей санчасти, включая больницу, была одна армянка, майор, по-моему, звали ее Сусанна, зато какое у нее было знатное прозвище – Армянская королева. Каторжане подчас бывают большими шутниками и выдумщиками, и, глядя на этого мужлана в юбке, это подтверждалось весьма красноречиво. Исключительно из-за уважения к белому халату я не хочу награждать майора соответствующими эпитетами, но одно все же было неоспоримо: внешние данные являлись прямым дополнением к ее внутренним качествам. Однажды во время обхода зайдя ко мне в палату, она сказала: «Хватит, Зугумов, ты мне надоел. Я устала все время слышать твое имя, собирайся на этап. И если я услышу хоть одно слово в оправдание, будешь ждать этап в карцере». Я был больше чем удивлен. Дело в том, что за все пребывание в больничке я ни разу даже не заходил ни в один кабинет, ничего ни у кого не просил и вообще, кроме нянечки-старушки, которая ухаживала за мной, когда я почти не мог ходить, я ни с кем из персонала больнички не общался. Как тут было не возмутиться? В общем, меня закрыли в карцере до очередного этапного дня и вскоре отправили снова на Дачный. Выглядел я неважно, но, откровенно говоря, чувствовал себя неплохо. Однако вида я, естественно, не подавал, наоборот, старался показать, что я еще нездоров. К тому времени до свободы мне оставалось что-то около пяти месяцев. Но главное, чего я побаивался, был изолятор. Там строился новый бур, этакая цементная коробка. Поговаривали, что один из первых шести кандидатов туда – это я, но я как-то не верил, и, как время показало, зря, ведь недаром говорят: дыма без огня не бывает.
И когда я уже совсем было забыл об этом, тут-то меня и определили в изолятор. Нас шестерых, как бы первых подопытных кроликов, закрыли в этом цементном аду. Оставалось мне до свободы чуть больше трех месяцев, у всех остальных срок был впереди. Но считать, что мне в этом плане повезло больше всех, было бы просто неприлично. Я не стану описывать сам бур, потому что у читателя еще будет возможность в следующих главах узнать все, что касается этого серого и зловещего помещения. Хочу лишь заметить: когда я освобождался, а за мной приехали родители, моя бедная мать была в шоке. Было 17 июня, на Кавказе это самый разгар лета, я же был бледный как мел. Когда мать выразила свой протест начальнику, тот ей сказал: «Счастье ваше и вашего сына, что у него так быстро кончился срок, еще бы годик, и навряд ли вы увидели бы его вообще». И от гнева его оплывшее жиром лицо стало трястись, как у кабана, когда он роет листья, ища желуди. О чем было матери говорить с ним? Кстати, об этом диалоге с Хозяином я узнал только дома.
Глава 2
Женитьба
Теперь на свободе главными лекарствами для меня, по мнению моей матери, должны были стать солнце, море, свежий воздух и плюс ко всему хорошее питание. Всего этого у нас в Махачкале всегда было в избытке, слава богу, и уже через месяц меня было не узнать.
Почти сразу после освобождения я познакомился со своей будущей женой Аидой и, недолго думая, сделал ей предложение. Не знаю, любил ли я ее, скорее всего, мне так только казалось. Если бы любил, то, думаю, в дальнейшем не вел бы так непорядочно по отношению к ней. Отец ее тоже сидел – почти всю жизнь, она его, можно сказать, не видела, воспитывали ее дядя с женой, кстати сказать, прекрасные люди. Мать Аиды жила в горах с другим мужем. В общем, я решил, что мы с ней прекрасная пара во всех отношениях. Свадьба наша была великолепна, до сих пор воспоминание о ней не стерлось из моей памяти. Прошло чуть больше месяца после этого знаменательного события, как я получил письмо из Москвы от Ляли. Моя семейная жизнь была недолгой, так как на следующий день после получения Лялиного письма я стал готовиться в дорогу, никому ничего не сказав. За те два года, что я находился в лагере, Ляля дважды приезжала ко мне на свидание, и оба раза ей это удавалось. Хотя свиданий с родными, как я писал ранее, меня все время лишали. Но здесь мне удивляться было нечему, я знал способности своей подруги. Первый раз она приехала из Самарканда вскоре после того, как меня посадили, и второй раз срочно вылетела из Москвы, когда узнала, что меня, больного, вывезли на Лесозавод. В заключении всегда главное не способы и пути отправки вестей о себе, а то, чтобы вести эти воспринимались должным образом. И здесь я мог целиком и полностью положиться на Лялю, моего верного и преданного друга. Что же касается писем, то приходили они от нее регулярно, из чего я знал обо всех новостях, меня интересующих. Естественно, она не знала, что я женился, иначе, думаю, не позвала бы меня в столицу. И выбор, как читатель понял, пал на «бубновую даму». Бывают ситуации, когда человек поступает настолько странно и неожиданно, что порой и сам не может найти этому объяснение. Никому ничего не сказав и даже не оставив записки, в первых числах сентября я выехал в Москву. Как сибариты, увлеченные красотой Клеопатры, последовали за ней в Ациум и добровольно погибли за нее, так и я пошел бы в огонь и в воду за своим верным и преданным другом. И по ее первому слову без колебаний, без промедления, я бы даже сказал почти без сожаления, бросился бы вниз с самой высокой горы Дагестана. Вот так я бросил свою молодую жену, с которой прожил всего месяц и одиннадцать дней в доме моих родителей, да еще и беременную. Но об этом, к большому сожалению, я узнал гораздо позже, в лагере, когда сидел под раскруткой на станции Весляна в Коми АССР. К сожалению, за мою долгую и непростую жизнь я совершал довольно много поступков, которых потом стыдился. Но Всевышний, как правило, мужчинам таких проступков не прощает, и потом за все приходится платить.
Прибыв в Москву, я сразу почувствовал себя как рыба в воде. Я как-то писал в одной из предыдущих глав, что тот, кто однажды побывал здесь, стремится сюда вернуться. Как бы ни ругали Москву всякого рода лапотники и плебеи, второго такого города нет.
Ляле я, естественно, насчет своей женитьбы ничего не сказал. Накануне моего приезда она получила письмо от Дипломата, где он писал, что они с Карандашом находятся в Коми АССР. Передавал большой привет нам с Пашей, кстати, Цируль тоже со дня на день должен был приехать в Москву. Ему пришлось два года отсидеть где-то в Грузии. В общем, жизнь входила, по нашим меркам, в свое обычное воровское русло. Но, как поется в песне, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал… В то время нам очень нужны были деньги, и не просто деньги, а много денег. Два дня бесплодных поисков не увенчались успехом, и мы решили нырнуть в центр. Обычно в центр направлялись залетные и молодые ширмачи, не заботясь о том, что там, где можно снять хорошие деньги, всегда есть и хорошая охрана. Там они и попадались. Здесь работали несколько опергрупп с Петровки. Так что путь сюда ширмачам, по большому счету, был заказан. Но нам нужны были деньги, и как можно быстрее. Это касалось чисто воровских дел, о которых я не имею права писать. Объектом наших наблюдений, после многочасового обхода ГУМа, ЦУМа и прилегающих к ним магазинов и ларьков, стал Петровский пассаж, а точнее, ювелирный отдел этого торгового колосса. Здесь с утра ломился народ. В очередях в основном, конечно, были женщины. С врожденной сноровкой, как волк с волчицей, мы обнюхали каждый закуток, где, по-нашему, могли притаиться охотники, но их нигде не было видно. Это было ненормально, но мы все же решили «работать», уповая на ловкость своих рук и кусочек фарта. Но, видно, фортуна сегодня решила сыграть с нами злую шутку Уже несколько минут я наблюдал за одной очень импозантной дамой в красивом и, разумеется, дорогом прикиде, да и на вид она была недурна собой. Если бы дело происходило в Лондоне, я бы сказал, что она была леди. Кстати, впоследствии я не ошибся в своей оценке. Но главное было то, что она держала под мышкой лаковый ридикюль, в который только что положила туго набитый кошелек. Она стояла возле прилавка, кого-то выглядывая через головы. Момент был самый что ни на есть подходящий. В мгновение ока я оказался рядом с ней. Сделать правильный надрез углом и выволочь наружу гомонец было для меня делом одной – от силы двух секунд. И в другой момент, когда я уже хотел передать пропуль Ляле, меня в позе ласточки, с зажатым в руке кошельком, поволокли в дежурную часть, которая находилась здесь же, в магазине. Пришлось вспахивать носом пол этого злосчастного пассажа, который остался в памяти одной из черных страниц моей жизни. Я не раз на себе испытывал бульдожью хватку этих профессионалов с Петровки, но всегда ухитрялся что-то предпринять. На этот раз понял: я гусь приезжий. К сожалению, шансы выбраться из цепких лап легавых были равны нулю. Просчитав все это, я понял, что главное – это отмазать любыми путями Лялю, так как увидел, что через несколько минут какой-то оперок завел ее в контору. Я поневоле залюбовался ее игрой, а присмотревшись повнимательнее, понял, что Ляля призывает меня сыграть с ней дуэтом. И мы тут же разыграли спектакль, где я был залетным, ширмачом-верхушником, а она – проститутка с уголка. Мы его разыграли с таким блеском, что, я уверен, нам мог бы позавидовать любой театральный режиссер. Но я свободно вздохнул лишь тогда, когда на виду у всех Ляля сказала мне вульгарным тоном: «Чао, фраерок, воровать – это плохо, и за это сажают в тюрьму, больше не воруй». «Уж ему-то придется отсидеть там этак лет пять», – сказал один из ментов, легонько подталкивая ее к выходу. И надо было видеть ее глаза, глаза отчаявшейся волчицы, которая, только что сумев избежать капкана, с болью смотрела, как забирают молодого волка из ее стаи. Забыть эти глаза и этот взгляд – значит сказать, что ты не жил. Тем более, как оказалось, видел я Лялю в последний раз в жизни. В себя я пришел, только когда очутился в МУРе, куда был доставлен все той же старшей опергруппы по фамилии Грач. Нам крупно повезло, что в момент, когда мы давали с Лялей спектакль, ее не было рядом, иначе нам бы пришлось чалиться вместе. Как эта Грач рвала и метала, когда узнала все, это надо было видеть. Но потом, видно, взяла себя в руки, успокоилась и предложила мне перед отправкой в тюрьму поговорить у нее в кабинете в МУРе. К такому общению с профессионалом из противоположного лагеря частенько прибегали зубры уголовного розыска с Петровки, 38 того времени. Вот так мне пришлось перевернуть эту грустную страницу моей жизни. Трое суток пробыл я в 64-й КПЗ и 7 октября 1974 года впервые переступил порог Бутырского централа, пробыв на свободе всего 3 месяца и 17 дней.
Недавно на книжном прилавке я увидел книгу, автором которой был бывший надзиратель Бутырок. Он так их подробно описал, как это мог бы сделать только хороший хозяин, у которого есть дом и свое подворье, не забыв о самых потаенных и укромных уголках. Так что, думаю, будет излишним и мне пускаться в описание этой тюрьмы. Что же касается того, что было характерно для Бутырок того времени, об этом, пожалуй, вкратце стоит рассказать читателю. Хозяином Бутырок в то время был Подрез, ярый и бескомпромиссный мент, но справедливый. Он считал, то, что положено по закону, – это ваше, все же остальное противозаконно, а значит, подлежит конфискации. Примерно под таким девизом он и хозяйничал в тюрьме. Почти в каждой камере половина мест была свободной, правда, и тогда, как и сейчас, основной контингент заключенных в Бутырках состоял из залетных. Да и сами люди были другими. Не было никаких «лиц кавказской национальности», ни пиковых, ни бубновых, все были только крестовой масти. Вообще национализм, как таковой, не приветствовался, а тот, кто начинал выступать по этому поводу, строго наказывался братвой. Независимо от национальности зека или его вероисповедания главным было исполнение им тюремных канонов. Попал я по распределению в третью камеру на первом этаже. Встретила меня босота, как и подобает встречать бродягу, чисто по-жигански. Пивнули, приклюнули, о жизни нашей босяцкой прикололись, в общем, через пару часов у меня было такое ощущение, что я вообще не покидал тюремных пенатов, только лишь из одной тюрьмы перевезли в другую. Бродяга, вошедший в камеру, в первую очередь интересуется: есть ли в тюрьме урки? Воры, конечно, там были, в Бутырках вообще не бывает, чтобы не сидел кто-либо из урок. Помимо Монгола в этой тюрьме отбывали срок Гамлет Бакинский, Иван-рука и Тенгиз Тбилисский.
Что же касается режима, то, мягко говоря, он оставлял желать лучшего. Как только звенел звонок отбоя, все должны были находиться на своих шконарях под одеялами, но не закрывать головы. Самым крупным нарушением считалась не игра в карты, как обычно в других тюрьмах, а переговоры с другими камерами. И поэтому надзиратели даже у окна стоять не разрешали. Вообще после нескольких устных замечаний арестантов водворяли в карцер. Карцер, правда, больше десяти суток не давали, но и их нужно было отсидеть. Обычно выходя оттуда, шли по-над стенкой, держась за нее. Каждый, кто брал бразды правления в Бутырках, старался разнообразить рацион наказаний. Малейшее неповиновение – и тут же бежали «веселые ребята», так ласково окрестили узники спецнаряд Бутырского централа. Это не был ни ОМОН, ни спецназ, это было детище самой тюрьмы, они здесь жили, они здесь распоряжались по своему усмотрению. Чуть ослушался – и тебя могли так быстро проволочить до карцера, что даже пятками пола можно было ни разу не коснуться. В общем, ребята свое дело знали туго. Но что удивительно, при всех строгостях закона, жестких правилах самой тюрьмы заключенные, как правило, были солидарны и сплоченны. Выше всех качеств ценилась тогда порядочность, к какой бы ты масти ни принадлежал. Бытие порождает сознание. Как бы ни была парадоксальна эта фраза в применении к зекам, но она очень точно определяет характер и поступки каторжан ГУЛАГа. Что касается питания, то, откровенно говоря, от нынешнего оно мало чем отличалось. Тот же горький, вязкий хлеб бутырской спецвыпечки и почти та же похлебка. В месяц разрешался на десять рублей ларек, если у тебя были деньги, и одна передача – пять килограммов, опять же если этих радостей ты не был лишен. Через несколько дней после водворения в тюрьму я получил от Ляли передачу и деньги на ларек, а точнее, квиток. Кроме родственников, записанных в деле, никто не мог ни прийти к тебе на свидание, ни передать передачу – с этим было строго. Но я знал, что изобретательности Ляли не было предела. Мало того, в передаче была спрятана маленькая записочка с несколькими строками: «Не грусти, сделаю все, что возможно и невозможно, целую. Ляля». Надо ли говорить, какой прилив сил придал мне этот маленький клочок бумаги. Главным стимулятором моего хорошего настроения, конечно, были чья-то забота и внимание. Все остальное было, конечно, тоже немаловажно, но отодвигалось на второй план.