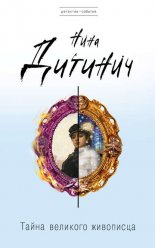Москва – Петушки. С комментариями Эдуарда Власова Ерофеев Венедикт

Кусково – Новогиреево
а уж потом пойду и выпью.
Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад – назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.
Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один – вермут пил, другой, кто попроще – одеколон «Свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.
А наутро так: садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.
Рано утром уже будили друг друга: «Лёха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.
Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой – пили вермут, на третий день – опять в сику, на четвертый – опять вермут. А тот, кто с интеллектом, – тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, – да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».
И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!
О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!
Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге – в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»
А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча, и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, – сказал, – вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, – и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».
О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! – Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!
И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков – известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..
И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли…
Новогиреево – Реутово
Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси – одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то, et cetera. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:
А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, потрепанный старый хрен:
А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва – Петушки»:
Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда – интересные? У одного – Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого – предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего – биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это – если видеть только внешнюю форму линии.
А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.
Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, – и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.
Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже – получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось – ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц – от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь – они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь – они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.
И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.
Как бы то ни было – меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня – снизу – сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху – лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс – послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.
– Фффу!
– Кто сказал «фффу!» Это вы, ангелы, сказали «Фффу»?
– Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!
– Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить… У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха… Вот и теперь…
– Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце…
Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! – отчеканивал рассудок. – Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну…
Реутово – Никольское
ну хоть сто пятьдесят…» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, – сказал, – хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома…»
Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках – твое спасение и радость твоя, поезжай».
«Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех – может, он и был – там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»
«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, – белого, переходящего в белесый, – эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа, будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной – о, вы такое увидите!..»
«Да и что я оставил – там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, – вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? – а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона – зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»
«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву „ю“ и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква „ю“? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он – знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».
«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока – вы уж простите меня – пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».
И вот – я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.
И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.
Никольское – Салтыковская
«Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков», – подумал я, делая тринадцатый глоток.
«Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, – омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, – но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?
Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?
Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»
«Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.
И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги делаются прямо излишними.
А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?»
«А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен – он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.
И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен… Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, – мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что меня занимает, – об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может еще отчего, но все-таки – ни слова.
Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: „Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!“ А мне удивлялись и говорили: „Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?“ А я говорил: „О, не знаю, не знаю! Но есть“.
Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.
И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво – сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем „скорби“ и „страха“. Назовем хоть так. Вот: „скорби“ и „страха“ больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, „мое прекрасное сердце“ источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! – хоть это-то поймите.
Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что „мировая скорбь“ – не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?
К примеру: вы видели „Неутешное горе“ Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое – ну, фиал из севрского фарфора, – или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, – что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она „выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра“!
Ну, так как же? Скушна эта княгиня? – Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? – В высшей степени легкомысленна!
Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?
Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание – весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем».
Смотрите, как это делается!..
Салтыковская – Кучино
Остаток кубанской еще вздымался совсем неподалеку от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:
– Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много…
Я от удушья едва сумел им ответить:
– Во всей земле… во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков – нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим… И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?
– Мы боимся, что ты опять…
– Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы… Я с каждой минутою все счастливей… и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо… как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того… какие вы глупые-глупые!..
– Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь…
– До чего не доеду?!. До них, до Петушков – не доеду? До нее не доеду? – до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы…
– Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов…
– Ну что вы, что вы! Пока я жив… что вы! В прошлую пятницу – верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать… Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля… Но сегодня – доеду, если только не подохну, убитый роком… Вернее – нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..
– Бедный мальчик… – вздохнули ангелы.
– «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?
– О нет, до самых Петушков мы не можем… Мы отлетим, как только ты улыбнешься… Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз – мы отлетим… и уже будем покойны за тебя…
– И там, на перроне, встретите меня, да?
– Да, там мы тебя встретим…
Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, – разве нуждается в жалости?
Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге… Но ведь он тут же пошел на поправку – как только меня увидел!.. Да, да… Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..
Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза – пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку – он очень любит, когда его мать затопляет печку, – оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется… А если и заболеет, – пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку…
Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар…
Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке… Я долго тогда беседовал с ним и говорил:
– Ты… знаешь что, мальчик? ты не умирай… ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная… Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?
– Понимаю, отец…
И как он это сказал! И все, что они говорят – вечно живущие ангелы и умирающие дети, – все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, – махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. «Понимаю, отец!»…
– Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» – помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик…» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак… «С фе-вра-ля до августа я хныкала и вякала, на исхо-де ав-гус-та ножки про-тяну-ла»… Ты любишь отца, мальчик?
– Очень люблю…
– Ну вот и не умирай… Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь… Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу… «На исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла…» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-надень-ка-как-ти-бе-не-стыдно-спать?»… У меня особые причины любить эту гнусность…
Я допил свой четвертый стакан и разволновался:
– Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок… Ты понимаешь?.. ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна… Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже… Она, как я, – смотрит только в небо, а что у нее под ногами – не видит и видеть не хочет… Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я – пока не рухну, вечно буду зеленым…
– Зеленым, – отозвался младенец.
– Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть… Вот и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..
– Противно, – повторил за мной младенец и блаженно заулыбался…
Вот и я теперь: вспоминаю его «Противно» и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы – и отлетают от меня, как обещали.
Кучино – Железнодорожная
Но сначала все-таки к ней. Сначала – к ней! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться влежку, и пастись, пастись между лилиями – ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!
- Принеси запястья, ожерелья,
- Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
- Я хочу одеться королевой,
- Потому что мой король вернулся.
Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница – не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза – не женщина, а волхвование! Вы спросите: «Да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?»
– Может! – говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. – В Москве – нет, в Москве не может быть, а в Петушках – может! Ну так что же, что «сука»? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно – слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.
В Петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще – была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать, не то двадцать пять. И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. «А еще? – спросите вы. – А еще что было?»
– А еще – было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.
И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем чаще разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.
Но вот ответное прозрение – я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!
– Так это вы: Ерофеев? – и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула…
– Ну, конечно! Еще бы не я!
(О, гармоническая! как она догадалась?)
– Я одну вашу вещицу – читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!
– Так ли уж выше! – я, польщенный, разбавил и выпил. – Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..
Вот – с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но – как бы то ни было – я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.
И кроме нас двоих – никого. И она – рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это – женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это – женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду!»
А она взяла – и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого, – все выдохнула. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами, – и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрогания…
Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она…………………………………?» Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она…………………….. ……………………………!
Еще бы она не………………………! Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правою рукою»! – а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище – и не могу, все промахиваюсь мимо туловища…
«Что ж! играй крутыми боками! – подумал я, разбавив и выпив. – Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть – все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!»
Так думал я. А она – смеялась. А она – подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела…
Железнодорожная – Черное
выпила – и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит, – подумал я, – если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее – содрогнется земля и камни возопиют».
А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня……………………..?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете… но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо………………………!»
Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей… До этого – сказать ли вам? – до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся – сердце останавливалось в испуге. Помыслы – были, но не было намерений. Когда же являлись намерения – помыслы исчезали и, хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.
Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне – как бы это назвать? «негу», что ли? – ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня – ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? – ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И… из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И… из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге… Но я отвлекся.
Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?
Она сама – сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения, и oт игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя – тоже что-то было. И потом – эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля – живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках – весь – влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!
Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство…
Вы мне скажете: «Так ты что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?»
А какое мне дело! А вам – тем более! Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки «пусть». Зато вся она соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебалу – ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать – дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.
Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?
Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, это все в целях самообороны и чего-то там такого женского – я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду там совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:
– Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь – лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!
А она – молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал:
– Но почему?.. почему?
Она мне – второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:
– Но почему? – заклинаю – ответь – почему???
Вот тогда-то и она разрыдалась и обвисла на шее:
– Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам – знаешь, почему, угорелый!
И после того – почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня – сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница – тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!..
Черное – Купавна
Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил…
– И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой! Ты, у которого такая есть в Петушках! И такой за Петушками!.. Одинок?
– Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, – тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, – и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной – что, не желая плакать, заплакал…
А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, – день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне – что принесли? – две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать – и уже не мог…
Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже – не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал…
Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? – будет он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.
Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, – совсем наоборот. А если смотреть со стороны – конечно…
Нет, вот уж теперь – жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» – таково мое мнение. Но уж если мы родились – ничего не поделаешь, надо немножко пожить… «Жизнь прекрасна» – таково мое мнение.
Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример: отчего это, если ты с вечера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться – служба и все такое – и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? ну, допустим, сто пятьдесят) – отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен этого, весь вечер лупили по морде? Почему?
Я вам скажу, почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не «чего-нибудь», а именно того самого, что ты пил вчера, и с паузами в сорок – сорок пять минут пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.
Вот видите – сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду!
А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша – выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?
И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом – потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.
Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было «дерзание». И – Бог свидетель – как я дерзал! Если вы так дерзнете – вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли да и не проснулись. А я – просыпался, каждое утро почти просыпался – и снова начинал дерзать.
Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой
Купавна – 33-й километр
и включительно по девятую – размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: «Надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу – тогда, может быть, начнется рецидив возмужания». Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов – я пробовал.
Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.
А ведь все раскрылось так просто! Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу, одним махом – но выпить идеально, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом – не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.
А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) – то есть мужать до того предела, за которым следуют безумие и свинство.
Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! – святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать. А вот им – на все наплевать.
Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами; попью-попью – перестану, попью-попью – опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить каждый день по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, – но ведь они-то! они!..
Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше; а на другой день – исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы, как костер, – сидите, а они через вас прыгают. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.
А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..
Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узкоспециальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте…
– Помилуйте! – кричат мне со всех сторон. – Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы…
– Вот именно: нет! – кричу я во все стороны. – Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!
Но ведь все это – не наше, все это нам навязали Петр Великий и Николай Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! В той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете: «Призвание это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».
И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам – психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!..
А мы, повторяю, займемся икотой.
33-й километр – Электроугли
Для того чтоб начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или an sich (термин Иммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, – или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть fr sich. Термин Иммануила Канта. Лучше всего, конечно, и an sich и fr sich, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое: старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.
А потом – сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.
И вы убедитесь сами: к исходу этого часа она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность е е начала: потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза et cetera. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икот удостаивает вас быть – в секундах, конечно:
– восемь – тринадцать – семь – три – восемнадцать.
Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения:
– семнадцать – три – четыре – семнадцать – один – двадцать три – четыре – семь – семь – семь – восемнадцать —
Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального – смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:
– тринадцать – пятнадцать – четыре – двенадцать – четыре – пять – двадцать восемь —
Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека – нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон – он выше всех нас. Икота – выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:
– двадцать две – четырнадцать – все. И тишина.
И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она неисследима, а мы – беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого – тоже нет.
Мы – дрожащие твари, а она – всесильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно, Он есть.
Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.
Электроугли – 43-й километр
Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.
Он благ. Он ведет меня от страданий – к свету. От Москвы – к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне – к свету и Петушкам. Durch Leiden – Licht!
Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:
– Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва – не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..
Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская – это такое дерьмо! А российская – смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..
Нет, если я сегодня доберусь до Петушков – невредимый, – я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду – напомните мне, пожалуйста.
Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до Петушков, пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора: пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки», и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.
Пить просто водку, даже из горлышка, – в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном – в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» – в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.
Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.
Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура – это всякий знает.
Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:
Денатурат – 100 г.
Бархатное пиво – 200 г.
Политура очищенная – 100 г.
Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечье называют «чернобуркой») – жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..
А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы».
В нем, в этом «Духе Женевы», нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» – это вам не «Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.
«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» – напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни…
У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», – говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», – говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» – и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.
И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»! Слушайте точный рецепт:
Белая сирень – 50 г.