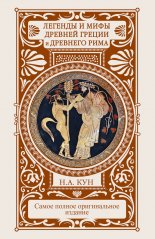Яблоко от яблони Злобин Алексей
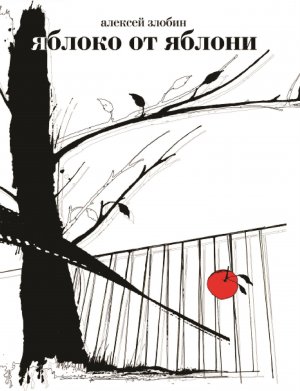
Придумал строить сцену на загадке. Гэбист так боится, что подслушают и настучат (все-таки редакция газеты!), что вынужден ежесекундно подбегать к двери, проверять «жучки» в столе и в кресле. Потом он сует Журналисту его статью с портретом Капитана, а потом – заполненное заявление, которое Журналисту надо подписать. И для зрителя, и для Журналиста поведение Гэбиста будет тревожным нарастающим ребусом, и лишь когда Журналист прочтет «свое» заявление, он возмущенно закричит. И все сразу поймут, в чем там было дело.
Артисты увлеченно размяли сцену, мы запаслись красными корочками, обрывком газеты с портретом моряка и бланком заявления, где я настрочил провокационный текст, который, по моим расчетам, должен был сильно удивить прочитавшего его артиста и подвигнуть совершить неожиданную выходку.
– Готовы? – спросил Петр Наумович.
– Попробуем, – ответил я.
Гэбист честно отыгрывал все шорохи и звуки, реально доносившиеся из коридора, подбегал к окнам и выглядывал во двор, обильно потел и тряс газетной вырезкой с портретом Капитана. Журналист внимательно следил за ним, а когда тот сунул ему статью и показал скрещенные перед глазами пальцы, сильно напугался. И вот Гэбист кладет перед Журналистом исписанный листок и сует авторучку, мол, «подпиши». Журналист внимательно читает заявление, багровеет и кричит единственную во всей сцене реплику:
– Этого мне только не хватало – понравиться гомосексуалисту! – затем выбрасывает руку в фашистском «зиг хайль» – и скандирует: «Служу Советскому Союзу!»
Комиссия сидела с каменными лицами, дама-книголюб мысленно перечитывала Библию, Петр Наумович органично вздохнул и не сказал ни слова. Компромисс между современной прозой и органическим молчанием не случился. Вместо того чтобы, шантажируя Журналиста, вырвать у него ложное признание, получилось, что Гэбист склонял Журналиста к преступной связи. Это был провал.
28 июля 1993 г.
Кто бы мог подумать… Сижу в сквере ГИТИСа – не уйти. Проигрался глупо до слез. Как все увлекательно начиналось! А теперь понял – ситуация конкурса не для меня. Как только кого-то должен побеждать – теряюсь. Я не игрок.
Как же я поступил в Петербурге? Конкурса не было. С первого дня было ясно – ни у кого не надо выигрывать, конкурентов нет. Это хорошо при поступлении, но потом – потом началась разлагающая скука.
Теперь проигрыш, надеюсь, пойдет мне на пользу. Самое скудное зло с гнильцой – подлое прозябание, основанное на взаимном признании бездарей.
Готов писать до бесконечности, лишь бы не уходить, поторчать еще в этом прожженном моими ожиданиями сквере. Надежда, нелепая вера в себя, в свою звездность, после провала топит, топит сухой лед самоуспокоения в кипятке уязвленного самолюбия, и все покрывается паром, и цели перестают быть ясными, и все окружающее становится несущественным.
Не идет из головы одна деталь. После третьего тура у Фоменко собрали всех, чтобы убедиться, что никто не забыл показаться. Объявляют список. Фоменко сидит, на все отсутствуя. А когда назвали меня, он как-то непроизвольно и брезгливо дернулся, как будто говоря про себя: «Какая глупость, что связался с ним». Тесно вспоминать этот жест. Он правдивее и ярче последовавшего за ним утешения: «Будете в Москве, звоните, приходите на репетиции, а сейчас ничего страшного не произошло».
Вернулся в Питер. Утром пришел на репетицию. Мастерская превратилась в хлев. Окурки везде, немытые стаканы, пустые коробки из-под чего-то молочного, заросшие изнутри плесенью. Посреди аудитории стол, на нем – высокая жестяная реквизитная кружка, доверху набитая заплеванными бычками.
А дома затеяли ремонт, и отец сказал: «Единственно, что успокаивает, – это последний ремонт в моей жизни». Больно.
Жара, или Сказка о потерянном времени
Умер Вадим Сергеевич Голиков. Почему-то такие известия получаешь от самых неожиданных людей. Позвонила ассистент по актерам Татьяна Комарова – оказывается, В. С. накануне снимался у Германа, на следующий день умер. Узнав о случившемся, я продолжил важный производственный разбор на съемочной площадке, потом сел в машину, что-то рассказывал попутчикам о Голикове, позвонил однокурснице Ханне в Норвегию, она теперь главреж – в разговоре превалировала внезапная радость слышать друг друга. Когда уже доехали и в ночном магазине выбирал водку, чтоб выпить за Вадима Сергеевича, стало горько и грустно, и я понял, что у меня горе. Жил-был человек, он называл меня Женей. Вот нет теперь его. Путаются мысли.
Он говорил нам: «Не ссорьтесь, у вас никогда не будет людей ближе друг другу, чем вы». Так не случилось. Вадим Сергеевич, я рад, что позвонил вам в Новый год и поздравил – не так стыдно. И я очень обрадовался, услышав вас по телефону. Приходит горькая догадка – ведь мог бы радоваться чаще.
На третьем курсе я снова решил уходить…
– Женя, фу ты, Лёша Злобин, вы что, спите?
– Я не сплю, Вадим Сергеевич, вы закончили на том, что во Владивостокском драмтеатре директор вам сказал…
И Вадим Сергеевич, называвший меня Женей, продолжал свой рассказ. А я снова засыпал с открытыми глазами.
Он был добрый интеллигентный человек, но он не занимался с нами ремеслом, мы профессию не осваивали, мы о ней говорили.
И завидовали только что набранному курсу молодых режиссеров. Их два месяца выбирал Мар Сулимов, ощупывая и проверяя каждого, измучивая абитуриентов потоком этюдов, написанием режиссерских экспликаций. В результате он взял только шестерых из нескольких сотен поступавших. Режиссер – профессия штучная.
А нас, прекрасных, за последние три тура осталось из четырнадцати двенадцать + одна вольнослушательница. Шесть мальчиков и семь девочек, мы ругались в каптерке, кому мыть посуду и выбрасывать окурки. Никто, за редким исключением, не состоялся в профессии, оказался нежизнеспособным, и хорошо, если не винит судьбу, а честно дышит на иной стезе.
Набрав курс, Мар Сулимов умер. Ректорат пошел на поклон к Александру Александровичу Музилю, старейшему педагогу, «последнему из могикан», ему было уже 84 года, и он только что выпустил свой последний режиссерский набор. Музиль решительно отказался, ректорат и осиротевшие студенты-новобранцы «встали на колени».
Тем летом отец с матерью ездили знакомиться с внуком Женей. Отец, кажется, был безразличен. Что его угнетало: подступающая болезнь, вынужденное бездействие – тюрьма обстоятельств? Острое чувство невостребованности, еще бы: на его глазах разваливалось Ленинградское телевидение, которому он посвятил двадцать пять лет жизни. Казалось, началась перестройка, гласность, сейчас-то и будет возможность реализовать все накопленное и нереализованное. Он и его ученик Роман Федотов успели сделать прекрасный телеспектакль «Ричард II» с Александром Романцовым и Николаем Лавровым в главных ролях. Но вдруг все резко закончилось: вернувшиеся из отпуска сотрудники телевидения пришли на работу, а их не пускают. Студия оцеплена ОМОНом, висит объявление, что тех, в ком студия заинтересована, переведут на контракты, остальным – «до свидания». Три «скорых» увезли с улицы Чапыгина трех заслуженных работников. Отцу всучили какую-то политическую передачу – это после Шекспира-то! А потом передачу закрыли, платили небольшую зарплату, но работы не давали.
Мысли разбегаются, не поймать. Сижу на балконе, обхватив башку руками, – решительно не помню, зачем проснулся.
– Лёшка, желаю тебе по случаю рождения, чтобы завалило работой, завалило так, чтобы не думать, – чье-то поздравление с утра, не помню чье.
Ужасная жара стоит над Москвой уже неделю.
Женя-дед идет со встречи с Женей-внуком. Автобусов нет, ноги не слушаются. Остановился передохнуть. Подступающая болезнь и постоянная тревога – он не работает: не ставит спектакли, не учит студентов, не снимает передачи. Раз в месяц ходит за подачкой-зарплатой и сутками сидит дома. И уже не понятно – болезнь от тревог и бездействия или наоборот. Его все угнетало, он стремительно старел, и тут позвонил Музиль.
Когда на дипломе в театре на Волге я из постановщиков попал в ассистенты, отец писал, чтоб морально поддержать, как трудна роль «второго». Как важно точно уловить психологию «второго», как он двенадцать лет был «вторым» у Музиля. Эти годы с восторгом вспоминают три режиссерских курса, разные главрежи театров страны, и благодарят отца. Этого он не написал, это я сам слышал от его учеников-режиссеров. «Как важно научиться психологии „второго“, и как важно при этом не потерять себя». Они с Музилем пятнадцать лет не слышали друг друга:
– Алло, Женя?
– Да, кто это?
– Сан Саныч. Женя, слушайте, мне тут сунули курс, а второго педагога нет, все так внезапно, и я, конечно, сразу позвонил вам. Вы свободны сейчас?
– Конечно.
И у отца тут же перестали болеть ноги, он танцевал, позвал маму и меня и плясал, что-то весело напевая, он помолодел на те …дцать лет, что они не виделись с Музилем. На следующий день, резко встав со стула, он упал, ударился головой. Все определилось само собой – все несводимые аргументы, не ловящиеся за хвост мысли, вся необъяснимость жизни, эта психология «второго», этот страх признать себя неудачником.
Неудачником? Природа щедро одарила его талантом, и не только художественными способностями и мощной режиссерской доминантой, которую в бездействии приходилось подавлять, но исключительным педагогическим даром, удивительным искрящимся остроумием, чувством юмора, легкостью и глубокой добротой сердца. Но подавляемая бурлящая энергия, ощущение несостоятельности, обида…
Я тоже был вторым, у Германа. Как-то в минуту ссоры он сказал: «Я думал тебе помочь. Твой отец был самый талантливый на курсе – самый. Но из него ничего не вышло». Вот, думал, никогда не прощу этого Герману. Простил. И благодарен – горькие слова полезней сладких. Нет никакой «психологии „второго“», есть профессия, и все.
Я с равным восхищением и нежностью вспоминаю репетиции отца, его озаренность в работе и наши разговоры, вернее, его монологи – рассказчиком он был гениальным. И Германа я любил в первую очередь – что отца напоминал, что одного круга, – он другой, но из той же связки: «Ты сын моего сокурсника, и я приглашаю тебя на площадку»… Это и было для меня пропуском, то есть не почему он, Герман, меня позвал, а почему я пошел: быть рядом с отцом, когда его уже не было рядом. Но чаще вспоминаются не репетиции отца, не его монологи, а то, как он кормил птиц по утрам, как мог заговорить с собакой на улице, как дурачился по телефону: «Алле, на проводе! Дорогая малютка, поговорим о ерунде…» Профессия – вещь социальная, но не в каждом социуме выскажешься. А любовь – она безусловна.
Ломит голову – сгущаются тучи, будет гроза. И радостно, что, прорываясь в духоте и зное этой недельной стоячей жары, лишь начал о ней писать – пошли предвестники прохлады.
В том июле родился сын, а в сентябре заболел отец. У меня начался III курс.
Вадим Сергеевич шел походкой недострелянного интеллигента по улице Моховой с очередного занятия по мастерству. Я – следом, дожевывая скопившуюся зевоту.
– Женя, почему вы спите?!
Он оговаривался и по забывчивости называл меня Женей: сперва путал с отцом, они были хорошо знакомы в молодости, потом с сыном. Вадим Сергеевич обожал свою внучку, и, когда у меня родился сын, он все расспрашивал: «Как поживает Женя?»
– Я не сплю, Вадим Сергеевич, вы закончили на том, что во Владивостокском драмтеатре директор вам сказал…
А сам уже просто не мог часами слушать рассказы о творческой биографии мастера. Я понял: пора что-то решать.
– Вадим Сергеевич, по семейным обстоятельствам ухожу в академку.
Это была уважительная причина, позволявшая не обижать его, а ему не обижаться на меня. Я подал в ректорат заявление, решив – переведусь двумя курсами младше, лучше хоть месяц, но у Музиля, чем эти пожизненные лекции. И как знаменательно, что я приду учиться к Музилю, это порадует и поддержит отца – к Музилю!
Через день мне поставили штамп на заявлении об академке, я счастливый иду по коридору мимо мастерской Музиля, в которой мне предстоит учиться, встречаю лаборантку с кафедры режиссуры:
– Оля, что мрачная такая?
– Лёша, у Сан Саныча инфаркт.
Теперь я был полностью предоставлен заботам о сыне и больном отце, а институт и режиссура из настоящего нырнули в прошлое, ничего не обещая в будущем.
На гастроли в Питер приехал Фоменко. «Питер – тайное недоброжелательство…» – не раз, шутя, цитировал Петр Наумович перефразированный эпиграф из «Пиковой дамы». В семидесятые он ставил в Ленинграде, потом возглавлял Театр Комедии – наверное, имел основания к мрачной иронии. Но та театральная осень была поистине «очей очарованьем»: в ЛГИТМиКе шли показы студийцев, в Театре на Литейном – «Волки и овцы» Островского и «Как важно быть серьезным» Уайльда, в БДТ – «Балаганчик» Блока – спектакли Мастерской. «Сатирикон» привез «Великодушного рогоносца», а вахтанговцы – «Без вины виноватые».
Этот спектакль играли в двух залах Аничкова дворца, в те годы – Дворца пионеров имени Жданова. Я напросился на репетицию. В лепнине и зеркалах шел технический прогон. В Зимнем саду журчал фонтан, чопорные сотрудники стряхивали пыль с кресел и проверяли, у всех ли артистов на ногах сменная обувь.
– А где здесь курят? – спросил Фоменко.
Смотрительница, слегка бледнея, прошептала:
– Видите ли, у нас детское учреждение… пойдемте, только чтобы никто не узнал.
Толпа артистов гуськом потянулась за Петром Наумовичем. Череда узких коридоров, поворот, ступеньки, еще поворот. Крохотный тамбур завален досками и строительным мусором. Фоменко, присев на корточки, достает тонкую сигарету и, глубоко затянувшись, выдыхает:
– А здесь-то поуютней!
На представлении зал набился до отказа, я уселся в проходе у стены.
– Мальчик, подвинься! – За спиной игривый хохоток, меня обволокло волной духов, и рука в перчатке легла на плечо.
Зал глядел на меня, а я на актрису Максакову в роли госпожи Каринкиной. Так мы впервые увиделись с этой удивительной женщиной.
Ночной звонок уже в другом тысячелетии – Людмиле Васильевне не спится:
– Мальчик, я придумала кино! Представь, под утро… гости разошлись, а она, старая актриса, одна в гостиной за выпотрошенным столом и, чуть не плача, смотрит в камеру: «Хотите, я расскажу вам свою жизнь?» И холодный голос из-за кадра отвечает: «Не надо». Вот и все кино, мальчик. Сними его, и ты проснешься великим. Или вообще не проснешься. Ну пока, целую тебя.
Через двенадцать лет я снова увидел «Без вины виноватые». На иных ролях уже не раз сменился состав, постарели все, многие умерли – а спектакль ошпарил меня. Чем? Он не состарился, он был совершенно живой – легкий, захватывающий, праздничный. Неужели его я видел тогда в Аничковом? Почему же не помню такой силы впечатления? Потому, что тогда это казалось нормой – хорошие артисты хорошо играют хороший спектакль. А что ж теперь, если увиденное тогда кажется шедевром?
Что теперь?
Говорить не хочется.
По заснеженному Невскому идет веселая компания. Я уже всех знаю в лицо – это Петр Фоменко и его артисты. Гастроли закончились, отшумел прощальный банкет.
– Привет, Лёша Злобин! – и он неожиданно обнимает меня и, сняв шапку, целует в щеку, – не пропадай, дай бог, все сложится, дай бог!
В ночи я в который раз посмотрел телефильм «На всю оставшуюся жизнь» – мощно, глубоко, профессионально. В титрах значилось: сценарий Бориса Вахтина и Петра Фоменко. Они были близкими друзьями, Борис Вахтин умер в 1981-м. Наш Вадим Сергеевич дружил с Вахтиным и ставил на курсе его пьесу «Абсолютно счастливая деревня», но дело не шло, вяло тянулись из семестра в семестр говорильные репетиции, и абсолютно никто не был счастлив, кроме двух исполнителей главных ролей. Странное сближение: когда-то наш Вадим Сергеевич из-за Петра Наумовича ушел из Театра Комедии. Дело прошлое, сейчас о другом: я гордился успехами на первом курсе, пока не поехал поступать к Фоменко и не провалился. Стыдно, наверное. Этот стыд меня и спас, заставив уйти оттуда, где, как мне казалось, профессией не пахло.
Два месяца на кухне у родителей я курил папиросу за папиросой и был счастлив мукой бумагомарания. А курс выпустил-таки спектакль по пьесе Вахтина: позвали на премьеру, потом на банкет. Атмосфера была душевная, все-таки итог двухлетней работы! Мы сидели с Вадимом Сергеевичем, выпивали, курили, и я вдруг сказал:
– Вадим Сергеевич, хочу вернуться. Понимаю, много пропустил, но все же, разрешите приходить в аудиторию в свободные от репетиций часы и делать отрывок?!
Вадим Сергеевич разрешил.
Я позвал артистов с параллельных курсов репетировать сцены из «Игроков» Гоголя. Счастливые и удивительные дни. Счастье, когда сам для себя, не будучи официально студентом, часами репетируешь захватывающий материал; удивительно, что, ежедневно занимая аудиторию, я за три месяца работы не помешал никому из однокурсников – они почему-то не приходили.
Жара, жара, духотища страшная, на балкон просто не выползти – сгоришь. А до той жары, той странной и страшной минуты осталось совсем чуть-чуть.
В мае мы были готовы, хотя официальный экзамен в июне. Но мои артисты-выпускники должны разъезжаться, поступать в театры, и я попросил мастера принять отрывок раньше. Назначили на 29 мая, 10 утра.
До показа вымыл в аудитории пол, разложил реквизит, проверил декорацию. Я уже не волновался, понимал – отрывок «сделан». Сложное решение, выбор главного героя – актер пантомимы (все построено на пластике), иронично-мистическая интонация. Собрались зрители, в основном со стороны. С курса пришло двое – А и Х, остальные не проснулись.
А через час по институту неслось: «Замечательная работа!», «Какие артисты!», «Гениальный Ихарев!» – это о Дмитрии Смирнове, он почти не говорил, но потрясающе пластически выразил образ обманутого бандитами гастролера. Хмурые однокашники поздравляли с победой. Мастер поставил «отлично» и настоятельно рекомендовал делать из отрывка спектакль. До курсового экзамена оставалось две недели. Наши как прклятые бросились наспех репетировать.
А я уехал на дачу вблизи Ладожского озера. И страшная жара радовала, потому что я переживал ее не в городе и с чистой совестью, в то время как ленивые коллеги жрали друг друга в паучьей банке – аудитория одна, а их одиннадцать.
Меня назначили вести зачет – благо, сдав «Игроков», был уже не занят. И было больно за ребят, наспех слепивших свои отрывки; они сами видели, как все дохло, глупо, скучно, – чуда не произошло, ни у кого. Но всем поставили средний балл – из милости, чтобы не лишать стипендии. И мне тоже – средний.
Как, почему? Оказывается, председатель комиссии Вениамин Фильштинский потребовал, чтобы мне поставили «неуд» и выгнали с курса – ведь ни он, и никто с кафедры не видел «Игроков». Наш мастер учтиво признался, что стоило больших трудов меня отстоять. Я вскипел:
– Простите, Вадим Сергеевич, не хочу обидеть коллег, но все, что сегодня было предъявлено, – халтура, и вы это знаете лучше меня. И вы знаете, как подробно, добросовестно и, главное, с каким результатом делались «Игроки». Но вы не пригласили кафедру на мою сдачу – почему?! Мне стыдно перед моими артистами за этот «средний балл» и за ваше малодушие.
Почему тогда все так произошло и почему сегодня, через тринадцать лет, в жару конца мая 2007 года, я вспоминаю жару тех же дней, 95-го?
…Я ежал на даче и не думал ни о чем, редкие облака медленно проплывали в знойном ультрамарине. Трое суток я отсыпался, отъедался и был физически, животно счастлив. И вдруг тихо-тихо, будто дальнее эхо, засвербела мыслишка: как же я продолжу работу над «Игроками»? Ведь я не вижу решения спектакля, все выплеснулось в сделанном отрывке и дальше не шло. Чтобы продолжать, нужно все начинать заново, перепридумать весь объем пьесы!
Я испугался, мысли роились, наполняя душу страхом, ленивую душу – ложным большеглазым страхом, и пришел-прислышался тихий-тихий вопрос:
– А ты хочешь этим заниматься? Вообще, этой профессией? Ведь так хорошо лежать на солнышке и ничего не делать? Тебе это нужно, скажи?
Лучше бы я промолчал, да я и промолчал, наверное, но кто-то во мне, такой тихий-тихий и, как показалось, честный, вкрадчиво ответил:
– Нет, не хочу. Не хочу, потому что это больно и трудно.
Я не подумал тогда, что «больно и трудно» – это сопротивление материала, болезнь роста. Что именно потому, что больно и трудно, это и надо делать, это необходимо, это должно стать привычкой, тогда будешь расти.
К каким результатам привело это тихое согласие, никому на земле неведомое признание? На зачете с темой «режиссерское решение» мне, гордому победителю, чуть не влепили «пару». Но ты же сам себя предал, Лёша, посмотри в зеркало?
Из зеркала смотрит лицо чужого человека, лицо беглеца.
Через неделю после рождения сына я стоял над его кроваткой, а он кричал и никак не успокаивался. Я не брал его на руки, считал, что это капризы и он должен успокоиться сам. Подошла бабушка.
– Не берите его на руки, не балуйте!
– Что ты понимаешь, Алексей, отойди, у меня двадцать лет педагогического стажа.
– Ах так, тогда сами его и воспитывайте!
Где теперь мой сын? Стоит ли удивляться, что ни сегодня, ни год назад в этот день он не позвонил: «С днем рождения, папа!»
Не могу представить, что будет завтра
– Фоменко умер!
– Фоменко жив!
Умер, жив, умер, жив…
В Питер привезли «Пиковую даму». В ночь после показа в гостинице «Октябрьская» у Фоменко обширный инфаркт. В эту ночь от тромба в сердце умер талантливейший Коля Павлов и с сердечным приступом попал в больницу Сергей Курехин.
А мы сыграли премьеру по Уильямсу и пьем с артистами Иваном Латышевым и Машей Жуковой коньяк из пластиковых стаканчиков в скверике у Никольского собора.
– Ну, помянем…
– Ну, за здравие…
И разрывается телефон, путая новости: Фоменко умер, Фоменко жив, умер, жив, умер, жив…
«Главное качество режиссера – держать удар», – любил повторять Петр Наумович. Это боксерский термин.
Уильямс смертным грехом считал жестокость.
Фоменко – примерно то же самое – сердечную недостаточность.
Иные пьесы лучше не трогать – затянут, вывернут и захлестнут твою жизнь.
Уильямс из штата Теннеси высыпал на ладонь горсть таблеток, он не буквально следовал назначенной дозировке, а скорее руководствовался настроением – «когда накатывало». Слизнул с горсти антидепрессанты и, как обычно, запил недорогим, но хорошим виски, после чего принялся варить кофе на плитке. Очнулся в психбольнице с диагнозом «острая депрессия» и обширными ожогами – обварился кофе. Он-де не знал, что нейролептики, или как их там, не сочетаются с алкоголем, а Док не предупредил. Поначалу Док предложил курс психоанализа, но Уильямс категорически отказался:
– Док, вы меня исправите, и я не смогу писать пьесы!
– Вы их и так уже не пишете, творчество невозможно при такой душевной подавленности.
Тогда возникли эти антидепрессанты, которые, видите ли, не совместимы с хорошим недорогим виски. Уильямс всегда был небрежен с лекарствами, и в отеле «Елисей», где он обыкновенно останавливался, с ним всегда был рядом кто-то, кто подавал снотворное на ночь. Когда однажды рядом никого не оказалось, он сам выплеснул в стакан снотворное и не заметил, что пробочка от флакона плюхнулась туда же.
А тогда в психушке, несмотря на «острую депрессию», он все же накатал с десяток коротких загадочных пьес.
Мне предстояло ставить преддипломный учебный спектакль в одном действии. Актеры-молодожены Коля и Катя принесли мне одноактовку Уильямса. Чтобы понять содержание этой короткой драмы, потребовалось прочесть всё: все его пьесы, сценарии, новеллы и дневники. И понять – эта пьеса может быть о чем угодно, любая ситуация, возможная между мужчиной и женщиной, в нее вместится. Главное – все прошивающая интонация боли и жалости, искупительного сострадания и неразрешимого одиночества. В молодости эти вещи чувствуешь и понимаешь острее, лучше, в силу обманчивой безопасности от ощущения, что все еще впереди и возможны варианты. Позже – попросту живешь ими, понимая, что это единственный путь, царский путь сострадания, «Camino Real» – «Королевская дорога», или «Реальный путь», как называется одна из пьес Уильямса. В финале новеллы, названия которой не помню, мальчик-выпускник насилует выпускницу-девочку. Оба они были отщепенцами, гадкими утятами, всеобщим посмешищем. Ее, неуклюжую дуреху, втолкнули в круг на выпускном балу и заставили танцевать с этим увальнем. Оба сгорали со стыда, а вскоре поехали вдвоем на пикник. Там, подавляя неловкость и борясь со своей позорной «немужицкостью», он повалил ее на траву. Заканчивает Уильямс гениально: они не стали ближе друг другу, оба только острее ощутили каждый свое одиночество, но и поняли, как одиноки они в этом мире; он подал ей руку, помог подняться, и они пошли вместе, не говоря ни слова, жалея друг друга.
С молодоженами Колей и Катей пьесу «Не могу представить, что будет завтра» мы репетировали месяца четыре, и у нас ничего не получалось. Во-первых, потому, что пьеса была не про них – их реальная жизненная ситуация никак не совпадала с пьесой, не питала ее. Я говорил Кате:
– Понимаешь, Она, твоя героиня, знает, что сегодня умрет, что это ее последний день!
А Катя мне отвечала:
– Это невозможно, человек не может знать, когда он умрет!
Такая здоровая психика. А то, что человек может быть охвачен страхом, ощущением конца, гибельной уверенностью – в миропонимание молодой актрисы не вмещалось. И слава богу!
Другая причина «тупика» заключалась в том, что муж Кати был режиссером, о чем еще не знал. Он играл в моем отрывке по гоголевским «Игрокам» и в репетиции привнес много замечательных решений и догадок. Более того, когда основная сцена «Игроков» вдруг соскочила с жанра и из «иронически-мистической» стала бытовой, именно Николай Дручек заметил это и своим предложением «взорвал» сцену и поднял весь отрывок на новый уровень. Я не догадался тогда, что имею дело скорее не с артистом, а с режиссером, который через год поступит на курс Фоменко и поставит блестящий отрывок из гоголевской «Шинели». В работе над Уильямсом его «режиссерство» выражалось в том, что все нарепетированное днем в аудитории за ночь в семейной «мастерской» превращалось во что-то совершенно другое и не то, что видел в пьесе я. Никто из нас еще не знал, как «правильно» делать спектакли. Мы измучили друг друга и решили во имя сохранения искренней и крепкой дружбы завершить совместную работу.
До окончания семестра и сдачи спектакля оставалось полтора месяца, за четыре – мы не сдвинулись с мертвой точки, я понял – это «пожар».
Сижу на кухне в квартире жены. Через коридор за закрытой дверью в дальней комнате спит полуторагодовалый Женя Злобин, за стеной теща-детский-врач смотрит телик, напротив ровесница-сокурсница по филфаку Герцовника, моя жена Мария решает «расставить точки над i»:
– Мы тебя сутками не видим, заработков никаких, сын растет без отца…
– Женя большей частью спит себе спокойно, а вчера я читал ему Мандельштама…
– Не юродствуй!
– Вообще-то, у меня сердце побаливает, давай отложим этот разговор, пожалуйста…
Я наспех прихлебываю из французской кружки куриный бульон и мучительно придумываю, как сообщить жене, что в единственный за последние полтора месяца выходной я не пойду гулять с сыном, а поеду на другой конец города в общагу ЛГИТМиКа договариваться с артистом Сашей об участии в спектакле по Уильямсу.
– Тебе неинтересно, чем я вообще живу…
– А тебе интересно?
– Не хами!
Я не хочу хамить, но с каждым глотком бульона и словом жены почему-то все больнее теснит грудь. Я бы с радостью рассказал о вчерашнем счастье, когда актриса, тоже, кстати, Маша, с курса Фильштинского, такая замечательная, она так трогательно сыграла в курсовом спектакле по Феллини, и я, взволнованный, предложил ей попробовать Уильямса, и вот вчера она позвонила и сказала: «Да, давай это сделаем!», и я так обрадовался, просто сиял от счастья. Но, по-моему, моей жене не очень интересно слушать про тронувшую мое сердце актрису Машу…
– Так вот, сейчас, когда Женя проснется, ты пойдешь с ним гулять, а я…
– Маша, давай не будем ничего выяснять, но я не пойду гулять с Женей…
– Да? Это почему же…
И началось что-то долгое и мучительное, и мне казалось, что вот сейчас в груди у меня что-то лопнет, и бульон этот в кружке французской из небьющегося стекла никак не хочет остыть, а мне уже бежать надо, потому что если я сейчас не поеду уламывать артиста Сашу, то, во-первых, могу его не застать, а, во-вторых, вернусь заполночь, и это еще хуже, в смысле семейно проведенного единственного за полтора месяца выходного. Маша продолжает говорить что-то тихое и мучительное, она никогда не повышает тона, а мне хочется кричать, но не могу, потому что в груди просто жжет, этот чертов бульон, эта кружка, подаренная на Новый год из французского, будь оно неладно, небьющегося стекла! Сзади кафельный угол и раковина…
– Маша, перестань, пожалуйста, Маша, перестань, перестань, Маша-а! – шепчу, глотая воздух, неужели она не видит, что мне плохо, – Маша-а-а!
Я разворачиваюсь и бросаю, не резко, а так слегка – она ж небьющаяся – французскую кружку с недопитым бульоном. Кружка ударяет в кафельный угол и сотней брызг осыпается в раковину; сердце мгновенно отпускает, я легко встаю, иду в коридор, быстро ступаю в туфли, и дверь за мной захлопывается. Весенней бодростью встречают у подъезда первомайские сумерки. Женя, должно быть, проснулся от звона стекла; но к остановке уже подкатывает троллейбус, как раз мой.
– Так вот, сторож этот картавый, в общаге, седой и плешивый, оборжаться можно от его романа со студенткой! Делово так заявляет, представляешь: «Ну, продрал я ее хорошенько. – Он картавит, и получается „пгодгал“. – Да, пгодгал… Девка она, конечно, хогошая, только кугит, пгоститутка!» – Нинка заливается басовым смехом и гасит окурок в допитой рюмке.
Однокурсница Нина, матерщинница и оторва, пришла к нам совсем недавно после короткого декретного отпуска по случаю рождения второго ребенка от того самого Саши, к которому я ехал сейчас в так вовремя подошедшем троллейбусе. А не подойди он так вовремя, ведь я оглянулся бы на окно в восьмом этаже, горящее в ранних майских сумерках, взбежал бы, не дожидаясь лифта, распахнул бы еще не запертую на ключ дверь; но подходящий троллейбус прозвенел: «Не думай, не оглядывайся, беги!» И я побежал. Нина сокрушалась вчера: «Сашка бросил меня, гад! Ну да, пришла пьяная в ночи, а он там с ума сходил. Но я же люблю его, понимаешь, люблю!» Она замахнула еще рюмку, обняла меня и прошептала с грустью: «Хорошо, Злобин, что ты позвал его в Уильямса, он ведь такой талантливый! А я хоть буду видеть его изредка на твоих репетициях. Я ж и в институт из декрета вернулась только ради него, а так бы давно уехала в Москву домой, надоел уже этот Питер!»
Саша действительно талантливый, занят во всех курсовых спектаклях Юры Бутусова, а Юра – самый интересный режиссер сейчас в институте. Он специально на Сашу поставил «Записки из подполья» Достоевского. И когда я предложил Маше с курса Фильштинского пьесу Уильямса, она сразу выдвинула условие: «Если партнером будет Саша – я согласна». Саша серьезный артист, востребованный, занятой, он взял четырнадцать страничек пьесы, пролистал и обещал через день дать ответ:
– Приезжай ко мне в общагу первого мая – обсудим.
– Но там же Нина, мы толком не сможем поговорить…
– Нины не будет, – хмуро сказал Саша.
Дверь открыта настежь, посреди комнаты красивым профилем на фоне окна стоит Саша, Нина горячо обнимает его, оба плачут. Увидев меня, Саша выходит в прихожую:
– Завтра репетируем, пьеса замечательная, кто партнерша?
– Маша с курса Фильштинского.
– Прекрасно, не волнуйся, мы все успеем и сдадим в срок. А сейчас, извини – видишь, Нина пришла.
– До завтра!
Если с Николаем Дручеком нас уже связывала общая работа, а с его женой Катей – семейная дружба, то Сашу и Машу я пока что не знал совсем.
Маша пришла с пьесой, исчирканной вдоль и поперек, Саша пьесу забыл. Я приготовился в сорокаминутном монологе излить все, что накопил за четыре месяца размышлений над пьесой:
– Маша, это трудно принять и может показаться непонятным, но твоя героиня убеждена, что «сегодня» – последний день ее жизни. Что когда Он в белом костюме, такой нарядный, уйдет, дверь закроется навсегда.
– Лёша, это же очевидно! Я подумала: у нее календарик на стене висит и в нем на этот день поставлен крестик, а остальные дни, те, что дальше, оторваны. Ведь пьеса же «Не могу представить, что будет завтра» называется!
– А ты, Саша, что думаешь?
– Думаю, Он и будет жить этим всю пьесу: «Уйти-остаться-уйти-остаться» – и все будет смотреть на этот календарь, мотаясь от двери к ее столу, то снимая, то надевая свой белый предательский пиджак.
Монолога у меня не получилось, с первого же вопроса начался прекрасный творческий диалог, Саша с Машей увлеченно болтали о пьесе, а я только слушал и отбирал: «Так, хорошо, запомните это место, молодцы…» Глубокой ночью мы вышли на Моховую… Расходиться не хотелось.