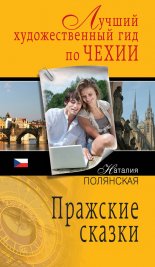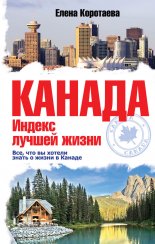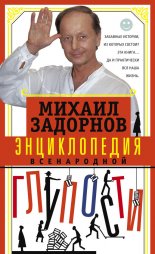Все в саду Шубина Елена

Катя присаживается рядом.
– Ты как? – спрашиваю. – Всё в порядке?
– Норм, а чё мне сделается?
Мимо нас проходит группа итальянцев. Чернявый, низкорослый гид суетится, что-то громко кричит. Его подопечные весело смеются. Мне вдруг хочется сделать Кате приятное.
– Слушай, – говорю, – тут продаются очень вкусные вафли. Прямо за углом. Огромные такие. Хочешь попробовать?
– Вафли? – Катя закатывает глаза. – Ты чё, сладенький? Совсем уже? У меня попа и так ни в одни джинсы не влазит…
– Ладно, проехали.
– Куда проехали?! – вдруг взрывается она. – Чё опять за отстой? Чё проехали? Ты должен был сказать: любимая, у тебя нормальная попа. Понятно?
– Любимая, у тебя нормальная попа.
– Вот так… Давай-ка вставай… Хватит уже сидеть.
Катя часто бывает грубой. Сегодня она в аэропорту уже отличилась. Нахамила этому профессору. А ведь он – подлый на самом деле и найдет способ мне напакостить.
– Он же все-таки пожилой человек, – упрекнул я ее. – Давай его лучше пригласим в кафе, покормим.
– Щаззз, – коротко бросила она.
Я стоял у металлической ограды вместе с другими встречающими и ждал, когда она выйдет. Самолет из Парижа уже полчаса как совершил посадку. Люди выходили группами, поодиночке, молодые, пожилые, мужчины, женщины, белые, черные, азиаты, с чемоданами, с большими сумками на плече, некоторые налегке. И у всех на лицах было одно и то же выражение. Я его всегда замечал у людей, садящихся в самолет. Выражение растерянности и одновременно сосредоточенности. Оно появляется, едва ты заходишь в аэропорт, и исчезает лишь тогда, когда, прилетев в место назначения, ты усаживаешься в такси. Эта сосредоточенная рассеянность рождается странным чувством, думал я, которым аэропорт постепенно тебя заражает, прямо со стойки регистрации, где ты сдаешь багаж и получаешь заветный посадочный талон. Будто ты кому-то перепоручил свою жизнь, будто что-то для тебя уже закончилось, а новое еще не началось и неизвестно, начнется ли. А вокруг кафе, рестораны, магазины, аптеки выставляют напоказ свою продукцию, предлагая тебе ее купить и оставить здесь, на земле, лишние деньги: тебе уже, может, они и не понадобятся, как знать, а нам пригодятся. И люди покупают, отдают деньги, унося с собой память о великом городе, спрятанную в сувенирах, в бутылках с алкоголем, в склянках с парфюмерией.
Чтобы не смотреть на людей, я принялся разглядывать зал терминала. Аэропорты, как сказал один градостроитель, бывают либо слишком большие, либо слишком маленькие. Этот показался мне слишком уж большим, как квартал густонаселенного города, спрятавшегося, правда, под пластиковым сводом. Тут не было никаких тайн, всё было выставлено напоказ, всё было обнажено, всё, решительно всё, рейки, подвески, крепления, провода – всё говорило о человеческих усилиях и о собственной рукотворности. Конструкцию свода поддерживали тянущиеся из углов длинные белые трубы, напоминавшие кошмарные паучьи лапы. Лампы распространяли странный электрический полумрак, в котором, как в паутине, копошились человеческие существа.
Я вдруг поймал себя на ощущении, что здесь, несмотря на столпотворение, как будто никого нет. Чтобы отвлечься, я начал думать о Кате, о том, как она сейчас выйдет ко мне навстречу, улыбаясь своей неприличной улыбкой, о том, как я прошепчу ей привычные бесстыжие слова, а она ответит, что скучала. Интересно, подумал я, а Гвоздев сказал ей или нет? Наверное, забыл… Псих чертов. А ведь обещал…
– Вас же просили меня не встречать! – взвизгнул возле моего уха хриплый старческий голос. Я дернулся от неожиданности и обернулся. Передо мной стоял коротконогий пожилой мужчина в синем пуховике. Позади себя он держал за ручку маленький чемоданчик на колесах.
– Что, простите? – не понял я.
– Просил же, несколько раз просил – меня не встречать! – повторил с напором мужчина.
Я подумал, это какой-то сумасшедший. Но мужчина выглядел вполне вменяемым, даже благообразным, хотя и немного комичным, со всех сторон каким-то коротким, похожим на обрубок. У него почти не было шеи, и маленькая голова казалась будто вылупившейся из туловища. Короткая седая стрижка, короткая кабанья щетина на щеках, вокруг рта, под подбородком. Короткий мясистый нос, на котором плотно сидели металлические очки. Вроде я его видел где-то.
– Я же просил! – возмущался мужчина. Он достал из кармана платок и вытер пот со лба.
– Ас чего это вы взяли, что я именно вас встречаю?
И тут я вдруг понял, “с чего”. Нас когда-то знакомили, очень давно. Мне еще сказали, что он уехал из СССР в восьмидесятые и теперь работает в каком-то европейском колледже. Помню, на его доклад в Москве сбежались все наши филологи, правда, исключительно те, кто мечтал уехать за границу, – он работал экспертом, в нескольких комиссиях по найму. Фамилию этого профессора я забыл. Вспомнил только, что она звучала уменьшительно-ласкательно, как вид грызунов, и очень ему подходила. Наверное, он сюда прилетел с лекцией, увидел знакомое лицо и решил, что его встречают.
– Я же специально звонил в ваш фонд! – продолжал профессор. – Сказал, что сам доберусь.
Он спрятал платок в карман.
И тут я наконец увидел Катю. Она шла мне навстречу ровной, уверенной походкой и тянула за собой свой малиновый чемодан. На ней было красное пальто и почему-то черный парик. Я не успел подумать, зачем ей понадобилось надевать этот чертов парик, как профессор встрял опять:
– Вы что, меня не слышите?
– Я не вас встречаю, – ответил я сухо и нетерпеливо. – Проходите…
Тут подошла Катя.
– Привет, сладенький. Она подставила щеку для поцелуя. Щека оказалась холодной. – Дай-ка я на тебя посмотрю.
– Еще раз повторяю, – вмешался профессор, – мне не нужно никаких провожатых! Езжайте по своим делам.
(“Да что ж ты никак не уйдешь-то… ”)
Я прижался к ней, подумал, он сейчас всё сам поймет, и тотчас же почувствовал желание. Мимо нас прошли люди, и кто-то задел меня сумкой.
– Это еще что за дебил?! – Катя отстранилась и кивнула головой в сторону профессора.
(“Блин. Началось… ”)
Я виновато поглядел на него, мол, извините, не могу с ней совладать, растерянно улыбнулся и развел руками.
– Чё ему от тебя надо? – прищурилась Катя и, повернувшись к профессору, прикрикнула: – А ну, брысь отсюда!
Тот сделал вид, что не расслышал, повернул, как пеликан, голову почти на 180 градусов, куда-то назад к чемодану, подтянул его к себе, забормотал что-то под нос. Катя тут же про него забыла.
– На, бери, – она сунула мне ручку от чемодана. – Пойдем скорее. Я соскучилась и очень хочу.
“Так ему и надо”, – подумал я, а вслух сказал:
– Он же все-таки пожилой человек. Давай его лучше пригласим в кафе, покормим.
– Щаззз, – коротко бросила она.
В парке, по которому мы гуляем уже час, полно людей, и мне снова, как давеча в аэропорту, кажется, что на самом деле никого вокруг нет. Хотя вот, пожалуйста, по асфальтовым дорожкам, аккуратно огибающим пустые газоны, движутся туристы: семенят крикливой толпой низкорослые азиаты, строго вышагивают высоченные скандинавы, проходят, пританцовывая и отчаянно жестикулируя, поджарые итальянцы и испанцы, привозящие сюда, в сырой английский климат, жар Средиземноморья. Но ни с кем из них, думаю я, не столкнешься. Каждый в своей собственной, только ему отведенной геометрии. Но я вижу вовсе не их и не водоплавающих, высокомерно клянчащих подачку. Я вижу пространство между ними, засасывающую мягкую пустоту. Ее здесь больше, чем всего остального.
– Пусто тут как-то, – замечает Катя.
Я молча киваю.
Сент-Джеймсский парк аккуратно расстелен как поле для гольфа. Он лежит словно женщина, раскинув во все стороны газоны, открываясь настежь, ожидая, когда мы наполним его, измерим его своими телами, когда мы окунем свои прямые взгляды в зелень травы, в мутную воду пруда. Это останется без последствий, ведь в Сент-Джеймсском парке всё теперь гигиенично, пространство и время вычищены, вымыты, свободны. Тут одни сплошные газоны и еще платаны, держащиеся на почтительном расстоянии друг от друга как английские джентльмены. Глазу достаются пустота и голая обозримость. Царство пустоты! Такое дано создать только тому народу, который сподобился провести два тысячелетия вдали от всех на острове, обмываемом со всех четырех сторон света морями.
Французы так бы не смогли. Они бы повсюду в правильном порядке понатыкали бы клумбы и обрубки деревьев. Видно, сначала так оно и было, но потом англичане здесь всё убрали. Клумбы сгребли в кучи, оттащили в углы, нагромоздили одну на другую, чтобы утвердить обозримость и защитить пустоту. В самом деле, свобода не может быть уделом случая, прихоти, внезапного поворота парковой дорожки. Она здесь выстрадана, спланирована. Она здесь следствие традиций, большой игры, законов, ограждений, парковых указателей. Мы останавливаемся возле высокого столбика с зелеными стрелками, глядящими в разные стороны, на которых белыми буквами написаны “'Westminster Abbey”, “Buckingham Palace”, “WC”.
Запрещающих табличек совсем немного. А те, что есть, удивляют вежливой и увещевательной интонацией:
PLEASE DO NOT FEED OR TOUCH PELICANS
– Правильно, – комментирует Катя, – а то долбанут куда-нибудь – мало не покажется. О чем это ты так задумался?
– Ни о чем…
– А я, – говорит она, – знаешь, почему-то вспомнила песню из фильма “Золушка”. Помнишь? Встаньте, дети, встаньте в круг… Там она потом поет: “жил на свете старый жук”.
– Ну и что?
– Как что? При чем тут дети?
– В смысле?
– Ну почему, если на свете жил какой-то старый сраный жук, дети обязаны вставать в круг? Где тут логика? А если бы жила молодая озабоченная стрекоза? Тогда что? Или пеликан? Тогда бы в шеренгу заставили выстроиться? Так, что ли?
Я рассмеялся.
За невысоким ограждением возле воды кипит пестрая птичья жизнь. В кустах, наверное, в поисках тех самых старых жуков копошатся утки, вдоль берега ковыляют жирные гуси с оранжевыми клювами, у ограды стоят какие-то водоплавающие аляповатого вида, будто наспех раскрашенные, безо всякого вкуса и воображения. Вездесущие голуби ведут себя скромно. Ходят, дергая маленькими головками, и дружно взлетают при малейшей тревоге. Чайки носятся в воздухе, то и дело поднимают истошные крики и принимаются драться из-за добычи. Вороны держатся поодаль, с достоинством, время от времени инспектируя длинными клювами мусорные корзины. Посреди пруда плавают два белых лебедя. Один вдруг начинает хлопать крыльями, разгоняется по воде, видно, затем, чтобы взлететь, но тут же успокаивается, складывает крылья, замирает.
– Хрен тебе! – проводив его взглядом, комментирует Катя.
Мне становится грустно от того, что вот он такой, большой, красивый, захотел и не смог.
– Послушай, Андрюша, – она останавливается и поворачивается ко мне. – Я должна тебе кое-что сказать.
Я чувствую неприятный холодок во всем теле. В честь чего это я у нее вдруг “Андрюша”?
Катя становится передо мной и серьезно смотрит мне прямо в глаза.
– Я виделась с Леней Гвоздевым в Париже…
– О кей.
“Жил на свете старый жук”.
– Давай присядем.
Мы идем к деревянной скамейке. Как же тут всё добротно сделано. Особенно скамейки. Толстые рейки, массивные подлокотники. Не на века, конечно, но надолго. Значит, Гвоздев с ней все-таки поговорил. Садимся.
– У нас с ним всё было, – вдруг говорит Катя.
Как обухом. Я чувствую, что мне не хватает воздуха. Оглядываюсь по сторонам
– Что было, Катя?
– Блин, слад… блин, всё было. Секс…
Несколько мгновений мы молчим. Понимание произнесенного приходит ко мне не сразу. В голове почему-то по-прежнему продолжает крутиться фраза “Жил на свете старый жук”.
– Случайно получилось, – добавляет она, поймав мой взгляд.
…
– Дай сигарету, – резко говорю я.
– Ой, ну, милый, ты же сам…
– Дай сигарету!
– Я просто не могу тебе врать…
– Ты дрянь! Понятно?! Просто мелкая дрянь!
– Кто?! – поднимает бровь Катя. – Ах, ну да, ну да… Дай я тебя обниму.
Я грубо отпихиваю ее.
– Блин, мне же больно… дурак, что ли…
Почему-то мне кажется, что каждый, кто проходит мимо, оборачивается в нашу сторону.
– Это всё не важно теперь, – говорит она. – Витю убили… Я всё хотела тебе сказать…
(“Какого еще Витю? При чем тут Витя? Шлюха!”)
Достаю телефон и набираю Гвоздева. (“Дрянь, шлюха! Шлюхой родилась, шлюхой сдохнет!”)
– Ой, – морщится Катя, – ты кому это? Господи, случайно же вышло… Кому ты звонишь?
– С трех раз догадайся.
– А ну отдай!
Я снова резко отпихиваю ее.
– Блин, больно, сказала же…
– Здорово! – в трубке бодрый голос Гвоздева.
– Ты – урод! – кричу я ему. – Сволочь! Подлец!
Проходящие мимо люди оборачиваются на мои крики. Трубка некоторое время хранит молчание. Катя сидит, плотно сжав губы; у нее на глазах слезы.
– Подлец! – повторяю я и добавляю со злым ехидством: – Поговорил, значит, в лучшем виде?
– Старик… – неуверенно начинает Гвоздев.
Катя закрывает лицо руками.
– Положи трубку… пожалуйста… – стонет она.
– Я сейчас всё тебе объясню, – говорит Гвоздев.
– Что ты мне объяснишь? Когда ты, сволочь, переламывался, я тебе за молоком бегал, с ложечки тебя кормил!
Мой взгляд вдруг упирается в табличку: “PLEASE DO NOT FEED OR TOUCH PELICANS”.
Гвоздев замолкает на несколько секунд.
– Я всё сделал, как ты просил, – произносит он после недолгой паузы. В его голосе вдруг появляется воодушевление. – Сказал, что ты ее любишь, и всё такое… правда… Мы сидели у меня дома, бухали, и я ей, короче, это сказал. Ну а Катя, короче, разрыдалась от чувств, кинулась ко мне на шею, целовать стала… Ты же знаешь, она у тебя ого-го! Ну, короче, всё и случилось… чисто по пьяни…
Я молчу.
– Слушай, Андрюха, ну не обижайся. Хочешь, короче, приезжай и трахни мою Элку.
– Кого? – спрашиваю я машинально.
– Ну Элку, жену мою. А что? Она не против будет. Ты ей всегда нравился.
Старый жук. Я горько усмехаюсь и чувствую, что злость куда-то уходит. Даю отбой и сую телефон в карман. Катя с выражением пойманной птицы роется в кармане пальто, достает бумажный платок и вытирает слезы.
– Ты мне больно сделал…
Телефон начинает верещать. На мониторе высвечивается “Gvozdev”.
– Это Катя разболтала? – спрашивает голос Гвоздева. – Она рядом?
Я в ответ молчу.
– Сделай-ка громкую связь.
– Не командуй…
– Сделай, как друга прошу!
– Ладно, – я чувствую, что на самом деле больше не могу на него злиться.
– Катя! – кричит голос Гвоздева. – Ты тут?
– Тут, тут, – Катя шмыгает носом.
– Скажи ему, что это случайно, что мы, короче, не будем больше…
– Не будем, – покорно повторяет Катя, – и вообще было не очень.
– Было не очень, – с готовностью подхватывает Гвоздев из телефона.
– Слышь, Гвоздев, – вдруг свирепеет Катя. – Ты вообще охренел?! Это мне было не очень, понятно?! Мне! Слышь, ты, шприц одноразовый!
Я нажимаю отмену громкой связи, выключаю у телефона питание и поднимаюсь.
Бывает, конечно, что трагедия превращается в мелодраму, тут уж ничего не поделаешь, но мелодрама не должна все-таки превращаться в балаган.
– Всё, хватит…
– Погоди…
– Катя, я, наверное, пойду.
– Погоди, – она решительно встает со скамейки, комкает платок и кидает его в урну.
– Ну прости, – она гладит меня по щеке. Я аккуратно отвожу ее руку.
– Прости, – повторяет она. – Ну хочешь, пойдем прямо сейчас в Хемпстед, в отель, я стринги одену… как ты любишь…
– Засунь их себе в задницу.
– Сладенький, – с укоризненной ухмылкой произносит Катя. – Ты будешь смеяться, но они для того и придуманы, чтобы их засовывать именно туда, куда ты сказал…
Я усмехаюсь и качаю головой.
– Видишь, ты уже не сердишься. Это правда случайно… Ну прости… Ну что мне сделать…
– Ладно, проехали.
– Ура! – Катя хлопает в ладоши. – Ой, а давай птиц покормим, а? У меня с завтрака булка осталась.
У меня нет ни малейшего желания этого делать, но я зачем-то всё равно иду с ней к ограде. Навстречу нам уже спешат голуби, утки, гуси, кружат чайки. Ощущая их жадность, я беру у Кати булку, разламываю ее на кусочки и начинаю бросать их через ограду. Гуси, утки, голуби кидаются в сторону от резких движений, и всё достается чайкам. Они стремительно налетают откуда-то сверху, с громкими криками подхватывают куски и уносятся прочь. Рядом со мной стоит Катя в своем красном пальто, в черном парике и улыбается. Возле нее – чьи-то дети, две светловолосые девочки лет пяти-шести. У них добрые глупые лица. Всё доброе, я давно уже заметил, выглядит почему-то глупым, а всё глупое – добрым. Готово. Начисто расхватали. Я отряхиваю с ладоней крошки. Спасибо, друзья. Получил массу благодарностей. Сверху покричали, снизу покрякали, похлопали крыльями. Даже ворон в отдалении сдержанно, но одобрительно каркнул.
Я чувствую, что все вещи и события сделались близкими, пустыми и встали вокруг меня привычным кругом, как дети из той песни про жука. Всё завертелось, и эти птицы, и чьи-то глаза, и платаны, и клумбы, и газоны, и светловолосые маленькие девочки, и Катя в своем красном пальто и черном парике. Я словно проснулся от долго сна и снова увидел плотные фигуры людей, которые будто вернулись из своих геометрий. Но их слишком мало, этих людей, хоть и много, и сад всё равно кажется пустым, спокойным, забывшимся, забывшим прежние болезни и прежнюю боль. Зато мне теперь становится ясно, зачем я здесь стою с Катей, в этом парке.
– Давай сейчас погуляем, поедим твои вафли, а потом – в отель, в Хемпстед, ладно? – предлагает Катя. У нее непривычно ласковый голос. – Там поужинаем, ну и, – она мне подмигивает, – всё остальное.
Мы идем по дорожке вдоль газонов в сторону королевского дворца, и вдруг меня осеняет:
– Как это – в Хемпстед? Мы же…
– Сладенький, пока ты курил на улице, я попросила перевезти наши вещи в другой отель. Это в Хемпстеде. Подальше от центра.
Я останавливаюсь и смотрю на нее с удивлением.
– Не хотела тебя пугать… Я сначала хотела, чтобы с комфортом, а потом поняла – нам лучше без комфорта, но где-нибудь подальше, где уж точно не найдут.
– Господи! Кто нас не найдет?
– Витю убили, понимаешь?
– Витю?
– Ой, я не могу… пойдем снова сядем.
В ее глазах вдруг мелькает какое-то дикое, новое для меня выражение. Я замечаю себе, что последний час мы только и делаем, что садимся и встаем, встаем и садимся. С этим тут проблем нет: скамеек очень много.
– Господи, точно, ты же мне говорила.
– Садись…
Витя, Виктор Евгеньевич, был Катиным продюсером и одновременно официальным постоянным любовником. Бритый наголо, крепкий, по-крестьянски сбитый мужчина. Всегда в одной и той же кожаной куртке коричневого цвета. Я видел его всего два раза, один раз в Париже, в ресторане, но со спины и мельком, другой раз – в Москве.
– Он там что-то напутал, с какими-то проектами… – она закрывает лицо руками. – Я не знаю… Я в Париже сидела, мне позвонили, сказали – сердечная недостаточность.
– Так убили или сердечная недостаточность?
– Ладно, это долго объяснять. Я как узнала – сразу звонить кинулась, боялась, что к тебе придут.
– Ой, да кому я нужен?
– Мне…
– Ага, а еще тебе нужен Гвоздев.
Она отнимает от лица ладони, внимательно смотрит мне в глаза, а потом со всей силы залепляет мне пощечину. Хочет еще раз ударить, но я хватаю ее за руку.
– Ты чего?! Сдурела?!
Я в панике оглядываюсь. Рядом, слава богу, вокруг никого.
– А ничего…
– Ладно. Мы тут надолго?
– Не знаю, – хмурится она. – Может быть, навсегда.
Сокольники
Мария Голованивская
Царство детских колясок, велосипедов, жужжащих теннисных мячей. Розовощеких мамаш, тетешкающих образцовых детишек. Воскресные прогулки всей семьей с сахарной ватой размером с купол кафедрального собора.
Колокольный звон смешивается с громкой попсой, на удивление мирным, первомайского толка, политическим блекотом из громкоговорителя, шелестом крыльев поднимающихся в небо птичьих стай, счастливым собачьим лаем. Сокольники – от Сокольнической площади, по центральной аллее к парку с прилегающими по обе стороны домами – сердце района, выдающее ежедневно и ежечасно импульсы нормального счастья для нормальных, семейственных, благонамеренных людей.
Порталы “Ребеноки здоровье”, “Родим и вырастим”, “Ребенок до года”, “Рожаем семьями” и тому подобные имеют очевидную сокольническую привязку Именно в Сокольниках приятельствующие молодые семьи рожают дружно, одновременно – первый, второй, третий пошел. По мэйлу или телефону проговаривают совместные маршруты: “Вот второй раз покормлю и можно на прогулку Давайте в двенадцать у входа!” Гуляют колясочными кавалькадами. В первой половине дня на всех стежках и дорожках Сокольников и Сокольнического парка говорят о детском приросте, привесе, зубках, дисбактериозе и первых словечках, вскармливают хором, добавляя к своему молоку коллективные молекулы сокольнической здоровой жизни.
Здесь знакомятся открыто, не засоряя материнскую дружбу-солидарность принюхиванием и присматриванием. В Сокольниках же живем. На форумах пишут: “Так не терпится увидаться, познакомиться. Вот только у моего сопли пройдут… ” – “А вдруг мы из окна сможем друг друга увидеть? У меня окна на бывший детский сад, который теперь гимназия”. – “He-а, у меня окна во двор”. – “А жаль… ”
Индустрия знакомств Москвы знает об особом статусе Сокольников. Подобрать оттуда будущую жену – удача. Там прекрасно вить гнездо, закладывать основы крепкой семьи. На сайте “Биг лав” нередко можно прочесть “Ищу женщину, чтобы жила поближе к Сокольникам”. Христианские объявления о знакомствах – есть и такой сайт, и такая служба – тоже особенно уважают Сокольники: там хорошо растут дети, уточняют они, и знаменитая церковь.
Подросшие детишки образуют сообщество. “Давайте кататься вместе!” (на роликах, коньках, велосипедах, лыжах) – объявления у подъездов и в Интернете. И потом уже во взрослой жизни, как правило, корректной, неизломанной, после институтских учебников и умных дипломов сокольнические опознают друг друга по лыжному румянцу и здоровым привычкам.
– Где это, Сокольники? Где находятся на карте нашего города, которая у каждого в голове своя?
Выходишь из метро – площадь. Там пожарная каланча, красная, красивая, старинная, и при ней зданьице – и-я пожарная часть (рота), хмурные мужественные пожарники редко кажут нос за ворота.
Рядом “Макдоналдс” с пожарной тематикой во внутреннем убранстве: по стенам из красных жердочек своя каланча и в витринах пожарные каски, крюки и молотки. Дальше через улочку— коричнево-черный двадцатиэтажный монстр из стекла и бетона; лет двадцать строили гостиницу класса суперлюкс, за это время и строй в России поменялся, и стандарты гостиничного обслуживания, достроили наконец – страшную, никчемную. Зачем гостиница и гости, если в Сокольниках— все свои?
Если вернуться назад к метро, оказываешься на центральной аллее; ведет она к Сокольническому парку. По обе стороны шестнадцатиэтажные дома, позднесоветские, панельные, повышенной комфортности, бело-синие. В трешке, например, есть холл, все комнаты раздельные, две лоджии. Коридоры перед квартирами тоже просторные, со встроенными шкафами – есть куда деть и велосипед, и лыжи. Именно в этих квартирах и протекает уютом мытая семейная жизнь, где у детей не только своя комната, но и своя лоджия. С видом на парк, на церковь, на “свой двор”.
Вдоль аллеи через бульварчик – “Мир кожи и меха” в Сокольниках (где одевают “быстро и модненько”), напротив – “Зенит”, мечта прогрессивных родителей: велосипеды, фотоаппараты, надувные лодки, приблуды для охоты и дайвинга, охотничьи принадлежности. Но главное велосипедное царство— известный на всю Москву велорынок – находится в аккурат под “кожей и мехом”. Ныряешь прямо с Сокольнической площади в неприметный проход и оказываешься в огромном и извилистом подземелье, где тысячи велосипедов всех цветов и размеров, с кривыми рожками рулей, прямоугольными сидениями, сверкающими во тьме педалями и колесами, пневматическими насосами. А зеркала, а перчатки, а ручки для переключения скоростей… Это вечное велосипедное кручение и верчение – главный сокольнический свинг. Движение, движение, воздух, воздух, какое бы время года ни стояло за окном и как бы ни гадила – а она имеет такое обыкновение – московская погода.
Выходишь из велосипедного подземелья прямо – к храму Воскресения Христова. Окликает нищая, огромная женщина с раздутой ногой, разговаривает строго: “Помоги чем можешь, потому что ты моего горя не знаешь”.
В церкви на всякий вопрос отвечают буклетом. Есть дела поважнее, чем языком чесать, и спрос превышает предложение. Крестины, освящение, причащение – запись огромная, похлеще, чем в модный парикмахерский салон. От этого и власть, и деньги, и уверенность в завтрашнем дне. Но не только это. Каждое утро к церкви приезжают кортежи телесериальных богачей, молчаливой толпой направляющихся в церковь – молиться. Они ставят свечки иконе Трифона – покровителю удачи и защитнику российского бизнеса.
Сурово в церкви, да весело в парке. Выставки кошек и собак, катание верхом, аттракционы и клоуны, катки и корты! Среди сокольнических увеселений и утех есть и политик федерального масштаба. Однажды Жириновский – выходец из здешних мест – во время одного из праздников раздал прогуливающимся детям пятьсот эскимо. В другой раз во время посещения выставки Зооэкспо он же приобрел желтоглазого котенка по кличке Wong Winner of Burmyau, а затем и птичью пару— курицу и петуха японской породы “карликовый феникс”. Жириновский в Сокольниках на себя не похож: душка, пацифист, мир во всем мире, не допустим больше революции! Легким путем идет Владимир Вольфович!
Не только теперь, но и всегда была здесь хорошая, веселая, приятная жизнь. До сих пор в парке стоят старые дачные фундаменты, виден местами выходящий на поверхность водопровод позапрошлого века, старинные чугунные роскошные водосточные люки, на которых годы начинаются с тысяча восемьсот…
Лет пятьсот назад здесь располагались егерские поселения, особенно мастерски охотящиеся с соколами. Охота тут была роскошная и во всех смыслах – царская. С местными сокольниками в местных лесах охотились Иван Грозный и Алексей Михайлович. Название и местности, и парка от дворцовой слободы соколиных охотников – сокольников. Пышно и пьяно – с оркестрами, с винными фонтанами, шатрами, фейерверками и раздачей сластей народу – гуляли здесь и Елизавета Петровна, и Екатерина Великая, и внук ее Александр I.
Этот лесной массив включили в Москву только в конце XIX века как окраину и приписали к 20-й (последней в территориальном списке) полицейской части.
Здесь же казенная дача московского генерал-губернатора Ростопчина. Говорят, что он сжег ее со всем имуществом, едва Наполеон вошел в Москву, “повторив подвиг Нерона”. С сороковых годов XIX века вслед за московским начальством сюда потянулся и весь городской истеблишмент, тоже чтобы быть поближе к “золотому телу”, – такие были сумерки природы, флейты голос нежный, поздние катанья. Здесь гуляли с меценатским размахом, улицам раздавали имена владельцев дач, в парке разбили театр, где выступал и Собинов, и – позже – Прокофьев. Парк писали и Левитан (“Осенний день. Сокольники”), и Саврасов (“Лесная дорога в Сокольниках”), а Куприн запечатлел пожарную каланчу.
Сокольники часто изображались на дореволюционных открытках, гравюрах, на коробках конфет, что означает: здесь находилось образцовое место для пристойного досуга.
Это выражалось и во внешнем облике Сокольников – дачные улицы застелили брусчаткой. Построили церковь. Уже в 1871 году пустили конку с Лубянки, в начале XX века – трамвай, парк освещался электрическими фонарями.
Летом продолжались дачные увеселения с иллюминированными купальнями и оркестрами, балами и маскарадами.
В конце XIX века сюда как в образцовое место подмосковного отдыха разрешили пускать всех. Рабочие облюбовали эти благоустроенные места под нелегальные собрания и сходки. Они всё чаще примыкали к здешним пышным майским гуляньям со своими маевками, далекими по смыслу и содержанию от празднования прихода весны. Кончилось тем, что здесь оказался и Ленин. Сначала выступал на митингах, а зимой 18–19 годов приехал навестить свою жену, Крупскую, которая восстанавливала здоровье в домике при лесной школе. Именно по этому адресу и происходила знаменитая елка в Сокольниках (6-й Лучевой просек, дом 21).
Дачи стали коммуналками. Жили по пять-шесть семей в одном доме, хаотично перестраивая былую роскошь. Разделяли комнаты дверцами от барских шкафов, укрепляя их спинками от рабоче-крестьянских кроватей. В некоторых дачах открывали клиники, дом для рожениц или школу для детей с отстающим умственным развитием. В 1926 году сокольническую дачу сняли Брики и Маяковский. Вспоминали об этом так: сад красивый, дача тесная. В общей комнате – большой стол хорошего дерева, большой диван с кистями, большой рояль, черный большой бильярд. Жить зимой в Сокольниках было небезопасно, двери и окна толком не запирались, и на ночь к дверным ручкам привязывали стулья.
Эти нередко перестроенные двухэтажные дома с садиком оставались здесь до начала семидесятых. Их еще помнят нынешние жители, нередко отмечая, что в этих дворах жили ручные вороны – большие, умные, грустные птицы.
В таком домике жил, например, Лев Лещенко. Люди его поколения вспоминают, что шпаны в этом районе было видимо-невидимо, кишели, словно личинки моли на старом полушубке. Милиция прямо со школьных диктантов забирала в отделение, с собаками приходила в класс.
Попытка цивилизовать некогда роскошный дачный район была предпринята в 1935 году, когда здесь была открыта конечная станция первой линии Московского метрополитена.
Тогда же Сокольничья роща, где тогда свистали в основном соловьи-разбойники пролетарского происхождения, была преобразована в парк, и газеты с гордостью сообщали, что его территория – 600 га – в четыре раза больше знаменитого Гайд-парка. Многое тогда в парке назвали на старинный манер: пруды поименовали Лебяжьими, каскады – Оленьими. Как будто кто-то по-библейски распорядился – живите и размножайтесь. В парке стали назначать народные гуляния, позже возвели выставочный центр, понастроили школ и детских садиков.
Нынешние Сокольники как район обывательского счастья был воплощен в жизнь в начале восьмидесятых, и, кажется, капитализм не затронул образа мысли здешних жителей. Поэтому, наверное, здесь на шестьдесят тысяч населения сравнительно немного ресторанов и кафе, а по внешнему виду ничего особо не изменилось с советских времен и девяностых – разношерстные вывески, обменники на каждом углу, торговля из плохоньких киосков, бабушки у метро с рубиновой редиской и пучками укропа, одежда в магазинах простецкая и дешевая: не до фэшна и экшна в уютном и зеленом районе, где царят мамаши и трогательные младенческие улыбки.
Но были и другие Сокольники – мрачные и печальные, и тем самым только оттеняющие дух Сокольников радостных. Это Сокольники, что за каланчой, идущие к Яузе, говорят, самой грязной из московских рек. По распоряжнию Петра I на берегу Яузы построили Хамовный двор – парусную фабрику, при ней была матросская слобода. В конце XVIII века здание фабрики отдали под Екатерининскую богадельню для матросов. Некоторые матросики уходили в разбой и из приюта отправлялись прямиком в тюрьму, '"Матросскую тишину”-2, откуда тоже ни о каких буйствах вестей не было. В районе было много больных и увечных. В XIX веке к этому колориту добавилась знаменитая туберкулезная клиника, к которой в двадцатые годы XX века – еще и клиника венерологическая. Райское местечко.
Сокольническое топонимическое сознание отрицает яузский узел. Спросишь на улице: а где тут у вас тюрьма? Не у нас, отвечают местные, это ближе, туда, к Преображенке. Не хотят они впускать этот мрачный мир в свою среду обитания. Зарождающиеся “здоровые” Сокольники как бы выпихнули из гнезда брата-уродца, отпихнули его за каланчу. Не случайно здесь же обосновался театр Романа Виктюка, в бывшем ДК им. Русакова, доме в форме трактора, именованном в честь революционера-стачечника.
По логике места совсем не удивительно, что томились именно здесь за толстыми тюремными стенами Ходорковский и Лебедев, Япончик и Тайванчик, – знаменитости, так и не разгадавшие простого рецепта честного обывательского счастья.
Ростки цивилизации
Александр Иличевский