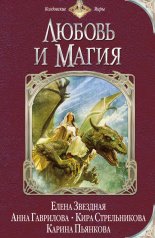Мои странные мысли Памук Орхан

С трудом, оставшись на второй год, Мевлют окончил второй класс лицея и после этого окончательно забросил учебу. Он не приходил в школу даже на экзамены. Отец знал об этом. Мевлют теперь даже не делал вида, что готовится к экзаменам.
Как-то вечером ему захотелось курить. Он тут же вышел из дому и отправился к Ферхату. Во дворе у Ферхата какой-то парень что-то, помешивая, лил в ведро. «Это щелочь, – сказал Ферхат. – Если кинуть в нее муки, она станет липкой. Мы идем клеить листовки. Ты тоже иди с нами, если хочешь». Он повернулся к парню и сказал: «Мевлют хороший, он наш. Али – Мевлют».
Мевлют пожал руку рослому Али. Али держал сигарету, это была «Бафра». Мевлют начал им помогать. Он верил, что занимается этим опасным делом потому, что оно благородно.
Они медленно прошли по темным переулкам, не попавшись никому на глаза. Завидев подходящее место, Ферхат сразу останавливался и, опустив ведро на землю, начинал намазывать щеткой клей на стену. В это же время Али выхватывал из-под мышки плакат и ловко, быстро прижимал его к стене. Пока Али приклеивал плакат, водя по нему руками, Ферхат несколько раз проходился кисточкой по его поверхности и особенно по углам.
Мевлют стоял на страже. В нижних кварталах Дуттепе они чуть было не напоролись на веселую семью из отца, матери и маленького сына, которая явно возвращалась из «телевизионных» гостей («Я не буду спать!» – повторял мальчик). Когда семейка прошла мимо, все трое с облегчением вздохнули.
Расклейка плакатов по ночам напоминала ночную торговлю. Нужно было выходить на улицу, приготовив дома волшебную смесь. Разница заключалась в том, что ночной торговец привлекает к себе внимание криками и звоночком, а тот, кто развешивает плакаты, должен соблюдать осторожность.
Они сделали крюк, чтобы обойти кофейни внизу холма, рынок и пекарню Хаджи Хамита. Когда они пришли на Дуттепе, Мевлют почувствовал себя партизаном, которому удалось проникнуть на вражескую территорию. Теперь на страже стоял Ферхат, а Мевлют нес ведро и мазал клеем стены. Пошел дождь, улицы опустели, и Мевлюту показалось, что пахнет странным запахом смерти.
Где-то вдалеке раздались звуки выстрелов, отозвавшиеся эхом между холмами. Троица остановилась, глядя друг на друга. Мевлют впервые внимательно прочитал, что написано на плакате, и задумался: УБИЙЦАМ ХЮСЕЙНА АЛКАНА БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЕН СЧЕТ. Под надписью красовался серп и молот, а еще – подобие красного знамени, декоративная красная лента. Мевлют понятия не имел, кто такой Хюсейн Алкан, но понимал, что он, вероятно, как и Ферхат с Али, алевит, что они хотят, чтобы их считали коммунистами, при этом Мевлют чувствовал легкую вину и в то же время превосходство за то, что сам не алевит.
Дождь пошел сильнее, и улицы совершенно опустели, даже собаки лаять перестали. Парни встали под карнизом, и тогда Ферхат шепотом рассказал: Хюсейн Алкан был убит идеалистами с Дуттепе две недели назад, когда возвращался из кофейни.
Они вошли на улицу, где жили дядя с братьями. Мгновение Мевлют смотрел на дом, в котором он бывал тысячи раз с момента приезда в Стамбул и в котором они с дядей, Коркутом, Сулейманом и тетей Сафийе провели много счастливых часов, глазами яростного коммуниста, развешивавшего плакаты по ночам, и признал, как прав был в своей обиде отец. Акташи, дядя и братья, откровенно присвоили себе дом, который строили они всей семьей.
Вокруг никого не было. Мевлют взял кисть и на самом видном месте дома намазал побольше клея. Али наклеил даже два плаката. Дворовая собака узнала Мевлюта и поэтому не лаяла, а приветливо махала хвостиком. Они наклеили плакаты еще сзади и по бокам.
– Хватит, нас застукают, – прошептал Ферхат. Гнев Мевлюта напугал его.
Чувство свободы, которое возникает, когда делаешь что-то запретное, вскружило Мевлюту голову. Его поливало дождем, а он и не замечал, что щелочь клея жжет ему руки и у него горят кончики пальцев. Так добрались они до вершины холма, оставляя за собой плакаты на домах безлюдных улиц.
На стене мечети Хаджи Хамита Вурала, обращенной к площади, красовалось огромное объявление: «Клеить плакаты запрещено!» Поверх объявления было наклеено множество афиш и рекламных объявлений – здесь красовались и реклама стирального порошка, и плакаты от национал-идеалистов «Да хранит турок Всевышний!», и реклама курсов Корана. Мевлют с удовольствием вымазал все это клеем, и вскоре вся стена была заклеена только их афишами. Во дворе мечети никого не было, так что они наклеили афиш еще и на забор с внутренней стороны.
Раздался легкий шум. Кажется, от ветра хлопнула дверь, но им показалось, что лязгнул затвор ружья, и они побежали. Мевлют чувствовал, что облился клеем, но все равно продолжал бежать. С Дуттепе они убежали, но, так как им стало стыдно, что они испугались, они продолжили свою работу на соседних холмах, пока плакаты не закончились. На исходе ночи их руки покрылись ссадинами, волдырями и горели огнем.
Сулейман. Какой-то алевит подписал себе смертный приговор, приклеив на стену мечети коммунистическую афишу. Старший брат тоже так думает. Вообще-то, алевиты – тихие, работящие люди, от которых нет никому вреда. Правда, некоторые из них, любители приключений, хотят нас поссорить – и все на деньги коммунистов. У этих марксистов-ленинистов на уме было только одно: заставить холостых земляков Вурала, которых он понапривозил из Ризе, качать права и устроить профсоюзы. Правда, одинокие мужчины из Ризе приезжают в Стамбул не глупостями заниматься, а деньги зарабатывать; им вовсе не хочется оказаться в трудовых лагерях Сибири или Маньчжурии. Поэтому бдительные выходцы из Ризе всякий раз отражают атаки алевитских коммунистов. А люди Вурала еще и донесли на коммунистов-алевитов с Кюльтепе в полицию. В кофейни пришли полицейские в штатском и сотрудники Управления безопасности, закурили сигареты (как и все государственные служащие, они курили «Новый урожай») и принялись смотреть телевизор. Надо сказать, что люди Вурала захватили на Дуттепе участки земли, которые много лет назад присвоили курды-алевиты. Алевиты утверждают, что те старые участки на Дуттепе, да и участки на Кюльтепе, где они настроили домов, законно принадлежат им! Неужели?! Братец, если у тебя никаких документов на землю нет, то будет так, как решит мухтар. Ну а мухтар у нас тоже из Ризе, и звать его Рыза. Если б правда была на твоей стороне, тебя бы не мучила совесть, если бы тебя не мучила совесть, то ты бы не развешивал среди ночи на наших улицах коммунистические плакаты, не вешал бы безбожной бумаги на стену мечети!
Коркут. Двенадцать лет назад, когда я приехал из деревни к отцу, половина Дуттепе и почти все окрестные холмы были не застроены. В те времена все кому не лень, не только такие бездомные, как мы, кому в Стамбуле негде было голову склонить, но и те, у кого в самом центре города было много добра, принялись захватывать эти земли. Обеим фабрикам у главной дороги, ведущей к холмам, – одной по производству лекарств, другой – лампочек, да и новым цехам, постоянно открывавшимся вокруг, – требовались бесплатные участки для домов трудившихся за бесценок рабочим, которым нужно было где-то спать. И поэтому никто не издавал ни звука, когда каждый встречный-поперечный присваивал себе государственный участок. Так как новость об очередном захваченном участке разлеталась мгновенно, многие оборотистые люди, которые в городе служили в государственных учреждениях, работали учителями или даже были владельцами лавок, старались захватить на наших холмах по участку в надежде, что когда-нибудь это принесет деньги. А как ты объявишь участок своим, если у тебя нет на него документов? Или воспользуешься тем, что государство в упор ничего не видит, в одну ночь поставишь дом и начнешь жить в нем, или будешь охранять участок с оружием в руках. Или кому-нибудь денег заплатишь, чтобы он охранял твой участок. Но ведь и этого мало. С тем, кому ты заплатишь, нужно будет подружиться, делить с ним стол, чтобы он хорошенько охранял твое имущество и чтобы в один прекрасный день, когда государство объявит амнистию и начнет выдавать документы, этот человек не сказал: «Господин инспектор, вообще-то, это мое, у меня и свидетели есть!» Так что это непростое дело до сих пор лучше всех удавалось нашему старосте Хаджи Хамиту Вуралу из Ризе. Ведь он не только кормил своих холостых работников, которых он привез из деревни и которым дал работу на стройках или в пекарнях (ведь на самом деле они сами пекли себе хлеб), но и заставлял их охранять свои участки, и это была настоящая армия. Хотя парней из Ризе не очень-то просто сразу научить стать настоящей армией. Чтобы научить деревенских ребят уму-разуму, мы их сразу бесплатно записали в наше общество при будущей мечети, а еще в салоне карате и тхэквондо в Алтайлы, чтобы они хорошенько выучили, что значит быть турком, что такое Средняя Азия, кто такой Брюс Ли и что такое темно-синий пояс. А чтобы эти ребята, которые выматываются в пекарнях и на стройках, не отправились после работы в дома свиданий к проституткам Бейоглу или не стали добычей ячеек русских коммунистов, мы отвели их в наше собственное общество в Меджидиекёе, где показываем им приличные семейные фильмы. Парней, глаза у которых начинались слезиться от взгляда на карту нынешней Средней Азии, я записывал в члены нашего общества. В результате наших стараний наша организация в Меджидиекёе и наши отряды и окрепли, и поумнели, и начали понемногу захватывать другие холмы. Коммунисты слишком поздно поняли, что на нашем холме они потеряли влияние. Первым это понял отец хитреца Ферхата, с которым так нравится дружить Мевлюту. Этот жадный, помешанный на деньгах человек, захватив здесь участок, тут же, чтобы закрепить его за собой, построил себе на нем дом и вместе со всей семьей переехал сюда из Каракёя. Потом он позвал сюда своих курдско-алевитских товарищей из Бингёля, чтобы сохранить за собой все участки, захваченные на Кюльтепе. Убитый Хюсейн Алкан был из их деревни, но кто его убил, я не знаю. Когда убивают какого-нибудь коммуниста, который доставлял много проблем, его дружки сначала устраивают демонстрацию с лозунгами, развешивают плакаты, а после похорон громят все вокруг. Они вообще любят похороны, потому что на похоронах всласть удовлетворяют свою страсть что-нибудь покрушить. Потом, правда, они понимают, что приближается их очередь, и либо пускаются в бега, либо бросают свои коммунистические идеи.
Ферхат. Наш дорогой погибший друг, братец Хюсейн, был очень хорошим человеком. На Кюльтепе из деревни в один из наших домов его привез мой отец. Его убили среди ночи выстрелом в затылок, и уж точно это дело рук людей Вурала. А полиция во всем обвинила нас. Я-то знаю, что вураловские фашики скоро нападут на Кюльтепе и всех нас зачистят по одному, но никому об этом не говорю – ни Мевлюту (ведь он такой простофиля, пойдет и расскажет все людям Вурала), ни нашим. Половина леваков – алевитов – за Москву, вторая половина – за Мао, и из-за этого они постоянно грызутся, так что если я и этим скажу, что скоро они потеряют Кюльтепе, то пользы тоже не будет. По правде, я не верю ни в какие идеалы. Я собираюсь открыть свое дело и с головой окунуться в торговлю. А еще я очень хочу поступить в университет. Как и большинство алевитов, я левак, атеист и очень не люблю националистов и всяких там карателей. Когда кого-то из наших убивают, я иду на похороны, кричу лозунги, машу кулаками, хоть и знаю, что дело наше гиблое. Отец мой все понимает и иногда предлагает: «Не продать ли нам дом и не уехать ли с Кюльтепе?» – но сделать он этого не сможет, ведь это он всех сюда привез.
Коркут. Наш дом так был обклеен афишами, что я понял – сделала это не ячейка, а кто-то, кто нас знает. Два дня спустя к нам зашел дядя Мустафа и рассказал, что Мевлют по ночам где-то пропадает, а школу совсем забросил, и тогда я занервничал. Дядя Мустафа пытался расспросить Сулеймана, может, они вместе беспутничают. Но я-то чувствовал, что из-за этого пса по имени Ферхат наш Мевлют мог попасть на скользкую дорожку. А Сулейману я сказал, чтобы он через два дня позвал Мевлюта к нам на ужин отведать курицы.
Тетя Сафийе. Мальчики мои, особенно Сулейман, и дружить с Мевлютом хотят, и не обижать его не могут. Отец Мевлюта так и не накопил денег, и ни свой деревенский дом до ума не довел, ни тутошнюю их однокомнатную лачужку не достроил. Иногда я говорю себе, надо пойти на Кюльтепе, пусть женская рука коснется хоть раз этого хлева, в котором отец с сыном столько лет живут двумя холостяками, но всякий раз робею, боюсь, что сердце мое на части разорвется. После начальной школы мой птенчик Мевлют провел всю жизнь в Стамбуле, словно сиротка, когда отец его решил, что семья останется в деревне. Первые годы жизни в Стамбуле, соскучившись по матери, он часто приходил ко мне. Я обнимала его, целовала, гладила, говорила ему, какой он умный. Коркут с Сулейманом ревновали, но я не обращала на них внимания. А сейчас он все тот же – на лице такое же невинное, как у маленького, выражение, мне хочется обнять и расцеловать его, я знаю, ему тоже хочется, чтобы я его обняла, но теперь он здоровый как бык, весь в прыщах, а Коркута с Сулейманом стесняется. О школе я его теперь и не спрашиваю, потому что по нему видно – в голове у него полный беспорядок. Как только пришел он к нам в тот раз, я увела его на кухню и, пока Коркут с Сулейманом не видели, расцеловала. «Машаллах, теперь ты, сынок, вытянулся как жердь и сутулишься. Погоди, хватит стесняться, дай я на тебя посмотрю!» – сказала я. «Тетя, я сутулюсь не потому, что ростом высок, а потому, что шест тяжело носить. Вообще-то, я бросить это дело хочу…» – сказал он. За обедом он так набросился на курицу, что сердце мое обливалось кровью. Когда Коркут принялся рассказывать, что коммунисты заманивают на свою сторону наивных простаков льстивыми речами и посулами, Мевлют молчал. На кухне я отчитала Коркута с Сулейманом: «Ах вы бессовестные, что ж вы его пугаете, бедного?»
– Мама, мы его подозреваем! Не вмешивайся! – ответил Коркут.
– Ну-ка, вон отсюда, нашли кого подозревать! В чем можно подозревать моего бедного Мевлютика?! Он никак не связан с врагами-безбожниками!
Я слышала, как, вернувшись к столу, Коркут произнес: «А Мевлют сегодня отправится вместе с нами писать обращения, чтобы доказать, что никак не связан с проклятыми коммуняками! Правда, Мевлют?»
Братья шли втроем, в руках у Мевлюта было огромное ведро, но в нем плескался не клей, а черная краска. Когда они приближались к очередному подходящему месту, Коркут, державший огромную кисть, приноровившись, принимался писать очередной лозунг. А Мевлют, держа ведро с краской, читал лозунги, которые Коркут выписывал на стенах. Больше всего ему нравился такой: «ДА ХРАНИТ ТУРОК ВСЕВЫШНИЙ!» Лозунг нравился потому, что напоминал Мевлюту то, что они учили в школе на уроках истории. Мевлют вспоминал тогда, что он – часть огромной мировой тюркской семьи. Другие лозунги были угрожающими. Когда Коркут выводил: «ДУТТЕПЕ СТАНЕТ КОММУНИСТУ МОГИЛОЙ», Мевлют чувствовал, что здесь говорится о Ферхате и его товарищах, и надеялся – авторы этих слов не пойдут дальше угроз.
По случайно брошенной фразе Сулеймана, который стоял на страже («Инструмент при мне!»), Мевлют понял – у двоюродных братцев есть оружие. Если на стене было достаточно места, Коркут перед словом КОММУНИСТ дописывал слово БЕЗБОЖНИК. Часто у него не получалось написать аккуратно и ровно, так что слова и буквы выходили маленькими и кривыми, а Мевлют задумывался об этом беспорядке. (Он почему-то верил, что у торговца, который пишет вкривь и вкось название своего товара на стекле своего автомобиля или на коробке из-под бубликов-симитов, нет никакого будущего.) Один раз он не выдержал и сделал Коркуту замечание, что тот написал слишком большую букву «К». «Ну тогда давай сам пиши». Коркут сунул в руки Мевлюту кисть. Двигаясь по улицам в ночной тьме, Мевлют несколько раз написал «ДА ХРАНИТ ТУРОК ВСЕВЫШНИЙ!» поверх объявлений сюннетчи, надписей «Тот, кто мусорит, – осел» и афиш, которые четыре дня назад он расклеил вместе с коммунистами.
Они шли мимо лачуг гедже-конду, заборов и лавок, словно по темному и густому лесу. Той ночью на Дуттепе и других холмах Мевлют заметил многое. Квартальный источник был заклеен афишами и расписан лозунгами. Люди, которые сидели с сигаретой перед кофейней, оказались вооруженными охранниками. Мевлют думал о многом. Он думал и о том, что быть турком и чувствовать это, гораздо лучше, чем быть бедняком.
11. Война Кюльтепе и Дуттепе
Мы ни за кого
Однажды вечером в конце апреля к кофейне «Йюрт», что у въезда на Кюльтепе, подъехало такси, из которого по сидевшим перед телевизором и за картами посетителям открыли огонь. За пятьсот метров от этого места, в доме с другой стороны холма, Мевлют с отцом в редкой для них дружеской атмосфере черпали ложками чечевичный суп. Услышав выстрелы, они переглянулись и дождались, пока выстрелы не стихнут. Мевлют подошел было к окну, но отец воскликнул: «Отойди!» Через некоторое время выстрелы послышались на большем отдалении, и они снова взялись за суп.
– Ты слышал? – спросил отец с видом всеведущего мудреца, словно бы это было доказательством его прежних слов.
Расстреляли две кофейни, на Кюльтепе и на Октепе, в которые ходили леваки и алевиты. На Кюльтепе погибли двое, а на Октепе один, ранено было около двадцати человек. На следующий день начались беспорядки, инициированные марксистскими группировками, которые называли себя вооруженными пионерами, и родственниками алевитов. Мевлют с Ферхатом тоже были в толпе. Они не сжимали в гневе кулаки, как остальные, не пели вместе со всеми революционные песни, так как не знали слов, но ярость душила их… Ни люди Вурала, ни полиция так и не появились. И поэтому не прошло и двух дней, как не только на Кюльтепе, но и на Дуттепе все стены и заборы покрылись марксистскими или маоистскими лозунгами. Среди лозунгов появились и новые, которые соответствовали моменту.
На третий день подъехали голубые автобусы, из которых вышли усатые полицейские с черными дубинками. Вместе с ними появилась и толпа журналистов с камерами, которых тут же начали дразнить мальчишки: «А ну, сними-ка и меня!» После того как похоронная процессия достигла Дуттепе, часть толпы, как и ожидалось, отправилась на демонстрацию.
На этот раз Мевлют никуда не пошел. Участок дяди Хасана был рядом с площадью перед мечетью, и теперь дядя, Коркут и Сулейман вместе с людьми Вурала смотрели, покуривая сигареты, на толпу, собравшуюся внизу. Мевлют не стеснялся их, он не боялся того, что они его накажут или перестанут с ним разговаривать.
Толпа, направлявшаяся с похорон, у мечети была остановлена полицией, возникла давка. Несколько парней из толпы, завидев лавку, обклеенную националистическими лозунгами, тут же выбили в ней все стекла. За короткое время толпа разнесла агентство недвижимости «Фатих» и расположенный рядом небольшой офис строительной компании – ею управляла семья Хаджи Хамита. В помещениях, в которых молодые националисты, контролировавшие весь Дуттепе, убивали время за телевизором и сигаретами, не оказалось ничего ценного, кроме столов, пишущей машинки и все того же телевизора. Но из-за этого погрома война националистов с марксистами, иначе говоря, левых с правыми, а лучше – Коньи с Бингёлем, в полной мере предстала перед глазами всего квартала.
За активными и кровавыми беспорядками, длившимися чуть более трех дней, Мевлют наблюдал издалека, вместе с зеваками. Он видел, как полицейские в шлемах, размахивая дубинками, с возгласами «Аллах! Аллах!», словно янычары, бросились на толпу. Мевлют видел и то, как толпу полили водой из бронированной брандспойтной машины. Во время всех этих беспорядков он уходил в город, чтобы доставить йогурт своим постоянным клиентам в Шишли и Ферикёе, а по вечерам отправлялся торговать бузой. Однажды вечером он увидел, что между Дуттепе и Кюльтепе сооружают ограждение, и на всякий случай спрятал лицейский билет. А у полиции его вид – вид бродячего торговца – никаких подозрений не вызвал.
Досада и чувство солидарности заставили его пойти в школу. За три дня обстановка в школе накалилась, пропитавшись политикой. Ученики левых взглядов то и дело поднимали палец и, бесцеремонно перебив учителя, принимались произносить политические речи. Мевлюту нравилась эта атмосфера свободы, но сам он хранил молчание.
Скелет отдал приказ учителям затыкать всех тех, кто, вместо того чтобы, вежливо подняв палец, рассказывать об османских завоеваниях и реформах Ататюрка, начинал ругать капитализм и американский империализм, а также пресекать любые попытки сорвать урок. Но даже самая главная мегера, Жирная Мелахат, сдерживалась перед учениками, которые, перебив ее, начинали жаловаться на «несправедливый строй» и обвиняли ее в том, что она своими рассказами о лягушатах служит эксплуататорам, пытающимся скрывать классовые различия. Учительница Мелахат принималась оправдываться, говоря, что ее жизнь тоже очень сложна, что работает она целых тридцать два года и что, по правде говоря, ждет пенсии. Мевлют сочувствовал ей, и ему очень хотелось, чтобы классные бунтари оставили ее в покое. Некоторые рослые «старички» на задних партах пользовались политическим кризисом, чтобы похулиганить; умники и отличники с передних парт притихли, те из учеников, кто поддерживал националистов, – тоже, а некоторые стали реже появляться в школе. Иногда школьники откуда-то узнавали, что в квартале происходят новые столкновения и полиция вновь пытается усмирить толпу. Тогда все бросались носиться по всем этажам и коридорам мужского лицея имени Ататюрка, выкрикивая лозунги: «Будь проклят фашизм!», «Да здравствует независимая Турция!», «Даешь свободное образование!» – а затем обычно отбирали у старосты список отсутствующих, поджигали его сигаретами и после присоединялись к толпе или на одном холме, или на другом либо же – если были деньги или был знакомый контролер – просто отправлялись в кино.
За два месяца до этого физик Фехми, которого не любили, на глазах у всего класса, включая разгневанного и огорченного Мевлюта, при всех унизил одного лицеиста родом из Диярбакыра, передразнив его говор. Ученики потребовали, чтобы физик извинился перед их одноклассником, но этого не последовало, класс возмутился, а некоторые школяры даже объявили всем занятиям бойкот, как бывает в университетах, после чего Скелет вызвал в школу полицию. Прибыли полицейские в синей форме и в штатском, заняли проходы в здании наверху и внизу и, как это тоже нередко бывает в университетах, начали проверять документы у всех входящих. Мевлюту казалось, что в лицее царит такая же обстановка, какая бывает после пожара или землетрясения, но он не мог скрыть от себя, что бунт ему нравится. Он ходил на классные собрания, но, когда начинался жаркий спор или драка, осторожно отходил в сторонку, а после объявления бойкота отправился продавать йогурт.
Через неделю после того, как полиция прибыла в школу, Мевлюту преградил путь ученик третьего класса лицея, живший на одной улице вместе с Акташами, и сообщил ему, что этой ночью его ждет Коркут. Вечером Мевлют, показывая удостоверение личности различным наблюдателям правых и левых группировок и полиции и давая себя обыскивать, дошел до дядиного дома, где увидел незнакомого парня: тот ел фасоль с мясом за столом, за которым он, Мевлют, два месяца назад ел курицу. Звали парня Тарык. Мевлют сразу понял, что тете Сафийе этот Тарык не нравится, но что Коркут ему доверяет и относится к нему как к важному человеку. Коркут велел Мевлюту держаться подальше от Ферхата и других коммунистов. Он сообщил, что русские, желая добраться до теплых морей, планируют устроить в Турции, которая противостоит их империалистическим планам, внутренние столкновения суннитов с алевитами, турок с курдами, богатых с бедными и ради этого провоцируют на конфликт даже тех курдов и алевитов, у которых нет собственного дома. С этой точки зрения стратегически важно удалить с Кюльтепе и остальных холмов курдов и алевитов из Бингёля и Тунджели.
– Передавай привет дяде Мустафе, – сказал на прощание Коркут тоном Ататюрка, склонившегося над картой перед боем. – Смотрите, в четверг сидите дома! Все бывает, к сожалению, рядом с сушняком может вспыхнуть и зелень, как говорится!
Сулейман, поймавший вопросительный взгляд Мевлюта, с гордым видом человека, который знает о событиях задолго до того, как они произойдут, добавил:
– В четверг назначена операция.
Той ночью Мевлют с трудом уснул из-за выстрелов.
Наутро он понял, что разговоров о предстоящей операции все больше, что в школе даже Мохини знает – в четверг произойдет нечто ужасное. За два вечера до того вновь было совершено нападение на кофейню у въезда на Кюльтепе, где часто собирались алевиты, погибло двое. Большинство же кофеен и лавок стояло с приспущенными ставнями, а некоторые вообще были закрыты. Мевлют слышал еще и то, что якобы на домах алевитов, на которые планируется напасть во время операции, ночью нарисуют крест. Мевлюту очень хотелось сходить в кино или поразвлечься с собой, но в то же время он желал своими глазами увидеть все, что произойдет.
В среду леваки вновь хоронили своих товарищей, сопровождая похороны выкрикиванием лозунгов, и вновь толпа разгромила пекарню, принадлежащую семейству Вурала. Полиция ни во что не вмешивалась, и поэтому работники пекарни, какое-то время пытавшиеся отбиться дровами и ухватами, в конце концов бросили помещение с благоухающим свежим хлебом и сбежали через заднюю дверь. Ходили слухи, что алевиты напали на несколько мечетей и, кроме того, подложили бомбы в нескольких националистических центрах в Меджидиекёе.
– Пойдем сегодня продавать бузу в город, – сказал отец. – К бродячим разносчикам бузы никто никогда не пристанет. Мы ни за кого.
Они взяли свои шесты и бидоны, вышли из дому, но весь квартал был оцеплен полицией, никого не выпускали. Увидев вдалеке синие мигалки полицейских машин, «скорой помощи» и пожарных, Мевлют почувствовал, как заколотилось сердце. Вернувшись домой, отец с сыном совершенно напрасно какое-то время смотрели в экран черно-белого телевизора. Естественно, ни одной новости про события на холме там не было. В конце концов, потеряв в тот вечер свой заработок, они просмотрели ток-шоу, посвященное завоеванию Стамбула. Взбешенный отец, как всегда, принялся честить без разбору и правых и левых – словом, «всех проклятых бездельников, из-за которых бедные торговцы теряют кусок хлеба».
Вскоре отец с сыном уснули и проснулись после полуночи от громких криков и топота множества ног. Отец встал проверить засов на двери, а затем придвинул к ней колченогий стол, за которым Мевлют учил уроки. Выглянув в окно, Мустафа с Мевлютом увидели на склоне Кюльтепе пламя пожара. Отблески пламени освещали низкие темные облака, создавая в небе странный свет; свет от пожара, разливавшийся по улицам, дрожал, дрожало и небо, и казалось, дрожит весь мир. Они услышали выстрелы. Потом Мевлют увидел второй пожар.
– Не стой у окна, – велел отец.
– Папа, давай проверим стены! Говорят, что на домах, которые должны быть зачищены, рисуют крест! – воскликнул Мевлют.
– Мы же не алевиты!
– Все равно! Давай проверим! А вдруг и нам нарисовали крест? – не успокаивался Мевлют, думая о том, как часто все его видели с Ферхатом и другими леваками в том квартале. Эти мысли от отца он утаил.
Улучив момент, когда на улице стало спокойнее, а крики поутихли, они открыли дверь и оглядели ее; на ней ничего не было. Но Мевлют для пущей уверенности хотел осмотреть еще и стены. «Вернись в дом!» – крикнул отец. Выбеленная лачуга, в которой они провели многие годы, сейчас, среди ночи, выглядела оранжевой и казалась каким-то призрачным домиком. Они затворили дверь и не сомкнули глаз до утра, пока выстрелы не смолкли.
Коркут. Я, признаться, тоже не поверил, что алевиты подложили бомбу в мечеть, но ложь обычно быстро расходится. Терпеливые, молчаливые и богобоязненные жители Дуттепе уже видели «своими глазами», как на стенах мечети и домов в самых дальних кварталах висели коммунистические плакаты, и теперь гнев их был велик. Как такое может быть? Ты и в Каракёе хочешь жить, и в Сивасе, и в Бингёле – даже не в Стамбуле! – и землей на Дуттепе владеть хочешь! Вчера вечером по-настоящему стало ясно, кто тут настоящий хозяин, кто в самом деле живет у себя дома, а кто – проездом. Сложно остановить молодых националистов, если ты к тому же и веру их оскорбил. Разрушили много домов. В квартале наверху холма кто-то сам поджег свой дом, чтобы все увидели, и чтобы газетчики написали «националисты режут алевитов», и чтобы вмешалась полиция «Пол-асс»[33]. Турецкая полиция тоже разделилась, как и турецкие учителя. Народные полицейские жгут свои дома и даже себя поджигают, как недавно было в одной тюрьме, чтобы был повод лишний раз обвинить власти.
Ферхат. Полиция ни во что не вмешивалась, а если и вмешивалась, то только помогала разорять дома. Спрятав лица под балаклавами, националисты небольшими отрядами нападали на дома, все снося и круша на своем пути, а когда домов алевитов не осталось, начали громить их лавки. Лавка семейства Дерсимли сгорела полностью. В ответ наши начали стрелять. Тогда они отступили, это было уже поздно ночью. Но мы думаем, что они вернутся, когда рассветет.
– Пойдем в город, – позвал утром Мевлюта отец.
– Я останусь здесь, – отозвался тот.
– Сынок, послушай. Их разборки надолго, они ненасытны, не успокоятся, пока не перебьют друг друга, не напьются крови, а политика – лишь повод… А мы лучше будем продавать свой йогурт, свою бузу. Не вмешивайся ты в это. И держись подальше от алевитов, от леваков, от курдов, от этого Ферхата, чтобы нас тоже не выкинули из дому, когда будут выкидывать их.
Мевлют поклялся честью, что из дому шагу не сделает. Он обещал, что останется дома и будет его сторожить, но, как только отец ушел, ни минуты не сидел на месте. Насыпав в карманы тыквенных семечек, он взял с собой маленький кухонный нож и, словно мальчик, который торопится в кино, помчался в верхние кварталы.
Там улицы были полны народа; у многих были в руках дубинки. Видел он и девушек, которые, словно бы ничего не происходило, шли из бакалеи, жуя жвачку и прижимая к груди свежий хлеб; видел и женщин, стиравших белье у себя перед домом. Ясно было, что население, состоявшее из набожных выходцев из Коньи, Гиресуна и Токата, алевитов не поддерживало, но и воевать с ними тоже не хотело.
– Братец, не переходи улицу перед этими домами, – сказал какой-то парень задумчивому Мевлюту.
– Тут могут выстрелить с Дуттепе, – добавил его приятель.
Мевлют, не послушав, в один прыжок оказался на другой стороне улицы. Парни смотрели на него серьезно, хотя и засмеялись, когда он прыгал.
– Вы не пошли в школу? – спросил Мевлют.
– Школа закрыта! – весело крикнули они.
На пороге сгоревшего дома Мевлют увидел плакавшую женщину; она вытащила все свое имущество – соломенную корзину и намокший тюфяк, – совершенно такие корзина и тюфяк были у них дома. Он поднимался по резко уходящей вверх улице, как вдруг его остановили двое – один длинный, другой круглый, как мячик, – но тут кто-то третий сказал, что это Мевлют с Кюльтепе, и его отпустили.
Вершина Кюльтепе превратилась теперь в наблюдательный пункт. Стены этого наблюдательного пункта, созданные из бетонных фрагментов, железных дверей, жестяных ведер, заполненных землей, из саманных и обычных кирпичей, иногда упирались в какой-нибудь дом, а за ним шли дальше.
Пули были дорогим удовольствием. Стреляли нечасто. Перестрелки часто надолго стихали, и тогда Мевлют, как и другие, переходил по холму с одного места на другое. Ферхата он разыскал ближе к полудню, на крыше недавно построенного бетонного здания у столбов городской линии электропередачи.
– Скоро здесь будет полиция, – предупредил Ферхат. – Победить нам нет возможности. Полицейских с фашистами больше, да и вооружены они лучше. И пресса на их стороне.
Таковы были «личные» мысли Ферхата. При посторонних он твердил: «Никогда мы не пустим сюда этих сукиных детей!»
– Завтрашние газеты не будут писать о резне алевитов на Кюльтепе, – с горечью сказал он. – Напишут, что подавили восстание левых ячеек и что коммунисты сожгли себя заживо, чтобы устроить всем неприятности.
– Так зачем же мы сражаемся, если нас ждет плохой конец? – спросил недоуменно Мевлют.
– Ты хочешь, чтобы мы просто так сдались, ничего не предприняв?
Мевлют почувствовал, что совсем запутался. Он видел, что склоны Дуттепе и Кюльтепе были забиты домами; за эти восемь лет, что он провел в Стамбуле, многие лачуги гедже-конду обзавелись надстроенными этажами; некоторые глиняные здания снесли, а на их месте построили новые, из саманного кирпича или даже из бетона; лавки и дома выкрасили свежей краской; взрастили деревья и сады; и склоны обоих холмов покрылись щитами с рекламой сигарет, кока-колы и мыла.
– Пусть лучше и левые и правые спустятся к пекарне Вурала и там сразятся отважно и открыто, – наполовину в шутку, наполовину всерьез проговорил Мевлют. – А тот, кто победит в драке, будет считаться победившим в войне.
– Случись такая заварушка, ты бы за кого болел, Мевлют? – спросил Ферхат.
– Я бы – за социалистов, – ответил Мевлют. – Я против капитализма.
– А вот мы с тобой, когда откроем свой магазин, разве не станем капиталистами? – улыбнулся Ферхат.
– Коммунистов я люблю за то, что они защищают бедняков, – сказал Мевлют. – Но вот почему они не верят в Аллаха?
Когда вновь появился желтый армейский вертолет, с десяти утра патрулировавший Кюльтепе и Дуттепе, население обоих холмов приумолкло. Все, кто занял на холмах позиции, видели, как летчик в прозрачной кабине надел наушники, и принялись смотреть, что будет дальше. Этот вертолет вселял в Мевлюта с Ферхатом, как и во всех обитателей холмов, чувство тревоги. Кюльтепе всем своим видом – желто-красными флагами футбольных болельщиков; алыми знаменами с серпом и молотом; натянутыми между домами транспарантами из кусков ткани; толпой молодых людей в балаклавах, скандировавших лозунги вертолету, – напоминал о революции.
Перестрелка между холмами продолжалась весь день; никто не погиб, только нескольких ранили. Перед тем как стемнело, металлический голос объявил в мегафон, что на обоих холмах вводится комендантский час. Позже объявили, что на Кюльтепе к тому же ожидаются обыски – будут искать оружие. Некоторые особо воинственные защитники холма заняли боевую позицию с тем, чтобы сразиться теперь и с полицией, а безоружные Ферхат с Мевлютом пошли по домам.
Мустафа весь день продавал йогурт и вернулся без приключений. Сев за стол, отец и сын, хлебая чечевичный суп, стали делиться дневными впечатлениями.
Поздно вечером на Кюльтепе отключили электричество, и танки, освещая себе путь яркими фарами, вползли в кварталы, словно злобные неповоротливые раки. Вслед за ними вверх по склону, словно янычары, взбежали полицейские с дубинками и оружием. Какое-то время раздавались частые выстрелы, а затем воцарилась гнетущая тишина. Поздно ночью Мевлют выглянул из окна и увидел, как осведомители в балаклавах показывают полицейским и солдатам дома, которые нужно обыскать.
Утром в дверь постучали. Два солдата искали оружие. Отец Мевлюта, почтительно поклонившись, пригласил их войти, усадил за стол, предложил чая и сказал, что здесь дом разносчика йогурта и они с сыном никакого отношения к политике не имеют. У обоих солдат нос был картошкой, но родственниками друг другу они не доводились: один был родом из Кайсери, другой из Токата. Полчаса солдаты сидели за столом и вели беседу с хозяином о том, что все эти невеселые события приведут лишь к страданиям невинных, а «Кайсериспор» в этом году сумеет выйти в первую лигу. Мустафа-эфенди осведомился, сколько обоим осталось до демобилизации, хороший ли попался командир или колотит без причины.
Пока они пили чай, на Дуттепе собрали все оружие, левацкие книжонки, ободрали плакаты и транспаранты. Большинство студентов и простых граждан, замеченных в беспорядках, арестовали. Вся эта невыспавшаяся братия поначалу отведала побои в полицейских автобусах, а затем прошла через более изощренные пытки – фалаку[34], паяльник или электрический ток. Когда арестованные немного оклемались, их обстригли, сфотографировали вместе с собранным оружием, плакатами и книгами, а фотографии разослали в газеты. Долгие годы шли судебные разбирательства против этих людей. Прокуроры требовали для кого смертную казнь, а для кого пожизненное заключение. В конце концов одни получили десять лет, другие – пять, а нескольких оправдали. Были и такие, кто в тюрьме участвовал в мятежах и голодовках и после этого остался инвалидом или даже ослеп.
Мужской лицей имени Ататюрка тоже на время закрыли. После того как первого мая на площади Таксим в Стамбуле во время разгона демонстрации погибло тридцать пять молодых коммунистов[35], политическая обстановка накалилась, а волна политических убийств захватила Стамбул, с открытием школы и вовсе спешить перестали. Так что Мевлют еще больше отдалился от учебы. Теперь он допоздна торговал йогуртом на расписанных политическими лозунгами улицах, а вечером бльшую часть заработка отдавал отцу. Когда школу наконец открыли, идти туда ему уже совсем не хотелось. Ведь теперь он был самым старшим не только в классе, но и среди тех, кто сидел на задних партах.
В июне 1977 года вновь роздали дневники, и Мевлют увидел, что не смог окончить лицей. Лето он провел в сомнениях и страхах. К тому же Ферхат с семьей, вместе с семьями некоторых алевитов, уезжал с Кюльтепе. А ведь зимой, еще до всех политических происшествий, они с Ферхатом мечтали, что с июля заведут собственное дело на двоих, начнут что-то продавать. Теперь Ферхат был занят отъездом и с головой ушел в дела семьи. Мевлют в середине июля уехал в деревню. Мать твердила, что надо бы его женить, но он не придавал значения ее причитаниям. Денег у него не было, а женитьба означала возвращение в деревню.
В конце лета он отправился в лицей. Жарким сентябрьским утром в старом здании школы царил полумрак и прохлада. Мевлют сказал Скелету, что хочет взять отпуск в школе на год.
Теперь Скелет уважал своего ученика, которого знал уже восемь лет.
– Зачем тебе отпуск, потерпи еще годик, доучись, – сказал он с поразившей Мевлюта нежностью. – Все тебе помогут! Ты самый давний ученик нашего лицея.
– Я хочу в следующем году пойти на подготовительные курсы в университет, – ответил Мевлют. – А в этом году мне нужно поработать и накопить денег. Лицей я окончу в будущем году. Это возможно.
Весь этот сценарий он тщательно продумал в поезде, когда возвращался в Стамбул.
– Возможно-то возможно, но тебе тогда будет двадцать два года, – возразил бессердечный бюрократ Скелет. – За всю историю лицея в нем еще никто не учился до двадцати двух лет. Ну да Аллах с тобой… Я даю тебе учебный отпуск на год. Но мне нужно, чтобы ты принес справку из районного управления здравоохранения.
Мевлют даже не спросил, что за справка нужна. Уже в школьном дворе он всем сердцем осознал, что сейчас в последний раз входил в здание, куда впервые вошел восемь лет назад. Разум советовал ему не поддаваться запаху молока ЮНИСЕФ, которое все еще раздавали на кухне; запаху угольной кладовки, который теперь не использовался; запаху лицейской уборной в подвале, на дверь которой он со страхом смотрел в средней школе. В последнее время, всякий раз приходя в школу, Мевлют думал только одно: «И зачем я прихожу сюда, я ведь все равно лицей не окончу?» А проходя последний раз мимо статуи Ататюрка, сказал себе: «Если бы я очень захотел окончить школу, бы окончил».
Он утаил от отца, что бросил школу.
Иногда, раздав йогурт порядком поубавившимся клиентам, он оставлял где-нибудь у знакомых свой шест, весы и бидоны и отправлялся бродить по городу, куда несли ноги.
Он любил Стамбул за то, что в нем совершались многие события, наблюдать за которыми было одно удовольствие. Самое интересное происходило в Шишли, Харбийе, на Таксиме и в Бейоглу. Мевлют вскакивал утром на автобус, ехал безбилетником до этих районов, а затем совершенно свободно, без всякой ноши, ходил по тем улицам, по которым обычно ему было не пройти с йогуртом, и очень любил раствориться в городской суматохе и шуме. Ему нравилось смотреть на манекены в витринах, наблюдать за тем, как выстраиваются в ряд счастливые мамы в длинных юбках с детьми в костюмчиках. В его голове обязательно рождалась какая-нибудь история. Затем он наблюдал минут десять за какой-нибудь шатенкой, следовавшей по противоположной стороне улицы, или мог решительно войти в первую попавшуюся столовую, назвать имя любого лицейского приятеля и спросить, не здесь ли тот работает. А иногда Мевлют и спросить не успевал – его строгим голосом останавливали: «Мойщик посуды нам больше не требуется!» На улице ему вновь внезапно вспоминалась Нериман. Он принимался шагать в переулки за Тюнелем, отправлялся в кинотеатр «Рюйя», в тесном фойе которого подолгу разглядывал плакаты и фотографии актеров, надеясь, что билеты на входе в зал проверяет кто-нибудь из родственников Ферхата.
Спокойствие и красота, которые не способна была дать жизнь, проявлялись в фантазиях о других мирах. Когда Мевлют смотрел фильм или когда просто мечтал, где-то в глубине души его терзала боль. Он испытывал вину из-за того, что впустую тратил время. Во время просмотра фильма, иногда по понятным причинам, иногда просто так, его член напоминал о себе, и Мевлют прикидывал, получится ли сегодня вечером спокойно поразвлечься, не боясь быть застигнутым врасплох, если он вернется на два часа раньше отца.
Бывало так, что он шел навестить Мохини, работавшего подмастерьем у парикмахера в Тарлабаши, или заходил в кофейню, где собирались водители такси, по преимуществу алевиты и левые, и недолго беседовал с каким-нибудь парнишкой-официантом, с которым в свое время познакомил его Ферхат, а между делом краем глаза следил, как идет за соседним столом игра в окей, и прислушивался к новостям в телевизоре. Он понимал, что убивает время, что на самом деле бездельничает, что жизнь его свернула на неверный путь, но правда эта была так горька, что он утешал себя мечтами: они с Ферхатом смогут начать дело – сначала тоже будут торговать на улицах, но не так, как прочие разносчики. У них будет специальная тележка для йогурта, на которой будут стоять бидоны и которую нужно будет толкать перед собой, а колокольчик будет звенеть от движения. Или они откроют где-нибудь маленькую табачную лавку, вроде той, которую он только что видел, а может, даже и собственную бакалею… В будущем они заработают много денег.
Между тем он с горечью видел – уличная торговля йогуртом становится все менее прибыльной. Люди привыкают к магазинному йогурту.
– Сынок, Мевлют, видит Аллах, мы теперь деревенский йогурт покупаем только для того, чтобы тебя повидать, – сказала ему как-то одна пожилая покупательница.
Мустафа-эфенди. Если бы дело ограничилось только стеклянными бутылками, появившимися в 1960-х годах, то было бы полбеды. Те первые стеклянные йогуртовые миски, которые по форме напоминали глиняные, были массивными и тяжелыми, за них брали дорогой депозит, у них постоянно обивались и трескались края. Домохозяйки привыкли использовать их для других вещей: для кошачьего корма, в качестве пепельницы, или черпалки воды в бане, или мыльницы. Они использовали их по любой хозяйственной необходимости, но в один прекрасный день что-то приходило им в голову, и они сдавали тару бакалейщику, чтобы получить деньги. Так что миску, в которую все бросали мусор и сливали помои и которую облизывала собака, кое-как мыли под шлангом на маленьком заводике в Кяытхане, и затем она попадала на семейный стол со свежайшим и полезным для здоровья йогуртом к другой стамбульской семье. Иногда, когда клиент ставил на чашу весов вместо моей чистой тарелки, на которой я собирался отвесить ему йогурт, такую вот бутылку, я не мог сдержаться и говорил: «Некоторые используют эти бутылки в больницах Чапа в качестве сосудов для мочи, а в санатории на Хейбелиаде их используют для сбора мокроты у туберкулезных больных».
Однако вскоре фирмы начали выпускать стеклянные бутылки, которые были легче и дешевле. Их не надо было возвращать в бакалеи, за них не платили денег, они превращались в обычные стаканы, стоило их помыть, – настоящий подарок домохозяйкам. Стоимость их, конечно, включили в стоимость йогурта. Фирмы приклеили на свой продукт этикетку с коровой, огромными буквами написали название йогурта и дали рекламу по телевизору. А затем появились грузовики-«форды» с той же коровой на боках; качаясь, втиснулись они в узкие улочки, поехали по бакалейным лавкам, отбирая у нас наш хлеб. Хвала Аллаху, по вечерам мы торгуем бузой, так что еще не всех заработков лишились! Если Мевлют не будет слоняться без дела, поработает еще немного, а все заработанные деньги отдаст своему отцу, мы отвезем в деревню немного денег на зиму.
12. Взять в жены девушку из деревни
Моя дочь не продается
Коркут. После прошлогодней войны большинство алевитов в течение полугода покинули холм. Некоторые из них отправились на другие холмы, подальше, например на Октепе, а другие уехали за город, в район Гази. Скатертью им дорожка. Иншаллах, там они не дадут ни нашему государству, ни нашей полиции повода заняться ими. Если уж к твоему курятнику, к твоей лачуге, выстроенной на птичьих правах, приближается скоростная дорога на шесть полос, выстроенная по самым современным международным стандартам, то ты можешь сколько угодно твердить, что единственный путь – бунт, но обманешь этим только самого себя.
Когда леваков-башибузуков выкинули отсюда, бумаги, выдаваемые мухтаром, тут же выросли в цене. Все те, кто не спешил раскошеливаться, когда пожилой Хаджи Хамит Вурал говорил, что надо бы купить в мечеть новые ковры, все те, кто распускал о нем сплетни – он, дескать, наложил руку на участки сбежавших алевитов из Бингёля да Элязыга, так что пусть сам и платит, – все они теперь прикусили языки. А Хамит-бей трудился не покладая рук. Он открыл еще одну пекарню на Хармантепе, а для работников, которых привез из деревни, построил общежитие, не поскупившись ни на телевизоры, ни на зал для карате. После армии я работал прорабом на его стройке и смотрителем за стройматериалами. По субботам Хаджи Хамит-бей обычно обедал в столовой общежития вместе с молодыми бессемейными националистами. Я хочу выразить здесь ему мою благодарность за то, что он оказал мне щедрую финансовую поддержку, когда я женился.
Абдуррахман-эфенди. Я прилагаю все старания, чтобы найти моей старшей дочери Ведихе, которой уже минуло шестнадцать, какого-нибудь подходящего жениха. Конечно, лучше всего, когда такие дела решает женщина, но ведь у моих бедных сироток нет матери и родных теток, а потому этим занимается ваш покорный слуга. Те, кто знает, что я только ради этого сел на автобус и уехал в Стамбул, тут же принялись говорить, что я бегаю за богатым мужем для моей дорогой красавицы Ведихи, что хочу положить себе в карман богатый выкуп, что готов платить за ракы. Я все слышу. Причина их сплетен и зависти к такому калеке, как я, в том, что я – счастливый человек, которому повезло с дочерьми. Несмотря на свою горбатую спину, я радуюсь жизни и умею выпить как следует. Те, кто говорит, что я напивался и поколачивал мою покойную жену, кто болтает про меня, что я, несмотря на кривую спину, ездил в Стамбул, чтобы прогулять деньги с женщинами в Бейоглу, – лгут. В Стамбуле я ходил по кофейням повидаться со старинными друзьями, теми, кто еще работает разносчиками йогурта и бузы. Никто же не может сразу сказать как есть: «Я ищу дочке мужа!» Сначала я говорил о том о сем, а если дружеская беседа продолжалась уже в пивной – слово за слово, бутылочка за бутылочкой, – я хвастался, словно бы выпивший, фотокарточкой моей ненаглядной Ведихи, которую мы с ней заказали в акшехирском ателье «Биллур».
Дядя Хасан. Иногда я вытаскивал из кармана фотографию девушки из Гюмюш-Дере и смотрел на нее. Красивая девушка. В один прекрасный день я показал ее на кухне Сафийе. «Что скажешь, Сафийе? – спросил я. – Подойдет такая девушка нашему Коркуту? Это дочка нашего Горбуна Абдуррахмана. Отец ее ради этого добрался аж до самого Стамбула, до моей лавки. Посидел немного. Прежде он был работящий человек, однако силы ему не хватает: не вынес он тяжести шеста разносчика йогурта да и вернулся в деревню. Может, сейчас у него и денег-то нет. Шайтан этот Абдуррахман-эфенди, а не человек!»
Тетя Сафийе. Очень уж измотали сынка моего Коркута эта стройка, это общежитие, машина эта, которую он водил, все это его карате. Очень уж хотелось нам женить его, но, машаллах, он у нас парень с характером, очень гордый! Если только мне сказать ему: тебе, сынок, уже двадцать шесть лет, съезжу-ка я в деревню, присмотрю там тебе девушку, как он тут же примется спорить – не надо никого присматривать, я сам себе в городе найду. А уж если я ему скажу: сам найди себе девушку в Стамбуле да женись, то он непременно ответит, что девушка нужна ему честная да послушная, а таких в городе не сыщешь. Так что я решила положить фотографию красавицы-дочки Горбуна Абдуррахмана в сторонку, на приемник. Коркут приходит домой такой усталый, что не отрывается от телевизора, а по радио слушает только лошадиные бега.
Коркут. Никто, даже матушка, не знает, что я ставлю на скачки. Играю я не ради азарта, а ради удовольствия. Четыре года назад мы пристроили к дому еще одну комнату. Вот там я обычно и сижу в одиночестве, слушаю прямые трансляции скачек. В этот раз я тоже сидел и смотрел в потолок, и вдруг приемник словно бы озарился каким-то светом, и я увидел, что с фотографии на меня смотрит девушка, и сразу понял, что ее взгляд всегда утешит меня. На душе мне стало очень хорошо.
Позже, между делом, я осторожно спросил у матери: «Матушка, а что это за девушка там, на фотографии, которая лежит на приемнике?» – «Наша землячка, из Гюмюш-Дере! – ответила мать. – Правда, она как ангел? Хочешь, посватаю ее за тебя?» – «Я не хочу девушку из деревни! – сказал я. – И уж тем более такую, которая направо-налево раздает свои фотографии». – «Она вовсе не такая, – покачала головой мать. – Ее отец-горбун никому не показывает дочкиных фотографий, ревниво бережет дочь, всех сватов гонит прочь. Это твой отец насильно отобрал у него эту фотографию, потому что понял, как красива эта стыдливая девушка».
Я поверил этой лжи. Вы-то уж точно знаете, что все это ложь, и сейчас смеетесь над моим легковерием. Тогда я вот что вам скажу: те, кто готов осмеять что угодно, не могут ни по-настоящему любить, ни по-настоящему верить в Аллаха. Потому что они страдают гордыней. А ведь любовь к кому-то – такое же священное чувство, как любовь к Аллаху.
Звали девушку Ведиха. Неделю спустя я сказал матери: «Не могу забыть эту девушку. Хочу поехать в деревню, тайком повидать ее, но прежде поговорю с ее отцом».
Абдуррахман-эфенди. Нынешний кандидат в женихи – нервный такой паренек. Повел меня в пивную. Он шестерит у Хаджи Хамита Вурала и водит автомобиль «форд», и поэтому меня оскорбляет, что этот каратист, у которого в кои-то веки завелись деньжонки, так уверен, что в конце концов все равно когда-нибудь за свои деньги сможет заполучить мою дочь. МОЯ ДОЧЬ НЕ ПРОДАЕТСЯ, повторил я несколько раз. За соседним столиком нас услышали, хмуро посмотрели, а потом заулыбались, решив, что мы шутим.
Ведиха. Мне шестнадцать лет, я уже не ребенок, я знаю, что отец хочет выдать меня замуж, но делаю вид, что не в курсе подобных намерений. Иногда мне снится, что за мной гонится какой-то злой человек… Три года назад я окончила начальную школу в Гюмюш-Дере. Если бы я уехала в Стамбул, то в этом году бы уже окончила лицей.
Самиха. Мне двенадцать лет, и я учусь в последнем классе начальной школы. Иногда из школы меня забирает старшая сестра Ведиха. Однажды, когда мы возвращались, за нами пошел какой-то человек. Мы шли молча и не стали оборачиваться, чтобы посмотреть на него. Вместо того чтобы идти прямо домой, мы направились к бакалее, но входить туда не стали. Мы с сестрой долго еще гуляли и вернулись кружным путем через дальний квартал. А человек все не отставал. Сестра хмурилась. «Дурак чертов! – выругалась я, когда мы пришли домой. – Мужчины все дураки!»
Райиха. Мне тринадцать лет. В прошлом году я окончила начальную школу. К Ведихе сватаются многие. Нынешний – из Стамбула. Так говорят, но на самом деле это сын торговца йогуртом из Дженнет-Пынара. Ведиха, конечно, захочет поехать в Стамбул, но мне совсем не хочется, чтобы ей он понравился. Ведь когда Ведиха выйдет замуж, наступит моя очередь. Когда мне исполнится столько, сколько Ведихе, за мной не будут так бегать, как за ней, а если и будут – что из того, я ни о ком и слышать не хочу. «Какая ты умная, Райиха», – говорят мне. Мы с моим горбатым отцом смотрели из окна, как Ведиха с Самихой возвращаются из школы.
Коркут. Я почтительно наблюдал, как моя ненаглядная возвращается из школы со своей сестрой. Первая моя встреча с ней наполнила мое сердце такой любовью, которую было не сравнить с той, что возникла, когда я увидел ее фотографию. Ее фигура, ее стать, изящные руки – все в ней было прекрасно, и я возблагодарил Аллаха. Я понял, что если не женюсь на ней, то буду несчастен. Я терял покой при мысли о том, что хитрый горбун, своей торговлей за дочь распалив мою любовь, может оставить меня с носом.
Абдуррахман-эфенди. Этот кандидат в женихи был настойчив, мы встретились еще раз, в Бейшехире. Я с дрожью в коленях пришел в закусочную, потому что судьба и счастье моей дорогой Ведихи и других моих доченек были в моих руках; сел и, еще не выпив первого стаканчика, опять сказал ему: «Прости, парень, я хорошо тебя понимаю, но моя красавица-дочь НЕ ПРОДАЕТСЯ НИ НА КАКИХ УСЛОВИЯХ».
Коркут. Упрямец Абдуррахман-эфенди, не успев выпить первого стаканчика, вновь перечислил свои требования. Даже если всем нам постараться, если взять в долг, продать наш дом на Дуттепе и участок на Кюльтепе, то все равно не хватит.
Сулейман. Вернувшись в Стамбул, брат решил, что разрешить его любовные муки могут только деньги и влияние Хаджи Хамит-бея. В ближайший его приход в общежитие мы устроили для него красивый бой карате. А опрятные, выбритые и одетые в форму рабочие дрались на совесть. За обедом Хамит-бей усадил нас с братом по обе стороны от себя. Всякий раз, когда я смотрел на белоснежную бороду этого праведного человека, который два раза совершил хадж, которому принадлежало столько земли, домов и который построил нашу мечеть, я ощущал себя счастливцем, потому что сижу рядом с таким человеком. А он обращался с нами так, будто мы были его детьми. Спросил нас об отце («Почему Хасана нет?» – назвал он его по имени). Спросил он и о том, в каком состоянии наш дом, о комнате, которую мы недавно пристроили, о половине этажа, который мы только начали строить, о внешней лестнице и даже о месте пустого участка, который отец записал на себя вместе с дядей Мустафой. Вообще-то, он знал места всех участков, знал, кто с кем соседствует, кто с кем пересекается, знал, какие дома там строятся, какие еще недостроены, а какие еще долго не будут достроены, потому что владельцы перессорились; он знал, кто какой дом либо магазин построил за последний год; знал все вплоть до стены или печной трубы. Он знал, до какого места доходит электрический кабель, с какого холма на какую улицу поступает вода и где построят окружную дорогу. Он знал все.
Хаджи Хамит Вурал. «Парень! Ты влюбился по уши, ты очень страдаешь, правда это?» – спросил я его, а он в ответ лишь спрятал глаза: он стеснялся не того, что не на шутку влюблен, а того, что товарищи его об этом узнают и поймут, что он не может решить дело самостоятельно. Я повернулся к его брату-толстяку и сказал: «Если будет на то воля Аллаха, найдем мы средство против сердечной боли твоего братца! Правда, он совершил ошибку, а ты смотри ее не повтори. Сулейман, сынок, если ты хочешь полюбить какую-нибудь девушку всей душой, как твой брат… то полюби ее после свадьбы. Ну, если уж тебе совсем невтерпеж, то хотя бы после помолвки, после того как слово сказано… Или хотя бы после того, как ударили по рукам и приняли выкуп. Но если ты сначала влюбишься, как твой брат, а потом сядешь с ее отцом торговаться за размер выкупа, то уж тогда пройдоха-отец потребует от тебя богатства со всего света… В нашем мире любовь бывает двух видов. Первая – когда ты влюбляешься в ту, которую совершенно не знаешь. Если бы большинство пар были знакомы до замужества, они бы никогда не влюбились друг в друга. Сам Пророк Мухаммед не считал возможным сближение мужчин и женщин до свадьбы. А есть и другая любовь – ее испытывают те, кто влюбился после свадьбы, и в этом-то и заключается результат женитьбы без знакомства».
Сулейман. «Я, господин, не могу влюбиться в девушку, с которой я незнаком», – сказал я. «Ты сказал, в девушку, с которой знаком или с которой не знаком? – переспросил праведный Хаджи Хамит-бей и продолжил: – Вообще-то, лучшая любовь – влюбиться в девушку, с которой ты не то чтобы незнаком, а которую ты до свадьбы никогда даже и не видел. Слепцы, например, прекрасно умеют любить». Хамит-бей расхохотался. Рабочие тоже засмеялись вместе с ним, не поняв, в чем дело. Когда Хаджи Хамит-бей уходил, мы с братом поцеловали его благословенную руку.
13. Усы Мевлюта
Хозяин земли без документов
Мевлют очень поздно, в мае 1978 года, из письма старшей сестры узнал о том, что Коркут женится на девушке из соседней деревни Гюмюш-Дере. Сестра писала письма отцу в Стамбул вот уже пятнадцать лет – то регулярно, то как в голову взбредет. Мевлют зачитал письмо Мустафе таким же торжественным и серьезным голосом, которым читал ему обычно газету. Узнав из письма о том, что Коркут приезжал в деревню и что причиной этого приезда была девушка из Гюмюш-Дере, оба, и отец, и сын, испытали странную зависть, даже гнев. Почему Коркут им ничего не сказал? Два дня спустя они отправились на Дуттепе и от Акташей узнали другие подробности истории, и тогда Мевлют подумал, что, если бы у него тоже появился такой влиятельный патрон, покровитель, как Хаджи Хамит Вурал, его жизнь в Стамбуле стала бы гораздо проще.
Мустафа-эфенди. Прошло две недели с того дня, как мы ходили к Акташам и узнали, что Коркут женится благодаря помощи Хаджи Хамита. В один прекрасный день, когда я находился в бакалее Хасана, он внезапно посерьезнел и торопливо поведал, что через Кюльтепе пройдет кольцевая дорога. На ту сторону, где она пройдет, не будет выдаваться кадастровый паспорт, а если и будет, то, сколько ни плати чиновникам взятки, им все равно придется приписать эти земли к дороге. Иначе говоря, на том склоне, где пройдет дорога, ни у кого и никогда не было свидетельства о праве собственности и ни у кого и не будет, и поэтому при строительстве дороги государство никому ничего за землю компенсировать не будет.
– Я посмотрел – наш участок на Кюльтепе все равно пропадет, – сказал он. – И я продал бумаги за тот наш участок Хаджи Хамиту Вуралу. Благослови его Аллах, он честный человек, хорошо заплатил!
– Как это? Ты что, продал мой участок, не спросив меня?
– Это не твой участок, Мустафа. Это наш общий участок. Это я его оформлял, а ты только помогал мне. А мухтар все верно записал, подписывая документ об участке. На нем он указал наши имена. Но бумаги отдал мне. Ты тогда ничего не сказал. Меньше чем через год эта бумага вообще потеряет всякую ценность. Знаешь, теперь на том склоне никто даже камня не кладет. Никто и гвоздя теперь там не вобьет.
– И за сколько же ты его продал?
– Успокойся, пожалуйста. Не надо кричать на своего старшего брата… – сказал Хасан.
Тут вдруг в лавку вошла какая-то женщина и попросила взвесить риса. Хасан запустил в мешок с рисом пластмассовую лопатку, а я от ярости бросился за дверь. У меня ведь не было совсем ничего, кроме того участка и этой лачуги! Я никому ничего не сказал. Даже Мевлюту. На следующий день я вновь отправился в бакалею к брату. Хасан складывал из старых газет бумажные кульки. «За сколько ты его продал?» – вновь спросил я. И вновь он не ответил. Я лишился сна. Прошла неделя, и как-то раз, когда в лавке никого не было, он внезапно признался, за сколько продал. Поклялся, что половину суммы отдаст мне. Но сумма была такой маленькой, что я вскричал: «Я С ТАКИМИ ДЕНЬГАМИ НИКОГДА НЕ СОГЛАШУСЬ». – «Так у меня и их-то нет! – воскликнул братец мой Хасан. – Мы ведь сейчас, хвала Аллаху, Коркута женим!» – «Что?! Что ты сказал?! Ты, значит, на мои деньги сына женишь?!» – «Ну, бедняжка Коркут так сильно влюбился, мы же тебе рассказывали! – оправдывался он. – Не сердись! И до твоего сына очередь дойдет, у дочери Горбатого еще две сестры есть. На одной из них и женим Мевлюта!» – «Не лезь к моему Мевлюту! – рявкнул я. – Он еще должен окончить лицей, отслужить в армии. Была бы там девушка хорошая, ты бы сразу взял ее в жены Сулейману».
О том, что участок на Кюльтепе, который его отец с дядей оформили на двоих тринадцать лет назад, продан, Мевлют узнал от Сулеймана. Сулейман вообще считал, что у «земли без документов у хозяина быть не может». Так как никто на том участке за тринадцать лет не построил ни дома, ни даже дерева не посадил, то ничего не значащая бумажка, выданная много лет назад, остановить государственное строительство шестиполосной дороги, конечно, никак не могла. Спустя две недели отец рассказал сыну обо всем, но Мевлют сделал вид, что впервые слышит об этом. Он тоже был вне себя от гнева на Акташей за то, что они продали общий участок, не спросив у них разрешения. К этому добавилась еще и обида за то, что и он подвергся несправедливости, а также злость на то, что Акташи в Стамбуле разбогатели и процветают. Но Мевлют понимал, что не может вычеркнуть из своей жизни ни дядю, ни братьев, – если их не будет, он останется в Стамбуле совершенно одиноким.
– Послушай меня хорошенько, – сказал отец. – Теперь только через мой труп ты пойдешь без моего разрешения к своему дяде либо встретишься с Коркутом или Сулейманом. Ты все понял?
– Понял, – сказал Мевлют. – Клянусь твоей жизнью, что не пойду.
Вскоре он пожалел о клятве. Ферхата теперь тоже не было – в прошлом году друг Мевлюта окончил лицей, а потом его семья уехала с Кюльтепе. В июне отец уехал в деревню, и Мевлют какое-то время слонялся в одиночестве с «Кысметом» по чайным и паркам, где гуляли семьи с детьми, но ему удалось заработать только четверть от того, что они зарабатывали вместе с Ферхатом, так что денег едва хватало на пропитание.
В начале июля 1978 года Мевлют тоже уехал на автобусе в деревню. В первые дни он чувствовал там себя счастливым в окружении родных – отца, матери, сестер. Но вся деревня готовилась к свадьбе Коркута, и это действовало ему на нервы. Он часто бродил по горам со своим старым другом – постаревшим псом Камилем. Там он вспоминал запахи детства – высохшей на солнце травы, холодного ручья, протекавшего между горных дубов и скал. Он никак не мог избавиться от чувства, что в Стамбуле что-то идет не так и что он сам упускает нечто важное.
Дома, в саду под платаном, у него были припрятаны кое-какие деньги, и как-то раз после полудня он их достал. Сообщил матери, что возвращается в город. Мать сказала: «Как бы отец не рассердился!» – но Мевлют не обратил на эти слова никакого внимания. «У меня много дел!» – только и ответил он. Ему удалось не попасться на глаза отцу и сесть на маленький автобус из Бейшехира. Дожидаясь в Бейшехире автобуса на Стамбул, он пообедал баклажаном с мясом в одной закусочной напротив мечети Эшрефоглу. Трясясь в ночном автобусе в Стамбул, он чувствовал, что теперь стал единственным хозяином собственной жизни и судьбы, самостоятельным мужчиной, и предвкушал все те бескрайние возможности, которые дарила ему будущая жизнь.
Вернувшись в Стамбул, он увидел, что всего за месяц потерял многих своих клиентов. Раньше такого не бывало. Конечно, иногда те или иные семьи завешивали окна плотными занавесками и исчезали из виду, а некоторые просто переезжали на дачу. (Были среди разносчиков йогурта и такие, кто переезжал вслед за клиентами в дачные районы: на Принцевы острова, в Эренкёй и Суадие.) Но торговцы летом не особенно страдали, потому что покупать йогурт для айрана продолжали закусочные и буфеты. Однако летом 1978 года Мевлют осознал, что у уличной торговли йогуртом больше нет будущего. Теперь трудолюбивых ровесников его отца или жадных до денег молодых торговцев вроде него на улицах было все меньше и меньше.
Однако возраставшие трудности не озлобили, не ожесточили Мевлюта, как они озлобили его отца. Даже в самые плохие и неудачливые дни его лицо не утратило способности расцвести улыбкой перед клиентом. Тетушки, супруги привратников, старые ведьмы, всегда предупреждавшие: «Пользоваться лифтом разносчикам запрещено», стоя в дверях новых многоквартирных жилых домов, на пороге которых тоже красовалась табличка: «Торговцам вход воспрещен!» – едва завидев Мевлюта, любили в подробностях рассказывать ему, как открыть двери лифта, на какую кнопочку нажать. Юные горничные с восторгом смотрели на него из кухонь, с лестничных пролетов, с порогов жилых домов. Однако он понятия не имел, как заговорить с ними. Эту свою неловкость он скрывал от себя тем, что якобы «не желает быть невежливым». В иностранных фильмах он часто видел, как молодые мужчины запросто болтают с ровесницами. Мевлюту очень хотелось походить на них. Но сами западные фильмы он недолюбливал, потому что в них не всегда было понятно, кто хороший, кто плохой. Правда, когда он развлекался сам с собой, он чаще всего представлял себе тех самых иностранок из западных фильмов и турецких журналов. Он любил погружаться в подобные фантазии, когда ласкал себя по утрам, а утреннее солнце согревало своими лучами постель и его полуобнаженное тело.
Ему нравилось жить одному. До приезда отца он был сам себе хозяином. Он переставил хромоногий стол, повесил оторвавшийся от карниза угол занавески, убрал все кухонную утварь, которой не пользовался, в шкаф. Он подметал и мыл пол намного чаще, чем раньше. При этом теперь его не покидало чувство, что этот дом, состоявший всего из одной комнаты, как его ни убирай, все равно грязен и в нем неприятно пахнет. Теперь Мевлюту был двадцать один год.
Он захаживал в кофейни на Кюльтепе и Дуттепе и подолгу болтал с приятелями по кварталу либо с ровесниками, которые часы напролет проводили в кофейне, подремывая перед телевизором. Заболтавшись с ними, он несколько раз оказывался там, где по утрам собирались искавшие работу на день. Собирались они каждый день в восемь утра на пустыре у въезда в Меджидиекёй. Сюда сходились неквалифицированные рабочие, которых выгоняли с фабрик (их брали только на короткое время и не хотели страховать), а также те, кто кое-как перебивался в доме у родственников на одном из холмов и был готов на любую работу. Сюда приходили и молодые парни, стыдившиеся того, что у них нет постоянной работы, и неудачники, которым уже долго не везло. Здесь они ожидали работодателей, съезжавшихся со всех концов города на пикапах. Среди молодых людей, которые коротали время в кофейнях, были те, кто хвастался поездками на заработки в дальние концы города и тем, сколько заработано там, но Мевлют всего за полдня на йогурте зарабатывал столько, сколько они за целый день.
В конце одного из дней, когда безысходность и одиночество одолели его, он оставил свои подносы, шест и прочие принадлежности в одной закусочной и отправился искать Ферхата. Два часа занял путь в район в городском муниципальном автобусе, набитом как бочка с сельдью и пропахшем птом. Доехав, полный любопытства, он принялся рассматривать холодильники, которые бакалейщики использовали вместо витрин, и увидел, что йогуртовые фирмы оккупировали все и здесь. В бакалее в одном из переулков он увидел холодильник, в котором йогурт стоял на подносе и продавался на килограммы.
Он сел на микроавтобус, и, когда доехал до квартала Гази, который находился за городом, уже темнело. Почти по отвесному склону, на котором и располагался квартал, он прошел на другой его конец, до мечети. За холмом был лес, который можно было считать своего рода естественной зеленой границей города, однако все прибывавшие новые поселенцы постепенно отщипывали от его края кусок за куском, невзирая на заграждение из колючей проволоки. Квартал, стены домов которого были покрыты революционными лозунгами, красными звездами и серпом с молотом, показался Мевлюту еще более бедным, чем Кюльтепе и Дуттепе. Обуреваемый каким-то неясным страхом, он некоторое время бродил по улицам, словно пьяный, и даже зашел в несколько самых многолюдных кофеен, надеясь встретить кого-нибудь знакомого из числа изгнанных с Кюльтепе алевитов. Он спрашивал у всех про Ферхата, но такого никто не знал, да и знакомых он не встретил. Уже сильно стемнело, но в квартале Гази не было уличных фонарей, и улицы стали внушать Мевлюту такую тоску, какую он не испытывал даже в своей родной деревне в Анатолии.
Он добрался до дому и всю ночь мастурбировал. Кончив после очередного раза и успокоившись, он со стыдом и угрызениями совести давал себе слово никогда этим не заниматься, даже клялся в том. Через некоторое время он начинал бояться, что сейчас нарушит клятву и совершит грех. Вскоре он решал быстро сделать это еще раз, потому что это лучший способ избавиться от плохой привычки до конца дней своих.