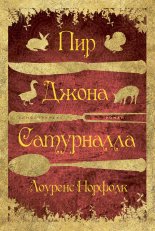Как много знают женщины. Повести, рассказы, сказки, пьесы Петрушевская Людмила

Все наука, наука, экзамены, библиотека, столовка, грубые зеленые туфли и коричневое шерстяное платье с вылинявшими мамиными подмышками, страх сказать.
Девушка равнодушно смотрит на стену и видит еще один портрет, увеличенную фотографию, видимо, на паспорт, ибо с уголком, портрет тщедушного офицерика в большущей фуражке.
Это он же, Сашенька, уже вырос, пока обмеряли объемы талии, пока записывали и критически смотрели на порезанные вкривь и вкось куски материи за рубль двадцать, и Сашенька уже женился и есть внучка Ася Мильгром.
Далее старуха Мильгром успокаивает студентку, что не одна она такая корявая, что сама Мильгром тоже в молодости была неумеха, ничего не могла, ни яичницу, ни суп, ни пеленку подрубить, а потом научилась: жизнь научила.
На каком-то этапе длинного и хвастливого рассказа о Сашеньке надо уже уходить, а платье останется и будет дошито завтра.
Через три дня девушка, которая боится выйти на улицу в своем чудовищном наряде и не умеет ни хорошенько постирать, ни погладить, ни пришить, полные слез глаза и лежание с книжкой, собирается наконец идти к Мильгром и говорит матери: иду к Мильгром.
– Она несчастная, – откликается мать, – такая несчастная жизнь у нее, у Мильгром! Муж ее буквально бросил молодую, отобрал у нее ребенка, маленького ребеночка, и не разрешал с ним встречаться, то есть как бросил: он сначала взял Мильгром из буквально литовской деревни, она была необыкновенной красоты, шестнадцати лет, но по-русски не говорила, только по-еврейски и по-польски, а потом он развелся с ней, тогда было так можно, свобода, пошел и развелся. И он привел к себе в комнату другую женщину, а Мильгром сказал уходить, она и ушла. Ей было восемнадцать лет. Мильгром чуть с ума не съехала, все дни и даже ночи проводила напротив на улице под своим бывшим окном, чтобы увидеть ребенка, а Регина ее нашла, Мильгром уже лежала на бульваре вся черная, Регина же выступала за всех угнетенных. Она устроила ее в больницу, потом взяла к себе домработницей, Мильгром спала у нее в коридоре. Потом, когда Регину арестовали, Мильгром пошла на швейную фабрику ученицей, заработала себе какие-то копейки на пенсию и вот комнатку дали.
Девушка рассеянно слушает, потом идет к Мильгром, не вникая в информацию, и видит все ту же каморку под крышей, где сладковатый запах старых шерстяных вещей буквально удушает при жаре.
Все плавится в лучах жаркого заката, Мильгром достает чашки, приносит с кухни чайник, и они пьют чай с черными солеными сухариками, роскошью нищих.
Мильгром опять хвастливо рассказывает о сыночке Сашеньке, сияющее лицо Мильгром обращено к стене, где висят две фотографии, причем, думает девушка, если мама правильно говорила, откуда у Мильгром фотографии?
Сашенька-взрослый смотрит со стены замкнуто, холодно, в расчете на офицерский документ, фуражка торчит как седло над большими черными глазами, здесь-то он уже очень похож на мать.
Какими слезами, какими словами вынудила Мильгром своего Сашеньку подарить ей снимки?
Мильгром счастливо вздыхает под своей стеной плача, а затем радостно сообщает, что у Асеньки уже выпал первый зубик: все как у всех есть и у Мильгром.
Девушка надевает платье, смотрится в зеркало, выбирается из сладковато-затхлого запаха вон, наружу, на воздух, на закат, проходит мимо многочисленных окон и подъездов, где, как ей кажется, обитают одни Мильгром, идет в новом прохладном черном платье, и счастье охватывает ее. Она полна радости, и Мильгром полна радости за своего Сашеньку.
Девушка в самом начале пути, движется в новом платье, на нее уже смотрят и т. д., через пять лет появится у ее дверей мальчик с кустом роз, где-то ночью вырвал – а Мильгром явно в конце, но может наступить время, и девушка мелькнет в конце Малой Бронной в совершенно ином образе, будет носить в сумочке фотографии своего взрослого сыночка и хвастливо рассказывать о нем на скамейке на Патриарших, а позвонить лишний раз не решится, а самому ему некогда.
Черное платье мелькает на светлой, майской Малой Бронной, при полном закатном свете, и вот все, день догорел, Мильгром, вечная Мильгром в старческой комнатке среди старых шерстяных вещей сидит как хранитель в музее своей жизни, где нет ничего, кроме робкой любви.
Случай Богородицы
Мать и сын одновременно переживали романы, и однажды, за воскресным завтраком, сын сказал, как зовут его девушку: Наташа Кандаурова. Мать засмеялась, потому что фамилия ее моряка тоже начиналась с «Кан», и мать сказала эту фамилию. Но сын ничего не запомнил. Он никак не мог понять, почему он вдруг сказал вслух «Наташа Кандаурова», он старался смеяться вместе с матерью над совпадением, но на самом деле был сильно испуган. И когда мать стала со смехом говорить ему что-то про своего моряка, он встал и пошел на кухню. Мать продолжала говорить из комнаты, улыбаясь содержанию своего рассказа, но он ничего не понимал, а стоял над раковиной, помертвев. Наконец мать замолчала, как бы ожидая и от него такого же рассказа о Наташе Кандауровой. И чувствовалось, что она молчит как-то сытно, как будто она получила что хотела и теперь готова была взять его под крыло, утешать его своим опытом и, в свою очередь, получить у него утешение. И смех ее был какой-то дурацкий, женский, возбужденный, в предчувствии их маленького семейного союза против двух «Кан». Она как будто была счастлива своей неожиданной победой, счастлива от того, что он тоже наконец вырос и понял ее жизнь и даст ей понять свою жизнь.
Сын стоял на двух кирпичах над раковиной и чистил зубы, часто останавливаясь, глядя в одну точку, а потом стащил с шеи полотенце, повесил его на гвоздь и осторожно ступил на доску, которая была проложена к выходной двери по только что выкрашенному полу. Доска прогибалась, и он в задумчивости начал на ней покачиваться. Он понял сам для себя, что выдал Наташу Кандаурову просто из-за желания сказать вслух: «Наташа Кандаурова». Он все время мысленно говорил с Наташей, но ему этого было мало, оказывается. Оказывается, ему еще нужно было произнести это имя вслух, в каком-то слепом бахвальстве, в забытьи. «Кандаурова», – сказал он снова вслух, проверяя себя, может ли он еще сильнее раздавить себя. Слово «Кандаурова» он не договорил, а вместо этого запел: «Ка…а», – и вышел на лестницу напевая. Мать, наверное, поняла это «Ка-а», но ничего не крикнула ему вслед, а так и сидела в комнате, затихнув над грязными тарелками и чашками.
Он уже много раз мучился так от матери, когда она в детстве рассказывала ему, моя его в тазу, что некоторые мальчики балуются глупостями и что это очень нехорошо и могут положить в больницу и делать уколы. А когда он еще немного подрос, она вдруг начала ему рассказывать, какие тяжелые у нее были роды – ей было всего восемнадцать лет и у нее был один случай на сто, случай Богородицы, смеялась она, что она легла на родильный стол девственницей, но врач не стал вмешиваться хирургическим путем и женщиной ее сделал сын… Она рассказывала ему это в темноте, когда он уже лежал на своей раскладушке, подоткнутый со всех сторон одеялом, а она переодевалась на ночь и залезала коленями к себе на кровать, обтирая с сухим звуком ступню о ступню. Он лежал, глядя в потолок и стиснув зубы от ужаса. Эти слова – девственница, роды – он только еще начинал искать в словарях и энциклопедии, в этих словах было что-то невыносимо запретное, тайное, нужное, чего нельзя нарушать и что должно было накапливаться в нем постепенно, чтобы он в конце концов мог с этим смириться. Но мать не щадила его. Она как будто стосковалась по родной семье, которой у нее давно не было, и только ждала, когда немного вырастет сын, чтобы приблизить себя к нему еще больше, объяснив ему, насколько он принадлежит ей, насколько он ее. И от этого он не выносил даже безобидных воспоминаний, как он был маленьким, как приходилось ей в общежитии только на ночь вешать пеленки в общей кухне, а днем ей не разрешали; и как она, еще беременная, вязала кружевца, чтобы сделать уголки пеленок кружевными, чтобы можно было накрывать ему лицо от мух, но чтобы он все же мог дышать. И как она ненавидела запах тела своего мужа Степанова – он пах, ей казалось, почему-то едким волосом, – и как она этого Степанова не подпускала к себе, и все девочки в общежитии охраняли ее, когда она лежала и ее рвало при одной мысли о том, что Степанов может подойти к ней на пушечный выстрел.
И он был вынужден все это помнить и носить в себе и стыдиться слов «роды», «девственница», потому что для ребят в классе это было совсем не то, что для него. Он был не такой, как все. И когда ребята на переменке где-нибудь за школой, на старых партах, рассказывали друг другу всякие случаи и что чего значит, он вынуждал себя смеяться вместе с ними, чтобы никто не заметил, потому что у него была ужасная тайна – слова «девственница» и «роды», это касалось его, он принимал в этом стыдное участие.
И у него совсем не было близкого друга, с которым бы он мог все обсудить, все выяснить и которому он наконец мог бы признаться, что во время родов он сделал свою мать женщиной.
А потом, когда он вырос и стал снисходительно относиться к своей матери – в этом он почувствовал неожиданную опору для себя, для своего проявляющегося достоинства, – он перестал вспоминать о причинах своего детского стыда, хотя иногда безо всякой причины ему становилось ужасно грустно. Но он быстро подавлял в себе эту тоску. А мать теперь не знала, как к нему подступиться, и боялась себя снова ранить и растравить тоску по нему, спокойно каждый раз отстранявшемуся. Иногда, правда, он понемногу с ней разговаривал о всяких мелочах, чаще всего о прочитанных книгах. И она каждый раз так покупалась на эти разговоры, так радостно шла ему навстречу и так ловила каждое его слово, что ему становилось тесно, неудобно в этой роли обожаемого сына и он снова отстранялся и уходил, оставляя ее недоумевать и бояться самой себя.
Однажды, правда, она перестала обращать внимание на то, как он к ней относится, и прямо сказала ему, что ее надо проводить в больницу. Она была рассеянна с утра, когда он собирался в школу, и не встала ему сделать яичницу, а лежала кое-как и глядела в окно слипшимися глазами. Когда он вернулся из школы, он был немного подавлен, потому что почувствовал, что она уже не тяготится его превосходством, что у нее есть какие-то взрослые дела, до которых он еще не дорос. И что вообще он очень мало знает о ней и у нее есть другое содержание жизни, кроме него.
Он покорно пошел рядом с ней, он, правда, не хотел, чтобы она на него опиралась, потому что увидел в этом притворство; если бы его не было, она бы пошла ни на кого не опираясь. Но она не почувствовала его мыслей, несмотря на то, что она обычно все чувствовала, что он чувствует. Она оперлась на его плечо, и он довел ее до автобуса. Был пустынный летний вечер, никого вокруг не было. И вокруг больницы никого не было. Когда они поднялись на каменное крыльцо, мать нажала на кнопку и стала ждать, не оборачиваясь. Потом она обернулась и торопливо, как занятая, поцеловала его в лоб. Ее встречала в дверях толстая нянечка.
Он остался один и стал ходить по каменному крыльцу, стал читать объявление, прилепленное с той стороны стеклянной двери: «Прием рожениц со двора». Ему стало страшно неприятно от слова «рожениц», но он постарался усмехнуться, чтобы подавить в себе детскую грусть. Вскоре дверь стала отпираться, с той стороны нянечка трудилась, подергивая к себе ручку, и не смотрела на него. Так же, не смотря, она просунула в щель авоську с пухлым газетным свертком. Он повернулся уходить с этой нелепой авоськой, полной белья матери, а нянечка быстро закрыла дверь и опять начала подергивать ручку, запирать.
Он остался совсем один с деньгами, которые оставила ему мать. Класс скоро распускали, и на уроках многие, кому уже были выставлены четвертные и даже годовые отметки, баловались и шумели. Он читал на всех уроках, он чувствовал небывалую легкость и свободу. На последнем уроке черчения, когда он ждал со своей форматкой, что учитель Никола назовет его фамилию, в класс вдруг просунулась секретарша директора Зоя Алексеевна и громко назвала его фамилию. Он неприятно испугался чего-то, встал и пошел за секретаршей. На столе, на первом этаже, лежала телефонная трубка. «Это тебя, – значительно сказала Зоя Алексеевна, – от матери из больницы». Он взял трубку, солидно сказал: «У телефона», но в ответ ничего не услышал, только шуршало что-то. Потом мамин голос крикнул издалека: «Ты меня слышишь?» – «У телефона!» – опять значительно сказал он. Он не очень хорошо знал, как говорить по телефону. «Как ты там?» – спросила мать. Зоя Алексеевна стоя перебирала какие-то бумаги на столе. Видно было, что она недовольна, что ученик так долго занимает директорский телефон. «Ты там ешь что-нибудь?» – сдавленно спросила мать. «Да-да!» – сказал он и как бы отвечая матери, и в то же время как бы опять не расслышав ничего в трубке. Мать крикнула издалека: «Может быть, зашел бы ко мне. Здесь ко всем…» – она не докричала, а как бы задохнулась. «Да-да, конечно, конечно!» – отозвался он немного погодя. «Ну пока, до свидания, а то четвертную… годовые отметки выставляют», – добавил он. «Мне уже сделали операцию, – заторопилась она. – Я много тут крови потеряла, понимаешь, но все в порядке! Все в порядке!» – закричала она, и тут в нем словно лопнула какая-то сухота в горле, и он весь напрягся, чтобы не заплакать. «Все будет хорошо!» – сказал он. «Все в порядке! – повторил он горячо, прощая свою мать. – Я за тобой приду и заберу тебя к чертовой матери оттуда!» Он положил трубку и быстро повернулся уходить, чтобы не видеть Зою Алексеевну. Что-то его потрясло, может быть, собственная доброта. Он долго после этого чувствовал легкость и умиление, он не разрешал матери вставать и сам однажды ходил в аптеку за ватой, а за продуктами он ходил каждый день. Она не приставала к нему с нежностями и откровенностями, то время уже прошло, она уже была научена. Она лежала тихо, на животе или на спине, повернув голову к нему. Она водила за ним глазами, что бы он ни делал в комнате, и только изредка поднимала руку и заправляла волосы за уши.
Потом она поправилась и стала ходить, чтобы отправить его хотя бы на вторую смену в пионерский лагерь, но он сказал, что не поедет ни в коем случае. Она перестала хлопотать, а по вечерам тихо уходила из дому, щелкнув перед дверью сумочкой. Она всегда перед выходом проверяла, есть ли у нее ключи.
Она теперь не разговаривала, как обычно, просто по пустякам. Но иногда она забывала обо всем, ее вечное напряжение куда-то улетучивалось, она напевала в кухне своим носовым, коротеньким голосом: «И лишь той… стороной… на свида…нье с другой…»
Это бывало обычно в хорошую погоду, при солнце, утром в воскресенье. Она сдирала с окон занавески, с постелей простыни и наволочки и с целым ворохом, отвертывая лицо, шла стирать. А он в это время, подчиняясь тому новому, что в нем родилось недавно, мыл босиком пол, неумело выкручивая тряпку.
Но в это воскресенье он не стал мыть пол, потому что пол только покрасили, а до этого они с матерью его скребли и отмывали после ремонта целый божий день. Но он не стал мыть пол не потому. Даже если бы пол был грязный и некрашеный, он все равно бы в это проклятое воскресенье, когда он растоптал себя, произнеся вслух имя Наташи Кандауровой, мыть пол не стал, а выскочил бы на лестницу с раззявленным ртом, чтобы, напевая: «На-а…», а на самом деле продолжая тянуть «Ка…а…»…
Мать осталась сидеть над немытой посудой не потому, что была сильно взволнована или ее огорчило признание сына, что у него есть девушка по имени Наташа Кандаурова. Само по себе имя ничего не значило; еще когда он был в детском саду, на шестидневке, она, приезжая за ним каждую субботу, спрашивала: с кем ты дружишь, и он серьезно отвечал, что со Светланой Ягодининой и с Леной Перовой; она до сих пор помнила эти имена и фамилии, которые повторялись каждую субботу. И они ровно ничего не значили для нее. Она просто радовалась, что у сына есть дружба, что он не один, одинокий, ложится спать в спальне на двадцать шесть человек или идет в столовую. И она каждый раз проверяла, дружит ли еще ее сын со Светой и с Леной.
Но он все-таки цеплялся за нее каждый раз, когда она уходила из детского сада, оставляя его одного. Иногда ей удавалось уйти от него незаметно, и воспитательницы говорили ей потом, а то и забывали говорить, ведь все-таки неделя проходила, что он искал ее за шкафами и в воспитательском туалете, потому что она при нем как-то ходила в воспитательский туалет и закрывалась там на крючок, а он испугался и стал отчаянно дергать дверку за выступающий гвоздь – до ручки он не дотягивался. И он потом много раз терпеливо стоял под воспитательским туалетом и ждал, пока там откинут крючок. Или ей рассказывали ночные няни, что он ночью опять стоял около кровати и плакал и ни за что не хотел ложиться.
Но однажды, во время родительского дня, летом, когда она особенно его ошеломила своим голубым платьем и коробкой трехслойного мармелада, он потерял всякую власть над собой и стал просто держать ее за край голубого платья, хотя даже сидел у нее на коленях. Он показался ей особенно вялым и бледным в этот день, он ел бутерброд с колбасой еле-еле и вдруг сказал, обернувшись к ней с ее колен: «Мама, а я о тебе вспоминал». Другой рукой он держался за ее платье, а рот у него блестел от масла.
И когда зазвенел звонок на обед и все родители столпились у лестницы, на которую поднимались дети со своими подарочными кульками, он понял, что это значит, и его стало рвать бутербродом. Она его успокоила, прижала к себе и стала качать на коленях, и он ей поверил, что она не уйдет. Но воспитательница уже собрала всех детей у умывальной, мимо беседки пронесли ведро со вторым, накрытое стираной марлей, родители посылали в окно умывальни воздушные поцелуи и торопливо уходили мимо беседки, и тогда она пошла на хитрость. Она сказала: «Ты давно не собирал цветов для мамы». Он кивнул, отпустил ее платье и пошел из беседки. «Саженые цветы не рви, а только которые сами растут», – крикнула она ему вслед. Она не упускала никогда малейшей возможности повоспитать его, жалко только, что они слишком редко бывали вместе, и он ее не очень слушал, он тратил это короткое время на то, чтобы находиться рядом с ней. Он и ночью вставал, нерешительно стоял около своей раскладушки, а потом быстро добегал до ее кровати, карабкался по одеялу вверх и робко дышал, пока она говорила ему, чтобы он уходил. Но он все-таки залезал к ней, и она укутывала его одеялом и всю ночь оберегала его, так что сна ей не было, и часто утром она оказывалась у него в ногах, скорчившись в три погибели, чтобы ему было удобней. Во сне она не рассуждала, а просто устраивала, как ему было лучше. А наяву она все же понимала, что надо делать не как ему удобней, а как полагается. И вот он сошел на траву и пропал за кустом, а она быстро поднялась с лавочки, добежала до ворот и тяжело пошла на вокзал. Она не стала стоять за забором и слушать, как он вернется в беседку, будет молча ступать по деревянному полу, а потом кинется в дом и будет стоять под воспитательским туалетом и дергать за гвоздь…
А в следующий раз, когда она приехала за ним забирать его насовсем, в другой детский сад, это было уже через месяц после случая с цветами. И она уже забыла про случай с цветами, и он, наверное, забыл. Но он ей не обрадовался. Он терпеливо стоял, пока она на нем застегивала все пуговицы, завязывала шнурки и тесемки от шапки. Она его поцеловала, щека у него была холодная, податливая. Он мельком взглянул на мать, глаза у него смотрели утомленно, как будто он не держал как следует веки.
Но что ей было делать! Она была еще тогда совсем молодая. Если бы это сейчас с ней было, она бы встала с ног на голову, разбилась бы в лепешку, но не обманывала бы его с цветами и не гнала бы его от себя, когда он ночью приходил к ней, чего-то испугавшись у себя. Но он, как ни странно, случая с цветами совсем не помнил. Этот случай у него как-то фазу выветрился из памяти, как будто его и не было. Он никогда не вспоминал этот случай, а она никогда не рассказывала ему его, хотя была от природы общительна и с простой душой. Но этот случай она никогда не напоминала, она только сама все время помнила и казнила себя.
Бедное сердце Пани
Я родила своего ребенка довольно-таки поздно, перед этим долго лежала в так называемой патологии, среди женщин, которым предстояли какие-то затруднения, и, кстати, я оказалась не самой старородящей, там была уже совсем пожилая женщина сорока семи лет, ее все звали баба Паня и слегка над ней потешались, над ее манерой говорить по-научному «пойду выделю мочу». Баба Паня была почти неграмотной чернорабочей, морщинистой, с узенькими хитрыми глазками женщиной, и все время ходила по нашему короткому коридорчику вдоль палат, и ждала и ждала своего часа, как мы все его ждали. Но она ждала, как оказалось, совсем не того, что все мы, брюхатые, стонущие бабы, из которых многие пролежали по семь месяцев неподвижно, только чтобы родить ребенка. Под окнами браво кричали навещающие, мы лежали на втором этаже и при открытой форточке лежали и слушали, как кричат. У одной женщины моего возраста опять ничего не получилось, в какой уже раз, ее увели, все думали, что вдруг обойдется, но под окнами вечером раздался пьяный крик: «Сволочь, сука… паразитка… Ты мне загубила жизнь, ах ты сука, что я с тобой связался…» Это кричал ее несчастный муж, который узнал, узнали и мы, что она опять родила мертвого.
Ну так вот, а баба Паня была вылеплена совсем из другого теста и ждала совсем не того, что мы. Она ходила со своим отвислым животом и ждала, как обнаружилось в дальнейшем, что ей по ее медицинским показаниям, в ее уже огромные сроки сделают аборт, для этого она здесь и находилась – уже довольно долго. Она объясняла, что муж у нее лежит уже полгода с радикулитом, он плотник на строительстве, что-то поднял. У них трое детей, и у нее самой был год назад инфаркт: дали большую инвалидность – второй группы. Что же ты тянула, воскликнули бы все, но никто не воскликнул, потому что знали, что ей сначала поставили другой диагноз – опухоль, и опухоль все росла и росла, пока не начала шевелиться и дрыгать ножками, тогда-то баба Паня, проплутав по районному и областному горздраву, направилась с пачкой бумажек искать правду в министерство в Москву и добилась своего, упорная душа, потому что действительно она могла при своем сердце умереть от родов и оставить троих детей сиротами. Она долго ходила по разным инстанциям, а живот все рос, уже набиралось что-то шесть месяцев или около того, и наконец ее положили в тот научно-исследовательский институт, где пребывали все мы в ожидании решения своей судьбы. Баба Паня попала к хорошему врачу Володе, который только что спас жизнь одному задохнувшемуся в лоне матери ребенку, девочке. Он высосал ртом слизь, забившую все дыхательные пути, и ребенок через две минуты после рождения закричал – такие легенды ходили о Володе, и везде его бегала-искала по коридорам мать этой девочки, чтобы вручить ему дорогую зажигалку, но не добилась ничего и с тем выписалась. И еще ходила легенда, что его собственная мать умерла родами, и Володя поклялся, что будет врачом-акушером, и стал им по призванию. И тем больше было у всех недоумение и ненависть в адрес ни в чем не повинной бабы Пани, что Володя не торопился делать ей аборт, а все ходил к ней в палату, мерял давление, проверял анализы, а баба Паня все ждала, и уже человека, что ли, собирались убивать все эти врачи, человека на седьмом месяце, но баба Паня твердо ждала и знать ничего не хотела; у нее было направление министерства, а дома ее ждали дети и неходячий муж в домике-засыпушке на далеком строительстве ГРЭС. Баба Паня строила ГРЭС, оказывается, вернее, была сторожихой и инвалидом, и на какие деньги все эти люди жили, неизвестно.
Шло время, проходили недели, я наконец убралась из отделения патологии и перекочевала в палату родильниц, мне наконец принесли мое дитя, и все муки как будто кончились, как вдруг у меня началась горячка и вскочил нарыв на локте. Тут же меня препроводили через двор в инфекционное отделение, я переправлялась по зимней погоде в чьих-то резиновых сапогах на босу ногу, в трех байковых халатах поверх рубашки и в полотенце на голове, как каторжница, а сзади несли завернутого в казенное одеяло ребенка, которого тоже выселили, ибо и он заболел. Я шла, обливаясь бессильными слезами, меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединяли с ребенком, которого я уже начала кормить, а ведь известно, что если мать хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и ногам и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. Такие связи связывали меня, идущую в казенных сапогах на босу ногу, и моего ребенка, которого несли за моей спиной в сером одеяле, накрыв с головой, а он молчал под покрышкой и не шевелился, словно замерев. В чумном бараке его унесли очень быстро, а мои мучения продолжались теперь в палате, где лежали инфекционные больные то ли с нарывами, то ли с температурой, и где лежала уже и тетя Паня, опроставшаяся, пустая, и принимала огромное количество лекарств и от сердца, и от заражения крови, поскольку ей уже сделали аборт, разрезали живот, но шов загноился: все в том научно-исследовательском институте, видимо, было заражено. Но тетя Паня, убийца, сама теперь была на грани смерти и выкарабкивалась с трудом, а родильный дом закрывали на ремонт из-за страшной стафилококковой инфекции. Больные говорили, что сжечь его надо, сжечь, да что толку в разговорах.
Я плакала все дни, мне нужно было сцеживать молоко, чтобы оно не пропало, но руки были заразные, а ходить нас не выпускали в коридор, умываться я не могла. Я боялась заразить молоко и просила хотя бы спирту протереть руки, раза три сестра мне приносила ватки, а потом бросила, спирту на руки не напасешься. Тетя Паня молчаливо слушала, как я рыдаю со своими грязными руками, у нее были собственные дела для размышлений, у нее была высокая температура, которая не снижалась, и наконец пришел доктор Володя, убийца. Он положил руку на лоб тети Пани, осмотрел ее шов и вдруг велел принести лед: у тети Пани пришло молоко для ее убитого ребенка, в этом и была причина температуры.
Наконец настало время, мои муки кончились, и после долгих переговоров мне принесли ребенка, который за неделю разлуки разучился сосать. Жалкий, худой, прозрачный, он ничего не мог поделать, раскрывал и закрывал рот, а я плакала над ним, пока он кричал.
А убийца тетя Паня начала вставать и ходить, держась за стенку, потому что у нее шла речь о выписке. Она объяснила, что тренируется, от станции до стройки пешком двенадцать километров, но ее выписали через два дня, не вникая в подробности, и она ушла своим ходом, как могла, на вокзал.
А мой ребенок окреп, начал бойко сосать, и через два дня мы должны были выходить на Божий свет из чумного барака, как вдруг случилось происшествие. В палату привели новую пациентку – высокая температура, неизвестный диагноз. Привели и положили в опустевшую палату, где торчала одна только я, ожидая очередного кормления. Моя новая соседка сильно кашляла, на вопросы не отвечала, и я тут же энергично отправилась к дежурной детской сестре и заявила, что туда, где больной человек, нельзя приносить ребенка и т. д. Хорошо, приносить перестали, но теперь я уже знала, где он лежит, где его детская, и стояла под дверью, а он кричал криком. Он был один в детской, как я была одна в своей палате, каждой палате соответствовала своя детская, и я теперь знала, что этот одинокий визг есть визг моего голодного ребенка, и стояла под дверью.
И вдруг добрая медсестра сжалилась надо мной, дала мне белый халат, шапочку и марлевую маску и ввела в детскую кормить. Я села в угол кормить моего дорогого ребенка, он тут же успокоился, а я стала разглядывать детскую. Это была белая, чистая комнатка с четырьмя отделениями, в каждом из которых стояло по кроватке, по числу коек во взрослой палате.
Все кроватки пустовали – у новой пришелицы с температурой еще никто не родился, и только под стеной стоял инкубатор, мощное сооружение, накрытое прозрачным колпаком, и в инкубаторе лежало маленькое дитя, тихо спало, смеживши глазки, совсем как большое. Я кормила своего, любила своего, но дикая жалость к чужому существу вдруг пронзила меня.
Это явно была девочка, аккуратные ушки, спокойное, милое лицо величиной с некрупное яблоко – мальчишки рождаются аляповатыми, я уже нагляделась, и только девочки появляются на свет в таком аккуратном, изящном виде.
У вошедшей сестры я спросила: «Девочка?» – и она кивнула и с любовью сказала: «Она у нас уже из пипетки пьет».
Я вернулась в палату, пошли часы кормлений, на следующий день мы с ребенком вымелись из этой больницы прочь, на волю, а меня все мучает вопрос: а не дочь ли тети Пани лежала там, в инкубаторе? Ведь это была детская нашей палаты, и доктор Володя почему так тянул с тетей Паней – уж не хотел ли этот мученик науки дорастить ребенка хотя бы до семи месяцев, до правильного развития?
Все эти вопросы терзают меня, забивают мне голову, и жалкая тетя Паня в который раз на моих глазах пробирается по стеночке, тренируется, чтобы идти домой, и все видится мне доктор Володя, положивший ей руку на лоб, но как не вяжется тетя Паня с тем существом, которое так мирно спало тогда под крышкой инкубатора, завернутое в розовую пеленку, так тихо дышало, закрыв глаза, и так пронизывало все сердца, кроме бедного сердца тети Пани, сторожихи и инвалида.
Милая дама
История была весьма и весьма плачевной как с точки зрения того, каков был состав действующих в этой истории лиц, так и с точки зрения того, насколько эта история была банальна, и оттого странным могло бы показаться, что она все-таки повторилась и разыгралась как по нотам, от смехотворного ловушечного, ничем не подозрительного начала и до конца, в котором было буквально все как бы заранее предусмотрено – и отчаянные взгляды, и как будто бы невинные рукопожатия, с той только особенностью, что последний отчаянный взгляд послал не кто иной, как человек шестидесяти с лишком лет, и послал он его из окошка такси, широко улыбаясь и помахивая рукой в адрес остающихся, а среди остающихся находилась молодая женщина, двадцати с чем-то лет, и именно ей и была послана отчаянная, оскаленная улыбка откуда-то снизу, с сиденья машины, уже наглухо запертой и готовой отъехать.
Таким образом, оба героя нашей истории уже внешне очерчены, и этого достаточно, поскольку ничто не играло в этой истории такой роли, как именно разница в возрасте, тем более что по всем другим статьям они подходили друг другу как нельзя лучше, и в иных обстоятельствах, при других возрастных соотношениях, у них мог бы получиться классический роман с участием многих действующих лиц – ее мужа, например, или немолодой жены нашего героя, и, возможно, получилась бы трагедия и мало ли что еще. Однако, как это принято говорить, она несколько опоздала родиться, то есть Земля и звезды повернулись непоправимое число раз, прежде чем она соизволила явиться на свет, а он уже давно тут пребывал. Никакими другими, никакими другими причинами, кроме этих нескольких оборотов Земли и звезд, нельзя объяснить, почему он так отчаянно скалился, сидя внизу в такси и готовясь отбыть навсегда, навеки, и повторяя, что зачем же так прощаться, если послезавтра он снова будет тут, вернется, у него тут, на даче, всякие дела.
Впрочем, возможно, что и он строил какие-то свои радужные планы и что-то вымерял и высчитывал, выкраивал какое-то время на дальнейшее, чтобы продолжать вести эти беспредметные разговоры со своей избранницей, со своей милой дамой, которая теперь оставалась на даче доживать неделю ради маленького ребенка – и несколько раз кивнула головой в ответ на его слова о скором возвращении, кивнула головой в беспечной уверенности, что так оно и будет.
Возможно, что и он в этом был уверен, когда уезжал, наглухо запертый в машине, – и возможно, что этому его возвращению помешали отнюдь не высшие соображения о бесплодных круговращениях Земли и звезд в те времена, когда он жил без нее, без своей милой дамы, поскольку ее даже не было на свете, и отнюдь не соображения, что теперь все карты спутаны этим ее поздним приходом на Землю, излишне, чрезмерно поздним. Возможно, что он о таких материях даже не помышлял и думал только о своих запутанных делах, которые ему предстояли в городе, где начиналась суровая повседневная жизнь, отличная от беспечных каникул на даче, от всех этих бесед при свете солнца и прогулок при ночных туманах. И весьма возможно, что городские дела поглотили его без остатка, когда он после сладкого дачного воздуха нырнул в атмосферу города, сидя на заднем сиденье обшарпанного низкого такси.
Однако может быть и так, что и высшие соображения обрушились на него, как только он сел, погрузился на низкое сиденье такси и оттуда, снизу, из-под крыши, стал делать приветственные знаки рукой и улыбаться своей милой даме.
Вместе с ним уезжала и его жена, и она тоже улыбалась, отчаянно оскалившись при этом, и это у них с мужем оказалась совершенно одинаковая улыбка, которая, в частности, возникла на лице жены сразу же, как только муж представил ей свою милую даму, соседку по даче и спутницу прогулок. Жена, правда, приехала внезапно, нагрянула как снег на голову, хотя ей ничто не угрожало, но она приехала, совершенно ни за чем, взяла отгул на работе и приехала без повода и причины. Они провели вместе, втроем, десять-пятнадцать минут, причем, разумеется, вначале наступило некоторое замешательство, поскольку жена с отчаянной улыбкой смотрела на милую даму и наконец сказала, что прикидывает в уме разницу в возрасте. «Небольшая», – пошутила милая дама, и разговор потек дальше, безумный разговор о каких-то супах, которые муж вынужден был здесь есть, и о синтетических супах вообще. Жена, вероятно, чрезвычайно волновалась во время этого разговора, и вдруг в разговоре наступила пауза, однако присутствовавшая тут же хозяйка дома повела с этой женой отдельную беседу, и наконец те другие двое получили возможность поговорить еще раз, в последний раз, на сей раз в таком опасном окружении. И они стали говорить о каких-то пустяках, буквально перебивая друг друга и действительно забыв обо всем на свете.
А затем пришла машина, заказанная заранее, и все кончилось, и исчезла проблема слишком позднего появления на Земле ее и слишком раннего его – и все исчезло, пропало в круговороте звезд, словно ничего и не было.
Темная судьба
Вот кто она была: незамужняя женщина тридцати с гаком лет, и она уговорила, умолила свою мать уехать на ночь куда угодно, и мать, как это ни странно, покорилась и куда-то делась, и она привела, что называется, домой мужика. Он был уже старый, плешивый, полный, имел какие-то запутанные отношения с женой и мамой, то жил, то не жил, то там, то здесь, брюзжал и был недоволен своей ситуацией на службе, хотя иногда самоуверенно восклицал, что будет, как ты думаешь, завлабом. Как ты думаешь, буду я завлабом? Так восклицал он, наивный мальчик сорока двух лет, конченый человек, отягченный семьей, растущей дочерью, которая выросла ни с того ни с сего большой бабой в четырнадцать лет и довольна собой, в то время как уже девки во дворе ее собирались побить за одного парня, и так далее. Он шел на приключение как-то очень деловито, по дороге они остановились и купили торт, он был известен на работе как любитель пирожных, вина, еды, хороших сигарет, на всех банкетах он жрал и жрал, а виной всему был его диабет и непреходящая жажда еды и жидкости, все то, что и мешало и помешало ему в его карьере. Неприятный внешний вид, и всё. Расстегнутая куртка, расстегнутый воротник, бледная безволосая грудь. Перхоть на плечах, плешь. Очки с толстыми стеклами. Вот какое сокровище вела к себе в однокомнатную квартиру эта женщина, решившая раз и навсегда покончить с одиночеством и со всем этим делом, но не деловито, а с черным отчаянием в душе, внешне проявлявшимся как большая человеческая любовь, то есть претензиями, упреками, уговорами сказать, что любит, на что он говорил: «Да, да, я согласен». В общем, ничего хорошего не было в том, как шли, как пришли, как она тряслась, поворачивая ключ в замке, тряслась насчет матери, но все обошлось. Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино. Он развалился в кресле и посматривал на торт, не съесть ли еще, но живот не пускал. Он смотрел и смотрел, наконец взял пальцами зеленую розу из середины, донес до рта благополучно, съел, облизал щепоть языком, как собака.
Потом посмотрел на часы, снял часы, положил на стул, снял с себя все до белья. Неожиданно очень белое оказалось белье, чистый и ухоженный толстый ребенок, он сидел в майке и трусиках на краю тахты, снимал носки, вытер носками ступни. Снял очки наконец. Лег рядом с ней на чистую, белую постель, сделал свое дело, потом они поговорили, и он стал прощаться, опять твердил: как ты думаешь, будет он завлабом? На пороге, уже одетый, заболтался, вернулся, сел к торту и съел с ножа опять большой кусок.
Она даже не пошла его провожать, а он, кажется, даже этого не заметил, приветливо и по-доброму чмокнул ее в лоб, подхватил свой портфель, пересчитал деньги на пороге, ахнул, попросил разменять трешку, ответа не получил и пошел себе со своим толстым животом, детским разумом и запахом чистого, ухоженного чужого тела, совершенно даже не подумав, что тут ему дан от ворот поворот на веки вечные, что он проиграл, прошляпил, ничего ему больше тут не выгорит. Он этого не понял, ссыпался вниз на лифте вместе со своей мелочью, трешками и носовым платком.
По счастью, они работали не вместе, в разных корпусах, она на следующий день не пошла в их общую столовую, а проторчала за своим столом весь обеденный перерыв. Вечером предстояла встреча с матерью, вечером начиналась опять та, настоящая жизнь, и неожиданно для себя эта женщина вдруг заявила своей сослуживице: «Ну как, ты нашла уже себе хахаля?» – «Нет», – ответила эта сослуживица стесненно, поскольку ее недавно бросил муж и она переживала свой позор в одиночку: никого из подруг не пускала в опустевшую квартиру и никого ни о чем не уведомляла. «Нет, а ты?» – спросила сослуживица. «Я – да», – ответила она со слезами счастья и вдруг поняла, что попалась бесповоротно, на те же веки вечные, что будет теперь ее трясти, ломать, что она будет торчать у телефонов-автоматов, не зная, куда звонить, жене или матери или на службу: у ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь. Вот что ее ожидало, и ее ожидал еще позор как то лицо, которое все бесплодно звонит ему по телефону все одним и тем же голосом в добавление к тем голосам, которые уже до того бесплодно звонили этому ускользающему человеку, наверное, предмету любви многих женщин, испуганно бегающему ото всех и, наверное, всех спрашивающему все одно и то же все в тех же ситуациях: будет ли он завлабом?
Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья.
По дороге бога Эроса
Маленькая пухлая немолодая женщина, обремененная заботами, ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно и очень рано, как только ее дочери начали выходить замуж, – так вот, рано располневшая немолодая женщина однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже не особенно молодой, но яростно сопротивлявшейся возрасту, – или она была таковой по природе, вечно юной, как она выражалась, «у меня греческая щитовидка», и всё.
Вечно молодая сослуживица праздновала день рождения и ни с того ни с сего пригласила к себе эту Пульхерию (как они на работе называли ее по имени гоголевского персонажа, верной пожилой жены своего мужа), а могли бы ее называть также и Бавкидой по заложенным в нее природой данным быть верной, бессловесной, твердой как камень и преданной женой, но Господь Бог судил иначе, и Пульхерия осталась очень рано в единственном числе с двумя дочерьми. Она-то была верной, но этого для жизни мало, как выяснилось, и у ее мужа завелась после санатория знакомая, были звонки, даже угрозы, что кто-то «примет газ» и так далее, а затем Пульхерия, как известно, осталась одна и мгновенно, как только младшая дочь вышла замуж и забеременела, она тоже как бы забеременела ожиданием, ушла в себя, спряталась в свое пухлое маленькое тело, в щеки, спрятала глаза, когда-то большие и, судя по фотографиям, прекрасные (одну из таких фотографий Пульхерия как-то нашла на своем пороге с выколотыми зрачками, понятно чьи дела), – но прежде всего Пульхерия спрятала душу, бессмертную душу юного гения, каким его рисуют – с крыльями, бесплотного, с кудрями и сверкающими лаской и слезой глазами. Все это Пульхерия быстро спрятала, быстро обросла бренной плотью, кудри обвисли. Но этот гений добра не исчез, как мы увидим дальше, и иногда сверкал в ней, подобно озарению. На работе она так болела за свое маленькое порученное ей судьбой дело, что в буквальном смысле болела, когда, к примеру, назначили некомпетентную начальницу, злобную и никчемную, которая уничтожала все предыдущее и накопленное со злорадством беса, перекроила уже приготовленную к отправке выставку, заставила писать новые тексты, и вот тут Пульхерия и ее молодая еще ровесница Оля спелись и сдружились.
Люди быстро объединяются на почве общего негодования, забыв все свои взаимные чувства, и ничего хорошего из этого, как правило, не возникает. Так вышло и в нашем случае. Сухая и самолюбивая Оля возненавидела начальницу люто, вся жизнь Оли была в работе, поскольку дома у нее происходили какие-то неурядицы и проживал тяжелобольной муж, поэтому были регулярные поездки к нему в больницу и мучения с ним дома, затем имелся сын, который быстро женился и хотел привести прямо в дом к маме какую-то ловкую бабу старше себя, и Оля потемнела лицом на глазах у сослуживцев, но потом все-таки она поселила парочку у новоявленной жены в тесной комнатке плюс родился ребенок, а у Оли с мужем были хоромы.
Вот в эти хоромы Пульхерия и поплыла по житейскому морю, предварительно поручив на один вечер все дела дочери, но болея душой за нее, как она справится с малышом одна, оставшись со своим суровым, но бестолковым юным мужем.
Пульхерия, таким образом, оттолкнулась от житейского берега и взмахнула веслами, чтобы уже никогда больше не возвращаться в прежнюю жизнь. Все произошло так мгновенно и все так переменилось, что уже назавтра Пульхерия не помнила ни себя, ни, страшно сказать, свою семью, она как бы впала в сон, а некоторые считали, что она слегка повредилась в разуме, например та же Оля.
Итак, приехав на место, Пульхерия сразу затерялась, засунула свое бренное пухлое тельце в какой-то угол и там затихла, наблюдая утомленными, заплывшими глазами за хлопотами и приготовлениями Оли, не такой скорбно-значительной, как всегда на работе, а простой и домашней, в кружевном старинном фартучке. Оля была очень мила, ей помогали какие-то женщины-подруги с прическами, а в большой комнате (сколько комнат было вообще, Пульхерия не посмотрела) курили у телевизора мужчины – для Пульхерии этот высший свет, этот шикарный мир людей со свободным временем не существовал, и Пульхерия даже и не подумала предложить свою помощь, она просто сидела и отдыхала в кои-то веки.
Пульхерия очень хорошо и с некоторой неловкостью всегда понимала истинные побуждения людей, и в этом случае она тоже понимала, что Оля хочет окончательно подавить ее, Пульхерию, своим великолепием и затем с ней, подавленной, выступить единым фронтом, три человека в отделе, пойти в наступление на начальницу, скинуть ее и затем заступить на это место самой.
Пульхерия с досадой думала о своей всегдашней мягкотелости и уступчивости, что поехала в эти гости, где все чужое и малоинтересное, но у маленькой Пульхерии тоже весьма накипело на душе против начальницы, которая плевать хотела на огромную многолетнюю работу по обработке фондов и хотела все перевести на другие рельсы, на рельсы самоокупаемости, в том числе в русло пикантных разоблачений кто с кем жил и какие есть письма и доносы.
Начальницу быстро назвали «Шахиня» и поняли, что она хочет на чужих плечах сделать докторскую, для того она и въехала сюда на плечах мужа, замдиректора родственного НИИ, а он взял на работу кого-то из детей их директора, тоже порядочного проходимца, похожего на артиста в роли архиерея. Всё всем было известно и всех брала тоска, но что делать!
Таким образом, Пульхерия сидела в гостях тихо и безучастно, выключившись полностью, отдыхая от своих бесконечных трудов, уйдя в свою личину толстенькой тихой бабушки и чуть ли не древней старушки – притом что Пульхерия была старше Оли всего на два месяца. Однако заметим, для будущего это важно, – Пульхерия расценивала свою внешность как несуществующую и знала про себя, что настанет момент, и она из куколки, из кокона обратится обратно в бабочку. Она как бы играла сама с собой в старость в том возрасте, когда другие еще очень и очень возрождаются и поддерживают в себе тонус, – и сама не знала, что оттуда уже нет выхода таким как она. Оле был выход, а ей – нет.
Тем не менее Пульхерия иронически приглядывалась к Олиной вечной молодости и расценивала все ее гимнастики, диеты, корты и лыжи как легкий сдвиг. Пульхерия к себе относилась легкомысленно, а Оля даже сделала небольшую косметическую операцию за ушами и стала еще моложе, а во рту у нее полыхал голубоватый фарфор, но Пульхерия стеснялась смотреть на Олю в ее затянутое лицо выше уровня рта. Она, что называется, смотрела Оле «в рот», что Оля принимала за ее приниженность.
Оля вся была как на ладони, а Пульхерия носила в своей душе маленького, но крепкого и иронического ангела-спасителя, который всё про всех понимал, и Пульхерия в ответ на все иронические замечания Камиллы, третьей сотрудницы, молодой женщины богемного типа из художественной среды, вечно в свитере, джинсах, кольцах и браслетах, – в ответ на ее иронию в адрес молодящейся Оли Пульхерия только вздыхала. А Оля решила полностью опереться на приниженную Пульхерию и именно ее пригласила в гости в дом на день рождения, а Камиллу инстинктивно оставила без внимания, поскольку Камилла на работе томилась, начальнице грубила и просто так бы поддержала любое деструктивное, то есть разрушительное, начинание в адрес существующего положения вещей. Камилла могла бы, кстати, и не пойти в гости к старому бабью, да и Оля могла опасаться ее подлинной без натяжки юности. Так что оставалась безопасная Пульхерия, а у Камиллы были другие мечты и другие дела, и на этом мы ее оставим. Камилла тоже была не просто так с улицы взята на работу, у нее имелись непростые родственники.
Пульхерия сидела сиднем, потом стронулась с места как все, будучи приглашенной к столу, села и расплылась, растаяла, как бы не существовала уже, вела скромную и тихую, как обычно, жизнь, что-то попивала, ела салаты, пока вдруг не поняла, что рядом спрашивают, как ее зовут. Это был мужчина, сидевший справа. Пульхерия ответила, завязался разговор, речь шла о том ученом, архивом которого много лет занималась Пульхерия. Ученый был уже разоблачен, свергнут, забыт и упоминался только в юмористическом и разоблачительном плане, а Пульхерия знала всю его жизнь и все его взаимоотношения с великими мира сего, любила его, как энтомолог любит особую разновидность, допустим, мелкого жучка, признанного вредоносным, но открытого собственноручно. Поэтому она возражала, как ей казалось, обывательскому тону в вопросах этого соседа и тихо и немногословно отвергла общепринятую точку зрения. У вредного старца была надежная защита в лице кроткой Пульхерии!
Сосед начал ниспровергать и горячиться, а она не стала продолжать разговор, снисходительно помалкивая. Сосед приводил общепринятые и истасканные факты, давно обнародованные, а Пульхерия знала многое другое, но, как специалист, не снисходила до спора с невеждой, а только вздыхала. Один раз она поправила его, и он с изумлением посмотрел на Пульхерию, настолько изящным и точным было ее возражение. Пульхерия тоже впервые посмотрела на своего соседа и увидела как в тумане красноватое худое лицо, седые всклокоченные волосы, недостаток одного зуба впереди и воспаленные, часто моргающие, очень светлые глаза. Пульхерия увидела, однако, не совсем то, а увидела мальчика, увидела ушедшее в высокие миры существо, прикрывшееся для виду седой гривой и красной кожей.
Сосед глядел на Пульхерию и мягко улыбался. Он, видимо, вообще улыбался всегда, есть такие люди с определенной мимикой, они всегда улыбаются и в этом их обаяние, но улыбка эта не означает ровным счетом ничего, и многие люди ошибаются, приняв ее на свой счет. Сосед, однако, улыбался Пульхерии как восхищенный ее разумом, покоренный собеседник, и Пульхерия тут же полюбила его жалостливой, щемящей любовью, такой получился результат.
То есть она сама еще не знала этого, а просто как бы освободилась, расцвела, и ее гений послал сияющий луч доброты в адрес соседа справа, и дело было завершено. Пульхерия тихо и со вздохами, но твердо и обоснованно рассказала о предмете своих исследований – то, чего она никому бы не рассказывала, но важен был не предмет, а сущность разговора. Сущность же была в том, что эти двое нашли друг друга за пиршественным столом, где вино лилось рекой и дым стоял коромыслом, а хозяйка, раскрасневшись до лилового румянца на своей новенькой коже, необыкновенно похорошев и подобрев, бегала из кухни в комнату, но на одном из своих путей она, приостановившись и принагнувшись, сказала соседу Пульхерии что-то громко на ухо. Громко и на ухо в основном говорят обидные, язвительные вещи, рассчитанные на чужой слух и на оскорбление адресата, но Пульхерия не поняла ничего, и Оля удалилась, а беседа продолжалась. Сосед затем проводил засобиравшуюся Пульхерию до двери и вдруг заторопился, надел зимние сапоги (он был почему-то в домашних тапках), оделся и пошел провожать Пульхерию вон из дому. Они отправились по морозцу пешком до метро, и Пульхерия не стеснялась ни своего легкого старого пальтеца с висящими кое-где нитками, ни своей шапки, бывшей меховой, еще со времен молодости. Кудри Пульхерии обрамляли ее милое пухлое лицо, глаза раскрылись, румянец проступил на бледных щеках, короче говоря, ее гений, ее ангел-хранитель вознесся сквозь толщу плоти, уже готовой к старости.
Пульхерия была доведена до метро, затем до вагона, затем провожатый влез вместе с ней в поезд и еще долго вел Пульхерию до самого ее дома, до подъезда, где прощание было церемонным и галантным, так как Пульхерии была поцелована ее пухлая маленькая рука, кстати, очень красивая. Ни о каком номере телефона и речи не было, Пульхерия даже не узнала имени своего любимого человека и так, согбенно и скромно, скрылась во тьме подъезда, ни о чем не думая.
Однако червь отчаяния начал глодать ее уже ночью. Пульхерия знала себя и знала, что не спросит никакую Олю о том, кто это был этот сосед справа. На работе Оля вела себя обычно, все силы занял у нее очередной конфликт с начальницей, которая, сидя в той же комнате что и Оля, попросила Олю достать ей из шкафа нужную папку. Оля вспылила и предложила начальнице самой прогуляться до шкафа, и завязался свистящий разговор о перечне служебных обязанностей.
Пульхерия из соседней проходной комнатушки, где она обреталась в архивной пыли и не спеша обрабатывала очередную папку писем, слышала всю беседу соперниц, но – удивительно – она настолько была занята своими мечтаниям и мыслями о Неизвестном, что все это пролетело мимо нее. И на обеденном перерыве, стоя в очереди, она слышала, как Оля, вся кипя, с мнимым юмором рассказывала кому-то инцидент, поправляя его довольно грубо в свою пользу, но Пульхерия, опять-таки равнодушно, пропустила это мимо ушей. Оля тоже как бы сторонилась Пульхерии, не пригласила ее как обычно идти в столовую вместе, а пролетела словно фурия, не глядя по сторонам. То ли она не одобряла все, что произошло вчера, то ли равнодушие Пульхерии дало о себе знать – ведь иногда, Пульхерия это давно заметила, ты думаешь, что к тебе начали относиться плохо, а на самом деле просто это ты уже плохо начал думать о человеке. Все люди внутри остались животными и без слов чувствуют всё, что происходит, ни одно душевное движение не остается без ответа, и более всего равнодушие.
Равнодушная Пульхерия, однако, отстояв очередь до кассы, к своему удивлению, двинулась с подносом к столику, за которым уже сидела взбешенная Оля совершенно одна. Пульхерия твердо решила ни о чем не спрашивать Олю и спросила:
– Ну как вы вчера?
– Что вчера? – резко ответила Оля.
– Я ушла раньше…
– А, какое кому дело до мытья посуды, – едко ответила Оля. – Нет, вы видели эту хамку, она меня просила написать объяснительную записку. Кто она? Жена она, и всё! Она же жена этого идиота, друга нашего идиота! А знаешь какая у нее была диссертация? Особенности морфологии суффиксов ачк-ячк и ушк-юшк! Ушки-юшки! И идет после этого без стыда работать к нам!
Оля еще долго говорила, что у нее тоже есть связи со времен института, такие связи, что боже мой. В президиуме, сказала Оля своим свистящим голосом, так что за соседними столами явно слышали. И что ей стоит только позвонить. Что ее мужа тоже ценят и уважают как математика, и неважно, чей муж где работает и что один болен, а другой здоров как бугай, но полное ничто как ученый. Важно как кого уважают! И когда муж болен, слышали бы вы, какие люди звонят и спрашивают, как он чувствует!
– А что с ним? – неожиданно для себя спросила Пульхерия, чтобы только перевести разговор поближе к своей теме, к событиям в доме Оли, к своему Неизвестному.
– Не спрашивай, – ответила Оля. – Шизофрения. Вот так!
Пульхерия должна была бы страшно пожалеть бедную Олю, от всей души, с содрогнувшимся сердцем, но она почему-то осталась вполне спокойной.
– Я этим диагнозам не доверяю, – сказала Пульхерия.
– И он старше меня на десяток добрый лет, я не знала и вышла замуж.
– А ты не верь.
– И выяснилось недавно, что это уже давно. Все желудок, желудок, худел, все ссорился на работе. Вроде бы ему не дают заниматься прямым делом. Зарезали докторскую.
– И что же в этом ненормального? – спокойно сказала Пульхерия. – Это обычно.
– Он так бил кулаком в больнице по стене, все думали от боли, а потом стали спрашивать меня, я все рассказала. Говорят: как хорошо, что вы пришли, он все звал вас, пусть придет Аня. Аня, представляешь?
– Аня? – спросила сбитая с толку Пульхерия. Она еще не понимала, что вся ее последующая жизнь обрисована была Олей в этом разговоре. Пульхерия ничего не понимала, но слушала прилежно, с бьющимся сердцем. Оля явно что-то ей хотела сообщить, что-то внушить.
– Сказали: он все звал вас, позовите Аню, позовите Аню!
– Аню?..
– А сам никому не нужен, кроме меня. Хорошо у нас в отделе я не дала ему телефон, а на той работе звонил по десять раз в день. Ревнует. Сумасшедший.
– А как же ты? – сказала Пульхерия вполне бессмысленно.
– А вот так. Хорошо еще, что он в постели пока слава богу, а то бы я вообще повесилась. Ты рассмотрела, какие у меня гости были мужики?
Пульхерия не ответила, только воззрилась на Олю, ничего не понимая.
Оля сказала:
– Какие мужики, и все мои любовники, я их всех собрала с женами, жены тоже все мои подруги. Что-то же надо делать с начальницей!
Ошеломленная Пульхерия заткнулась на этом, вопросов больше не задавала, Оля отвлеклась на новый рассказ о событии, а Пульхерия пила компот, неожиданно для себя ощущая жар в щеках.
Мыслей о разговоре с Олей хватило Пульхерии на всю вторую половину рабочего дня, Пульхерия должна была честно признать, что есть какая-то область жизни, совершенно непонятная, но именно там на пороге могут лежать фотографии с проколотыми глазами. Эти соображения перемежались у Пульхерии волнами страшной тоски. Внешне же это выглядело так, что Пульхерия углубилась в чтение все одного и того же пыльного старинного письма.
Тем же вечером, возвращаясь с работы с тяжелыми сумками, Пульхерия увидела у подъезда в сумерках фигуру с непокрытой седой головой. Как само собой разумеющееся, возникло перед ней то, о чем она тосковала все последние сутки, и теперь душа Пульхерии успокоилась. Она повела гостя к себе в квартиру, где на кухне сушились пеленки, в большой комнате у молодых была тишина, то ли они гуляли с ребенком, то ли спали все втроем перед бессонной ночью: ребенок часто плакал между тремя и пятью утра. Пульхерия завела гостя к себе в маленькую комнату, где было чисто и просто, диванчик (Пульхерия смотрела на все новыми глазами, как бы со стороны), круглый столик еще бабушки, кресло – все рухлядь и старье, но старье старинное, в том числе два маленьких книжных шкафа и старые книги в них. Гость сразу стал рыться в книгах, Пульхерия принесла чай и жареную картошку с кухни, поели в молчании, потому что гость весь ушел в книгу, потом он сказал, что ему пора, и удалился. Пульхерия, не прикоснувшись к нему рукой в этом тесном пространстве, после его ухода взяла книгу, которую он смотрел, и прижала ее к груди, закрывши глаза. Так она сидела в полной прострации, пока не загремело на лестнице, это молодые, везя коляску, ворвались в квартиру с шумом, громко разговаривая, забегали, затопали, полилась вода в ванной, закричал ребеночек, а Пульхерия сидела, не в силах выйти из комнаты, и думала, что хорошо, что их не было дома, – и думала, что же это с ней происходит!
Теперь каждый вечер она семенила домой, на работе сидела как во сне и как во сне пребывала дома, делала все то же, то есть стирала, убирала, готовила, бегала по магазинам, но все в полной отключке, потому что каждый вечер приходил Он – то на час, то на пятнадцать минут, сидел, что-то говорил, приносил все время одни и те же пирожные «картошка», они ели, пили чай, он читал ей иногда вслух, иногда писал в тетрадке цифры типа формул, потом исчезал. Пульхерия сильно похудела, все вещички с нее сваливались, она почти ничего не ела, с работы старалась улепетнуть как можно быстрей и незаметней. Еще большую роль играло то, что Пульхерия жила сравнительно недалеко от работы – она как будто придавала огромное значение тому, что именно в назначенное время, минута в минуту он должен был появиться, и пропустить это время было нельзя. Молодежь очень быстро привыкла к гостю, его не стеснялись, хотя и никаких бесед не происходило, только здоровались и прощались, если он попадался им на своем целеустремленном пути, а вид у него был именно целеустремленный, такой же как у Пульхерии, когда она торопилась домой.
На работе Пульхерия очень много трудилась, почти не поднимая головы, и Оля к ней быстро охладела, тем более что она внезапно как бы набралась сил (какие-то результаты закулисных переговоров), объединилась вдруг с начальницей, и они обе совместно стали выживать с работы молодую Камиллу, которая действительно и опаздывала, и брала часто бюллетень, и грубила, хотя работа ее продвигалась, статью она написала, и очень дельную. Но все разрешилось на том, что Камилла, как выяснилось, уйти с работы не имела права, она, это выяснилось, ждала ребенка, муж привозил ее на машине и раньше времени увозил. Результат был такой, что начальница и Оля еще при наличии Камиллы начали активно искать ей замену прямо в ее присутствии, и Камилла грубила им обеим еще с большим чувством, но пухла и увеличивалась на глазах и уже с трудом таскала ноги. Кто-то им всегда был нужен как предмет борьбы, и хорошо, что это была Камилла, однако Пульхерия чувствовала, что недалек и ее час. По институту прошел слух, что у Пульхерии не все в порядке с головой: Пульхерия явно опаздывала со сдачей в срок ежегодного листажа, на обед не ходила, а бегала по магазинам. Никто не знал, что все ее время занимает Он, каждый вечер к ней приходил ее Каменный гость и неслышно сидел как камень, и не могла же она при нем писать свои труды! Она и делала это по ночам, а утром тащилась на работу, ничего не успевая, и там сидела сиднем и что-то корябала на своих карточках, не видя в своих занятиях смысла.
Дело разрешилось на том, что спустя два месяца такой жизни ее гость пропал. Проживши три ужасных дня, Пульхерия опять пошла обедать в институтскую столовую и села за столик, где восседали начальница и Оля. Они-то встретили ее радушно, посоветовали обратиться к хорошему врачу (Оля вызвалась даже устроить консультацию), начальница похвалила статью Пульхерии, наконец-то сданную, Оля похвалила Пульхерину фигурку («у тебя что, диета»), и затем они продолжили свой разговор, от которого Пульхерия оцепенела.
– Значит, завтра до обеда меня не будет, – сказала Оля значительно.
– Как скажет ваша милость, – сказала начальница шутливо. – Можешь быть уверена.
– Положили в беспокойное отделение, – сказала Оля. – Это буйное отделение. Там его убить запросто могут. Да те же санитары. Надо переводить его во второе, как обычно. Там его знают, там его любят. А то в этом беспокойном его заколют совсем, вообще больным придет дебилом или импотентом.
Начальница при этом сделала рот как для поцелуя и пошлепала сочувственно губами:
– В буйном да, сделают.
– А очень просто, – сказала Оля. – Я когда вызвала психоперевозку, он начал скандалить, не шел, а от этого зависит. На улице кричал громко «помогите!» и извивался. Санитары прямым ходом отвезли в беспокойное.
– Это кто? – спросила Пульхерия.
– Мой, – ответила Оля. Щеки у нее были сизо-алые. – Ведь что кричал? Что я его враг, додумался! Типичный бред. Кидался в окно, разбил стекло головой, весь порезался, все было залито кровью, еще кошка эта поганая пришла, я его держу, как Иван Грозный, а она лижет с пола… Веником выгнала, нализалась человеческой крови, как людоед!
– А с чего это началось? – спросила Пульхерия участливо. Сердце ее стучало.
– Опять начал пропадать из дома на сутки, на двое, возвращался ободранный… Голодный, грязный…
«Врет», – подумала лихорадочно Пульхерия.
– Еще что: ну как это у них, не спал, ни с кем не разговаривал, одичал… На работу, слава тебе господи, он вообще раз в неделю ходит… Одну статью в год пишет, они и рады… Одну статью, а они после этой статьи диссертации защищают… А он до сих пор кандидат… Конечно, он гений. Доморощенный. Я на работу, обратите на странности поведения, они отвечают, директор, спасибо, ему надо отдохнуть, дадим путевку… А он тут же бросается из окна головой в стекло… Я одна, я одна только знаю… Присосались к нему какие-то пиявки опять.
– Ну ты подумай, – вставила начальница.
– Не работал, ни одной формулы, я смотрела, обычно он исписывает пачками бумагу…
Пульхерия вспомнила, что Он иногда писал что-то в тетрадке. «Опять врет», – подумала она.
Оля вытирала со щек щедрые слезы, не обращая ни на кого внимания.
Пульхерия теперь все знала. Оставалось выяснить, в какой больнице он лежит.
Как-то все сразу соединилось, встало на свои места. Огонь горел в Пульхерии чуть выше желудка, как будто зажгли лампочку и именно на том месте, где обычно ухает, когда человек проваливается или видит чужую рану.
– Ничего, пройдет, – сказала она. – У меня брат лежал в Кащенко, ничего, выпустили.
– В Кащенко мы не лежали, – ответила Оля задумчиво. – Мы лежали в своей, там его знают с первого раза, с этой Ани начиная. Чуть не кирпич из стены выпал, так он бил по стене кулаком.
– Ничего, выйдет и опять все путем, – сказала начальница.
– Но сколько можно на одного человека! – воскликнула Оля. – Сколько можно! Эта его девушка, я имею в виду сына, опять она его подсылает разменять квартиру! Настрополила сына подавать в суд! Ему же говорят языком: она получит квартиру, которую мы тебе дадим, сами останемся на бобах с психически больным отцом, и она тебя сразу же погонит. Отдай сыну квартиру, не будет ни сына, ни квартиры!
И дальше потекла ее речь одинокого в своей огромной квартире человека, всех раскидавшего, безудержного, страстного и непобедимого.
Пульхерия сидела окаменев за этим столом над пустыми грязными тарелками.
– Главное, – продолжала Оля, – всегда находятся бабы, которые на него клюют. Вечно навещают его в больнице, носят ему домашние пирожки с капустой, передают бульоны, черта-дьявола. Я говорю нянечке: никаких передач, кроме меня, мало ли они ему намешают в тот бульон. Чтобы не тревожили его, не беспокоили. Слава богу, сейчас в больницах карантин, вообще никого не пускают из-за гриппа. Так только, передачи принимают или письма. Он ведь там, где его держат, он ничего не ест.
– Как моего брата, – сказала Пульхерия задумчиво. – Но его брали как диссидента, он голодовку объявил. Кормили через зонд.
– Уж не знаю, – раздраженно сказала Оля, – через что его там кормят. Врач сказала, что у шизофреников это такая форма самоизлечения, все эти голодовки. И не надо вмешиваться в организм. Но голодовка именно в буйном – это страшно. Они там не церемонятся, сразу пускают электрошок. Как через электрический стул проводят, только электрический стул это раз и навсегда, а тут повторяют.
Пульхерия держалась изо всех сил, она понимала, что Оля вызывает ее на реакцию, что Оля за ней наблюдает, как за подопытным животным.
На этом обед завершился, Пульхерия вернулась за свой стол в проходную комнату, теперь кончились, как ни странно, ее страдания на протяжении всех этих трех суток, проведенных абсолютно без сна, теперь начались только его страдания, его жизнь там, в тюрьме, его одиночество в толпе буйных зверей. Страдания брошенной женщины превратились в страдания насильно разлученной женщины, а это разные вещи, как разные вещи горе вдовы и горе покинутой, подумала Пульхерия, наблюдая за собой. Лихорадка, знакомое еще со времен проколотых фотографий чувство, оставила ее. Пульхерия даже с некоторым торжеством думала о покинутой Оле, о победительнице, не нужной никому.
– И если бы не мои любовники, я бы вообще повесилась, – сказала Оля, входя последней в отдел.
– Ой, не говори, – откликнулась из комнаты начальница Шахиня. – Иной раз любой хорош.
– Нет, я этим брезгую, у меня люди преданные, семейные, я всех собираю на день рождения и на всех смотрю.
Так сказала Оля, задерживаясь за стулом Пульхерии.
Так она пыталась уменьшить победу Пульхерии, и Пульхерия все поняла и осталась спокойна.
Она размышляла. Тоска еще не захлестнула ее, не накрыла с головой, Пульхерия отдыхала после смертельного ужаса, и волны любви и преданности носили ее над этим грязным полом, над стулом, над столом, голова кружилась, Пульхерия как бы шептала что-то о своей любви над пыльными письмами, старалась послать всеми силами Ему поддержку.
Когда-то Его страдания должны будут кончиться, надо будет Ему помочь, надо будет действовать с предельной осторожностью, передать весточку: надо будет жить, все рассчитав, до полной победы, до освобождения, до свободы, хотя опыт Пульхерии с ее братом-диссидентом подсказывал, что все очень непросто, и яростным усилием освободить человека это еще не все. И дело не в формальностях, не в правах человека, грубо нарушенных и потому легко восстановимых. Стронуть человека с его места, даже с такого места, это большой риск, думала пока что спокойно, как шахматист в начале партии, Пульхерия. Нельзя трогать человека, думала Пульхерия, нельзя, нельзя, он все должен сделать сам. Все, кто до сих пор его освобождали, все эти переносчицы пирожков и бульонов, ушли в тень, исчезли, а Пульхерия знала, что должна остаться в его жизни – остаться верной, преданной, смиренной, жалкой и слабенькой немолодой женой, Бавкидой.
Пульхерия за одну секунду превратилась в какого-то полководца, знающего силу отступления, ухода в тень, силу молчания. Надо будет ждать. Он вернется, думала Пульхерия. Он сам прорвет эти цепи. Он сильный. И слишком велико беззаконие, ему помогут. Ему поможет сын. Победа придет, но без меня. О ужас, ужас, подумала Пульхерия, не видеть его, ничего не знать.
– Ты не желаешь поехать со мной в больницу? – подошла сбоку к ней Оля. – Ты ведь за столом, помнишь, с ним сидела, вы так мило толковали, забыв прямо обо всех!
– Это был твой муж? – ровным голосом спросила Пульхерия.
– Ты что! Он ведь тебя поехал домой провожать, я ведь его попросила, помнишь? Перед чаем.
– Он проводил, да, до автобуса, – сказала Пульхерия, – я ведь откуда знала, что он больной. Я их боюсь после брата, я и брату в Америку редко пишу.
– Интересно, – сказала Оля и вся как-то затуманилась, выпрямилась, взор ее обратился вдаль, упершись в грязные обои над Пульхериным столом. – Интересно, какие бывают суки, приманивают больного человека.
– Я не приманивала, – холодно ответила Пульхерия, – он сам меня пошел провожать. Там пять минут ходьбы, автобус сразу подъехал, у меня и никаких подозрений не было, что он больной.
– Ну, поехали со мной? Лидочка нас отпустит. Мне одной страшно.
– Ты извини, у меня ведь внук…
– Так это в рабочее время!
– Ты извини, мне как-то неудобно, кто я такая.
– Да он меньше на меня орать будет при постороннем человеке, – сказала Оля.
– Ой, да я боюсь, – ответила Пульхерия и достала из ящика очередной пакет писем.
– Слушай, – как-то медленно заговорила Оля. – Ты не видела, в какую он потом сторону пошел?
– Откуда я видела, я не смотрела. И потом в автобусе стекла замерзли. И буду я проверять, зачем мне это!
– С кем-то он все это время жил. Со мной лично он не спал, – так же задумчиво сказала Оля.
– Ну, – отвечала на это Пульхерия довольно холодно, – это от меня не зависит. Он мне такого наговорил про деда, – Пульхерия показала на портрет объекта своих исследований, находящийся под стеклом в виде то ли Ворошилова, то ли Гитлера, с пучком волос под носом и в пенсне, как у Берии, такая была мода у руководителей той эпохи. – Он сказал, что я вообще работаю напрасно, гну спину.
– Это он умеет, оскорбить, унизить, задеть, – сказала Оля. – Это у него главное в личности. Он сам гений, все же остальные сявки. Это квартира, где проживает гений, все ему принадлежит, а нет! Вот нет! Это его инициатива разменивать квартиру, а ее дали на нас всех! Мне сын сам проболтался, что он хотел сыну двухкомнатную квартиру, себе квартиру, а мне, как последней спице в колеснице, что останется. Но не вышло! Он психически больной и вообще недееспособный. А как сын-то разорялся кричал! Наследственность. Надо его показать психиатру. Отец, видите ли, всё ему подписал, все бумаги на размен квартиры! А я оформляю над отцом опеку, он ненормальный и недееспособный! И всё! Квартиру ему! Да не ему, а этой! (Она добавила еще слова.)
Неожиданно Пульхерия покраснела, но она сидела читала, и такая же раскрасневшаяся Оля стояла и не видела ее лица, не вглядывалась, ее несло как на крыльях, она проклинала, угрожала, сулила чертей, и все напрасно.
– А ты возьми с собой Лиду, Шахиню, – сказала Пульхерия.
– Да хорошо, хорошо, никто мне не нужен, первый раз, что ли, – сказала выдохшись Оля и удалилась к себе.
Пульхерия, прошедшая с честью проверку Оли, продолжала корпеть над своими пыльными бумажками в тесноватой проходной комнате без окна, дело шло к марту, и Пульхерия работала в большой тоске. Она знала, что теперь надо только положиться на судьбу, набраться мужества и ждать терпеливо, скрываясь…
Ибо одно было то, что ничего не стоило вспугнуть Олю. Узнав правду, она способна была бы поджечь квартиру Пульхерии, убить мужа каким-нибудь легким способом – санитары в буйном отделении тоже люди, и сколько ни надейся, там могут найтись преступники и взяточники.
И второе было то, что Он, Каменный гость, мог уже забыть свою Бавкиду, свою Пульхерию, ибо любовь – это игра и ничего больше, она боится взаимности, привязчивости, преданности, боится платить долги и любит загадку и ложные пути.
Гость ценил недоговоренность, внезапность, свободу и нападал только из-за угла.
Возможно, в нынешних обстоятельствах ему было уже не до игры. Возможно, он и обвинял Пульхерию, проклинал эту нелепую пухлую старушку.
И Пульхерия залегла на дно, и единственно что с ней произошло – она побарахталась и тихо перебралась в другой отдел и на этом пути похудела, осунулась и каждый день, возвращаясь домой, чуть не теряла сознание.
И только в конце июня Пульхерия, поздно идя домой из библиотеки, увидела у подъезда на скамейке знакомую фигуру, сидящую в свободной позе нога на ногу, фигуру в сером, с седыми волосами.
Гость медленно встал, открыл перед ней дверь, Пульхерия прошла, позорно споткнувшись, – он поддержал ее под локоть, как даму, и повел к лифту.
Из цикла «Жизнь это театр»
Мост Ватерлоо
Ее уже все называли кто «бабуля», кто «мамаша», в транспорте и на улице.
В общем, она и была баба Оля для своих внуков, а дочь ее, взрослый географ в школе, полная, большая, все еще жила вместе с матерью, а муж дочери, ничтожный фотограф из ателье (неравный брак курортного происхождения), – муж этот то приходил, а то и не являлся.
Баба Оля сама жила без мужа давным-давно, он все уезжал в командировки, а затем вернулся, но не домой, плюнул, бросил все, имущество, костюмы, обувь и книги по кино; все осталось бабе Оле неизвестно зачем.
Они так и поникли вдвоем с дочерью и ничего не делали, чтобы вернуть ушельцу вещи, было больно куда-то звонить, кого-то искать и тем более с кем-то встречаться.
Папаша, видно, и сам не хотел, было, видимо, неудобно – счастливым молодоженом, имеющим маленького сына, являться за имуществом в квартиру, где гнездились его внуки и жена-бабушка.
Может быть, считала баба Оля, ТА его жена сказала: плюнь на все, что надо утром купим.
Может быть, она была богатая, в отличие от бабы Оли, которая привыкла к винегрету и постному маслу, ботинки покупала в ортопедической мастерской для бедных инвалидов, как бы детские, на шнурках и шире обычного: из-за шишек.
Облезлая была баба Оля, кроткий выпученный взгляд из-под очков, перья на головке, тучный стан, широкая нога.
Баба Оля была, однако, удивительно доброе существо, вечно о ком-то хлопотала, таскалась с сумками по всяким заплесневелым родственникам, шастала по больницам, даже могилки ездила приводить в порядок, причем одна.
Дочь ее географ в этом мамашу не поддерживала, хотя сама была готова расшибиться в лепешку для своих так называемых подруг, их кормила, их слушала, но не бабу Олю, отнюдь.
Короче, баба Оля легко улепетывала из дому, настряпав винегретов и нажарив дешевой рыбешки, а дочь-географ, малоподвижная, как многие семейные люди, зазывала подруг к себе, шло широкое обсуждение жизни с привлечением примеров из личной практики.
Муж географа обычно отсутствовал, этот муж из фотоателье привычно вел побочное существование при красном свете в фотолаборатории, и мало ли что у него там происходило, сама дочь-географ прошла когда-то через этот красный свет, вернувшись с курорта в обалделом виде, юная очкастая дылда с припухшими глазами и как будто замороженным ртом, а потом она и привела домой фотоработника (к тому же алиментщика и без жилья) к порядочной маме и тогда еще папе в их маленькую трехкомнатную профессорскую квартиру, дура.
Дело прошлое, много воды утекло, а баба Оля, оставшись и сама без ничего после ухода профессора, ни рабочего стажа, ни перспектив на пенсию и ни копейки в зубы, а также в проходной комнате (фотограф с географом быстро заняли изолированную после ухода отца, так называемый кабинет, раньше они с детьми жили в запроходной, теперь пошли на расширение, что способствует семейной жизни, а баба Оля как спала на диване в гостиной, так там и застряла), она теперь по своей новой профессии много топала и шлепала по лужам, будучи страховым агентом, колотилась у чужих дверей, просилась внутрь, оформляла на кухнях страховые полисы, вечно с пухлым портфелем, добрая; нос потный, зоб как у гуся-матери.
Некрасивая, болтливая, преданная, вызывающая у посторонних людей полное доверие и дружелюбие (но не у своей дочери, которая ни в грош не ставила мать и полностью оправдывала ушедшего папу) – такова была баба Оля и совсем не жила для себя, забивая голову чужими делами и попутно тут же при знакомстве рассказывая свою историю блестящей певицы из консерватории, которая вышла замуж и уехала с мужем по его распределению в заповедник Тьмутаракань, он там делал диссертацию, а она родила и т. д., в доказательство чего баба Оля даже исполняла фразу из романса «Мой голос для тебя и ласковый и томный», хохоча вместе с изумленными слушателями, которые не ожидали такого эффекта, поскольку в буфете начинали звенеть стаканы, а с подоконника срывались голуби.
Дочь-то, разумеется, а также и внуки не выносили бабы Олиного пения, поскольку из бабы Оли в консерватории растили оперную, а не комнатную певицу, причем редкого тембра драматическое сопрано.
Однако и на старуху бывает проруха, и в данном случае баба Оля как-то не выдержала бремени и хлопот от бесплодных звонков по чужим подворотням и вдруг завеялась в кино лично для себя: там тепло, буфет, картина иностранная и, что интересно, множество сверстниц у входа, таких же теток с сумками.
Какой-то как бы шабаш творился у дверей маленького кинотеатра, и баба Оля, кривя душой и уговаривая себя хоть немного отдохнуть, потопала неудержимо, влекомая странными чувствами, к кассе, купила себе билет и вошла в чужое теплое фойе.
У буфета толпились люди, была и молодежь парочками, и баба Оля тоже взяла себе какой-то сомнительной сладкой водички, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги, гулять так гулять, а затем, утершись клетчатым платком мужа, в непонятном волнении она вместе с толпой вошла в зал, села, сняла с себя меховую кубанку на резиночке, шарф, расстегнула зимнее обдерганное пальто, когда-то шикарное, синий габардин и чернобурка, в зеркало лучше не смотреться, – и тут погас свет и возник рай.