Бог: да или нет? Беседы верующего с неверующим Сурожский Антоний
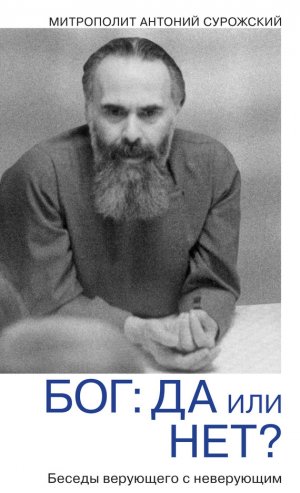
О благословенном риске диалога
О диалоге Церкви и мира сегодня говорится довольно часто, и потребность в нем – качественном, живом, резонансном диалоге – буквально «витает в воздухе». Но едва ли можно сказать, что такой диалог сегодня складывается успешно. Среди ключевых проблем, которые препятствуют полноценному диалогу, хотелось бы выделить несколько. Прежде всего, – и это приходится признавать с болью сердца – большая часть церковного общества вообще не готова к любому открытому, на равных, общению с «внешними»: с культурой ли, с ученым сообществом, и даже просто с грамотными журналистами. В нашей среде есть хроническая болезнь, название которой – декларативность. Мы привыкаем вещать с амвона и подсознательно уже не предполагаем, что нам кто-то имеет право и может ответить, тем более аргументированно и обоснованно. Мы сразу же этого пугаемся, замыкаемся в себе и воспринимаем такого человека как потенциального «духовного врага». Так что первая задача, которую необходимо решить, чтобы вывести диалог на более высокий уровень, – это признать законность самой его формы, право на этот «непричесанный» политкорректностью разговор внутри самой Церкви.
Еще одна сторона проблемы диалога – в том, что в нашем церковном сообществе есть, к сожалению, не вполне изжитая болезнь скрытого антагонизма к светской культуре. Мы воспринимаем культурное сообщество как людей, которые пытаются собой подменить религию. Такое мнение действительно имеет право на существование, поскольку в секулярном обществе (в том числе коммунистическом) значительную часть функций Церкви брали на себя деятели культуры – причем не только в плане просвещения, а прежде всего в области духовной. Разве не подменял собой художественный катарсис религиозное покаяние?.. В итоге в нашем сознании от этой эпохи осталось много комплексов, связанных с областью культуры, которые по сей день мешают нам вступать в полноценный плодотворный диалог с ее деятелями.
Помимо этих принципиальных проблем, есть проблема чисто практическая: отсутствие того самого «места встречи», которое «изменить нельзя». На самом деле у нас нет открытых площадок для ведения диалога. Естественно, мы не можем вести диалог на площадках внешних, на площадках самих представителей культуры, потому что мы подсознательно воспринимаем эти площадки как враждебную территорию. Очевидно, что и они не придут к нам, потому что точно так же будут воспринимать нас как пространство, даже более откровенно враждебно настроенное и агрессивно выражающее себя по отношению к ним своей подчеркнутой церковностью. А каких-то других площадок у нас просто нет.
Естественные, в общем, для таких встреч площадки СМИ – радио, интернет, телевидение – практически не испытывают интереса к беседе о чем-либо существенном, содержательном. Церковь в таких разговорах чаще всего выступает в роли «ответчицы» по разнообразным, но всегда внешним по отношению к сути ее бытия информационным поводам. Что она в итоге получает, а что теряет – вопрос иной, и сейчас речь не об этом. Проблема в том, что диалога в прямом смысле как совместного уважительно-равноправного рассуждения, открывающего внутреннее содержание темы, не только не происходит, но даже потребность в нем не осознается. По большому счету сам жанр «разговора верующего с неверующим» в нашей современной апологетике отсутствует. Есть мастерские, зажигательные монологи перед влюбленным в миссионера залом. Есть, конечно, классические «Диалоги» прот. Валентина Свенцицкого, с успехом использующего форму вопросов и ответов – правда, с выдуманным вопрошателем. Однако реального диалога в этой книге нет – это не более чем литературный прием, помогающий автору выстроить учение о Боге и Церкви в виде своеобразной педагогической «лестницы». Иные случаи применения формы псевдодиалога в церковной литературе оставляют нашим оппонентам еще меньше места для подлинного разговора – для начала это могут быть недоуменные реплики «Да разве может так быть?», поближе к концу беседы сменяемые умильным благодарением новообращенного. В то же время нельзя не напомнить, что для западных интеллектуалов и церковных деятелей это вполне живая традиция – обсуждать вопросы веры и неверия в публичных встречах и диспутах: можно вспомнить такие беседы Умберто Эко с кардиналом Мартини, Фредерика Бегбедера с епископом ди Фалько, а также совсем недавний диалог об эволюции архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса с «главным атеистом мира» Ричардом Докинзом[1].
Предлагаемые читателю беседы владыки Антония – очень показательны в этом отношении. «Вы верите в Бога и считаете, что это хорошо и правильно. Я не верю в Бога и считаю, что это хорошо и правильно», – с такого утверждения начинает свою публичную беседу с ним писатель и философ Марганита Ласки. Позиции определены, вот-вот начнется схватка… Но удивительно то, что схватки как раз и не получается. Получается – разговор, та самая человеческая «встреча», занимающая такое большое место в философии владыки Антония. Владыка общается со своими собеседниками, пытаясь прежде всего их услышать, разглядеть в их словах правду, бережно и любовно всматриваясь в человека как в тот образ Божий, который парадоксальным образом являет ему его собеседник, отрицающий Бога. Какие-то вопросы собеседников заставляют владыку признать: «Да, этот вопрос является судом для нас, верующих. Мы не живем в полноту и силу своей веры». У него нет ни в малейшей степени настроенности на победу в споре, на то, чтобы любой ценой обратить собеседника или же сохранить свой «духовный имидж» в непререкаемой славе. Он выступает свидетелем, спокойно и твердо рассказывающим о своей вере, показывающим, почему он верит именно так, как верит. У нас нет оснований думать, что собеседники владыки Антония в этих публичных беседах в итоге поменяли свои взгляды – по крайней мере, публично это ими нигде не заявлялось. «Я уйду, ставя себе новые вопросы» – с таким чувством завершают они эти встречи. Но это ни в коей мере не может значить их бесплодности. Можно быть уверенным, что для множества людей, слышавших или видевших те беседы, именно это сочетание твердости в своей вере и бережного внимания к человеку, не разделяющему ее, эти самые задаваемые себе «новые вопросы» послужили поводом к тому, чтобы повнимательнее разузнать, что за человек здесь являлся «адвокатом Бога». Тот неоспоримый авторитет, который имел владыка Антоний в религиозной жизни Англии, во многом складывался благодаря именно таким встречам и беседам.
Нам же, только пытающимся сегодня обустроить пространство, в котором мог бы происходить столь желанный диалог Церкви и мира, этот пример необыкновенно важен и ценен. И еще – не в меньшей степени, чем к людям внешним, слова владыки обращены к нам. «От верующих… первым делом я ожидаю веры…» – в этом несложном заявлении митр. Антония заключается настоящий вызов. Очевидно, что ответом должны быть не только слова.
Прот. Павел Великанов
Диалог верующего с неверующим[2]
I
А. М. Гольдберг. Митрополит Антоний, мне недавно довелось слышать вас по телевидению; вы тогда говорили, обращаясь к английским слушателям, о Воскресении Христа. И меня это заинтересовало; потому что в том, как относятся все христианские Церкви к этому вопросу, есть, как мне всегда казалось, что-то парадоксальное. Ведь согласно христианскому учению, главное – не материя, а дух; и одним из основных догматов христианства является бессмертие души. Почему же христианство делает такой упор на физическое Воскресение Христа и на последовавшее за этим физическое вознесение? Казалось бы, именно с христианской точки зрения это совершенно неважно. Мало того, это представляется как попытка дать христианству материалистическую основу – несмотря на то, что материализм должен бы быть совершенно чужд христианству.
Митр. Антоний. Вот тут-то я с вами не согласен. Я думаю, и вся библейская традиция, и христианская, которая выросла из нее и является, с моей точки зрения, завершением ее, считают, что и материя, и дух существуют в человеке как бы на равных началах. Я бы сказал так: из всех мировоззрений, которые я знаю, христианство – единственное подлинно материалистическое мировоззрение в том смысле (конечно, я немножко играю словами), что христианство принимает материю всерьез; оно учит, что материя не является временным или случайным обрамлением жизни человека, что человек не является духом, который на время «воплощен», что материя, которая нас окружает, не является просто сырым материалом для нашей жизни, для постройки материального мира, а имеет окончательное значение и что человек рассматривается не как дух, завязший в материи, а как совокупность материи и духа, составляющая одно целое.
И то, что вы говорите дальше: что христианство верит в бессмертие души, – да, это правда, но в более основном, глубоком смысле. Христианство утверждает (это вы найдете и в Символе веры, и в сознании христианской Церкви) воскресение мертвых: нам представляется, что полнота человеческого бытия – именно воплощенность, а не развоплощенность витающих духов.
А. М. Гольдберг. Скажите, такова была всегда христианская установка? Потому что, насколько мне помнится, раньше говорили совершенно иначе. Меня, например, учили, что в Средние века христианская Церковь считала, будто жизнь на земле – преходящее состояние; оно, конечно, преходящее и теперь, но, во всяком случае, считалось, что это менее «важное» состояние, чем то, что будет после.
Митр. Антоний. Мне кажется, что тут есть два момента. Во-первых, в течение многих столетий было среди христиан несколько, скажем, выжидательное, даже подозрительное отношение к плоти, потому что казалось, будто плоть, телесность человека связывает его с животным миром, делает его чем-то ниже того духовного существа, которым человек должен бы быть. Это – позднейшая установка, это установка христианского мира, который уже как-то потерял первобытный, радостный, всеобъемлющий импульс. Скажем, в пятом веке один из Отцов Церкви писал, что никогда нельзя упрекать или обличать плоть в том, что она виновата в человеческом грехе, что грехи плоти – это грехи, которые дух совершает над плотью. Так что подозрительность, которая постепенно развилась в связи с аскетической установкой, с борьбой за целостность человека, сознание, что человек иногда тяжелеет под гнетом своей плоти, не является богословской, а только практической установкой.
С другой стороны, всегда была в христианстве жива вера, что правда человек живет на земле временно; правда будет разлучение души и тела; правда будет какой-то период, когда душа будет жива, тогда как тело будет костьми лежать в земле; но что в конечном итоге будет воскресение плоти и что полнота человеческого блаженства – это не развоплощенный дух, а воплощенный человек, после той катастрофы, того события, которое мы называем Страшным судом, концом мира – назовите как хотите, после момента, когда все будет завершено и человек снова станет полным человеком, а не только получеловеком.
А. М. Гольдберг. Значит, отношение христианства к этому вопросу, если я вас правильно понял, действительно менялось на протяжении веков; может быть, не в основном, но в том смысле, что одно время делался упор на одно, а в другие времена – на другое? Вы сказали, что подозрительное отношение к плоти характерно для более позднего периода христианства, то есть для Средних веков; теперь от этой установки отказались, и плоть и дух снова рассматриваются как равные?
Митр. Антоний. Видите ли, сказать, что теперь от такой установки отказались, конечно, было бы немножко оптимистично; но основная, первичная вера христианской Церкви, библейской традиции сейчас переживается и осмысливается с новой глубиной и силой.
А. М. Гольдберг. Я отметил ваше слово «оптимистично». Но в связи с Воскресением Христа – все-таки я вам должен сказать совершенно откровенно, что с точки зрения неверующего человека, который вовсе не относится враждебно к религии, напрашивается следующий вывод: что этот догмат был сформулирован для того, чтобы отличить Христа от обыкновенных людей, и для того, чтобы побудить обыкновенных людей уверовать в Его Божественную природу; другими словами, пользуясь современным термином, этот догмат был сформулирован для пропагандистских целей. Я могу Вам пояснить. Если было бы просто сказано, что Христа надо считать Богом в силу Его этического учения, в силу той жертвы, которую Он принес, то одни поверили бы этому, а другие – нет. И вот для того, чтобы убедить в этом большее число людей, нужна была ссылка на какое-то сверхъестественное событие – ибо от Бога многие ждут чуда.
Митр. Антоний. Я думаю, что это исторически неправильно; я думаю, что христианская вера началась с момента, когда у каких-то людей – у апостолов, у нескольких женщин, которые пришли ко гробу Спасителя после Его распятия и смерти, у все увеличивающегося количества людей – был непосредственный опыт, то есть реальный опыт того, что Тот, Кого они видели в руках Его врагов, Тот, Кого они видели умирающим на кресте и лежащим во гробе – ЖИВ, среди них. Это не поздний догмат, это одна из первых вещей, о которых говорит Евангелие; это основной мотив, основная тема евангельской проповеди: что Христос жив, и раз Он жив, все остальное делается достоверным, правдоподобным; Он, значит, действительно то, что Он о Себе говорил и что они о Нем думали. Я думаю, что как раз наоборот: это не довод, который позднее был выдуман или приведен сознанию людей для достижения пропагандистских целей, это – первичная вера, без этого ученики просто разбежались бы, как разбитое войско, как разогнанное стадо, и были бы уже окончательно уничтожены.






