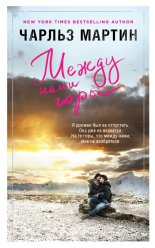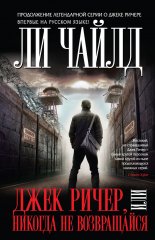Человек со связями (сборник) Улицкая Людмила
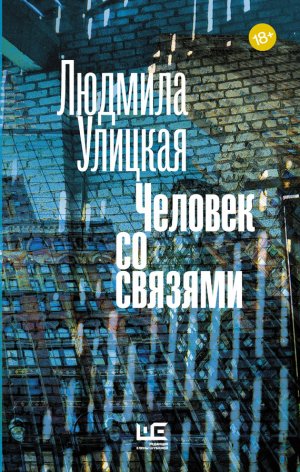
Супницу она осторожно поставила на красную табуретку. Вытащила из комода три свечи, зажгла их, оплавила снизу и прилепила к фаянсовому бортику. Всё получалось у нее с первого раза, без труда, нужные вещи как будто выходили ей навстречу.
Она сняла со стены бумажную иконку и улыбнулась, вспомнив, какой странный человек оставил ее здесь. Тогда у них в доме жил один из многочисленных бездомных эмигрантов. Нинка была равнодушна к постояльцам и обычно почти их не замечала, а как раз того просила поскорее выставить, но Алик говорил:
– Нинка, молчи. Мы слишком хорошо живем.
А тот парень был чокнутый, не мылся, носил что-то вроде вериг на теле, Америку ненавидел и говорил, что ни за что бы сюда не поехал, но у него было видение, что Христос сейчас в Америке и он должен Его разыскать. И он искал, гоняя по Центральному парку с утра до вечера. А потом его кто-то надоумил, и он отправился в Калифорнию, к другому такому же, но к американцу – не то Серафим, не то Севастьян, – тоже, говорят, был сумасшедший, еще и монах…
Иконку Нина поставила, уперев ее в суповую миску, и задумалась на мгновенье. Какая-то мысль ее тревожила… об имени… Имя у него было совершенно невозможное – в честь покойного деда родители записали его Абрамом. А звали всегда Аликом и, пока родители не разошлись, всегда спорили, кому это пришло в голову – назвать ребенка столь нелепо и провокационно. Так или иначе, даже не все близкие друзья знали его настоящее имя, тем более что, получая американские документы, он записался Аликом…
Человек, которому носить вообще какое бы то ни было имя оставалось совсем недолго, изредка судорожно всхрапывал.
Нинка кинулась искать церковный календарь, сунула наугад руку в книжную полку и за кривой стопкой кое-как лежащих книг сразу же нашла старый календарь. Под двадцать пятым августа стояло: мчч. Фотия и Аникиты, Памфила и Капитона; сщмч. Александра… Опять всё было правильно. Имя годилось. Всё шло ей навстречу. Она улыбалась.
– Алик, – позвала она мужа. – Не сердись и не обижайся: я тебя крещу.
Она сняла с длинной шеи золотой крест – бабушки, терской казачки. Ей про всё объяснила Марья Игнатьевна: любой христианин может крестить, если человек умирает. Хоть крестом золотым, хоть спичками, крестиком связанными. Хоть водой, хоть песком. Теперь только надо было сказать простые слова, которые она помнила. Она перекрестилась, опустила крест в воду и хриплым голосом произнесла:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа…
Она начертила крест в воде, окунула в супницу руку, набрала в горсть воды и, стряхнув ее на голову мужу, закончила:
– …крещается раб Божий Алик.
Она даже не заметила, что такое подходящее имя – Александр – вылетело у нее из головы в решающую минуту.
Дальше она не знала, что ей делать. С крестом в руке она села возле Алика, провела пальцами, размазывая крещальную воду по лицу, по груди. Одна из свечей прогнулась и, пренебрегая законом физики, упала не наружу, а внутрь ставшего священным сосуда. Зашипела и погасла. Потом Нина надела свой крест ему на шею.
– Алик, Алик, – позвала она его.
Он не отозвался, только вздохнул с горловым храпом и снова затих.
– Фима! – крикнула она. Фима вошел.
– Ты посмотри, что я сделала, – я его крестила.
Фима повел себя профессионально:
– Ну, крестила и крестила. Хуже не будет.
Оживление и чудесное чувство уверенности, что всё она делает правильно, вдруг покинуло Нину. Она отодвинула табурет в угол, легла рядом с Аликом и понесла какую-то околесицу, в которую Фима не вслушивался.
Приоткрылась дверь, вошел Киплинг – тихая собака, которая третьи сутки лежала у двери и ждала свою хозяйку. Киплинг положил голову на тахту.
“Надо его вывести”, – сообразил Фима. Было уже пора собираться на работу. Джойка, обидевшись, ушла. Уехала среди ночи и Люда. Фима разбудил спящего – им оказался Шмуль, а не Либин, как Фима предполагал, и это было очень кстати, потому что Шмулю торопиться было некуда, он всю свою американскую жизнь, лет десять, сидел на пособии. Фима растолкал его, дал на крайний случай инструкцию и свой рабочий телефон. Теперь оставалось вывести Киплинга – он стоял смирно возле двери и помахивал хвостом – и ехать на работу.
Следующий после крещения день Нинка не выходила из спальни, лежала обхватив Алика за ноги и никого туда не пускала.
– Тише, тише, он спит, – говорила она каждому, кто приоткрывал дверь.
Он был в забытьи, только изредка похрипывал. При этом всё, что говорили вокруг, он слышал, но как будто из страшной дали. Временами ему даже хотелось сказать им, что всё в порядке, но шарф был повязан туго, и распустить его он не мог.
Одновременно он был сильно поглощен новыми ощущениями. Он чувствовал себя легким, туманным и вполне подвижным. Он двигался внутри какого-то черно-белого фильма, только черное не было вполне черным, а белое – белым. Скорее всё состояло из оттенков серого, как если бы пленка была старой и заезженной. Ничего неприятного в этом не было.
В движении, по которому он так стосковался за последние месяцы, было блаженство, сравнимое разве что с наркотическим. Тени, мелькавшие на обочине размытой дороги, были смутно-знакомыми. Некоторые напоминали древесные силуэты, другие были человекоподобны. И снова появился школьный учитель Николай Васильевич Галоша, и Алик с удовольствием отметил про себя, что это явление Николая Васильевича, математика, человека трезвого и строгого разума, и было как раз доказательством полной реальности происходящего и избавило от тонкого беспокойства: не сон ли это, не бред ли какой-нибудь… Николай Васильевич его явно узнал, сделал приветственный жест, и Алик понял, что тот к нему направляется.
Нина опять стала звенеть бутылочками, но звон был скорее приятный, музыкальный. Наливая в горсти остатки травяного настоя, она шептала что-то невнятное, но всё это ему не мешало, совершенно не мешало. Галоша к тому времени был уже совсем рядом, и Алик увидел, что тот по-прежнему беззвучно пошлепывает губами, как это делал в школе, и эту его привычку Алик позабыл, но теперь с умилением вспомнил. Это тоже было очень убедительно: нет, не сон, всё так оно и есть…
В середине дня пришел мастер по установке кондиционеров, индифферентный мулат в золотых цепочках, с молоденьким чахлым помощником, – кто-то из друзей оплатил вызов. Нинка впустила их в комнату, и они быстро наладили кондиционер, ни разу не взглянув в сторону умирающего. Жара в комнате довольно быстро сменилась пыльной прохладой. Потом пришла Валентина – Нинка ее не впустила, и она осталась сидеть в мастерской вместе с вернувшейся Джойкой.
На грязном белом ковре в углу, засунув под голову свернутое одеяло, уютно устроилась Тишорт и читала по-английски книгу, которую мечтала прочесть в оригинале. Это была “Великая Книга Освобождения”. Со вчерашнего дня она всё думала о том, какая жалость, что она не мужчина и не может уйти в тибетский монастырь. А с утра спросила у матери, нельзя ли ей сделать такую операцию, чтобы грудь в два раза уменьшить… Как будто это могло ее приблизить к прекрасному уделу тибетского монаха…
Подушки были засунуты за спину Алику, он почти сидел на кровати. Нина смачивала ему потемневшие и высохшие губы, пыталась вдуть воду через соломинку, но она сразу же вытекала.
– Алик, Алик. – Она звала его, трогала, гладила. Припала губами к подвздошной ямке, прошла языком вниз, к пупку, по той еле заметной линии, что делит человека надвое. Запах тела показался чужим, вкус кожи – горьким. В этой горечи она мариновала его два месяца не переставая.
Она замерла лицом в рыжих завитках коротких волос и подумала: а волосы совершенно не меняются…
Наконец она перестала его тормошить и затихла, и тогда Алик сказал вдруг очень внятно:
– Нина, я совершенно выздоровел…
Когда Фима в восьмом часу приехал с работы, в спальне он застал престранное зрелище: голая Нинка, подложив под себя черное кимоно, сидела лицом к Алику, натирала свои чудесные руки травяной гущей и приговаривала:
– Ты видишь, как она помогает, такая хорошая травка…
Она подняла на Фиму сияющие глаза и сказала торжественно и полусонно:
– Алик мне сказал, что он выздоровел…
“Умер”, – догадался Фима. Он коснулся Аликовой руки – она была пуста, барабанная музыка ушла из нее.
Фима вышел из спальни в мастерскую, налил себе полстакана дешевой водки из большой бутыли с ручкой, выпил, прошелся несколько раз из конца в конец мастерской. Народу было еще не так много, собирались попозже. Никто на него не смотрел, все были заняты: Валентина с Либиным играла в Аликовы нарды, Джойка раскладывала карты Таро, которым научила ее Нинка, – пыталась внести ясность в свою и без того ясную одинокую жизнь. Файка ела яичницу с майонезом. Она всё ела с майонезом. Московская Люда давно уже перемыла всю посуду и сидела теперь рядом с сыном около телевизора в ожидании свежих новостей из Москвы.
– Алеша, выключи телевизор. Алик умер, – тихо сказал Фима. Так тихо, что его не услышали. – Ребята, Алик умер, – повторил он так же тихо.
Хлопнул лифт, вошла Ирина.
– Алик умер, – сказал он ей, и тут наконец все услышали.
– Уже? – вырвалось у Валентины с такой тоской, как будто он обещал ей жить вечно и нарушил планы своей несвоевременной смертью.
– Оh shit! – воскликнула Тишорт и, отшвырнув книжку, бросилась к лифту, едва не сбив мать с ног.
Ирина стояла возле двери, потирая ушибленное плечо. “Может, в Россию съездить на недельку, найду Казанцевых, Гисю… – Гися была Аликова старшая сестра. – Она, наверное, совсем старуха, Алика старше была на четырнадцать лет. Она меня любила…”
Джойка отложила карты и заплакала.
Все стали почему-то одеваться. Валентина нырнула головой в длинную индийскую юбку. Люда надела босоножки. Хотели пойти в спальню, но Фима остановил:
– Погодите, Нинка еще не знает. Надо ей сказать.
– Ты скажи, – попросил Либин.
Он с Фимой уже три года не разговаривал, но тут и сам не заметил, как попросил.
Фима приоткрыл дверь спальни: там было всё то же. Лежал Алик, покрытый до подбородка оранжевой простыней, на полу сидела Нинка, натирая свои узкие ступни с длинными пальцами, и приговаривала:
– Это хорошая травка, Алик, в ней ужасная сила…
Еще там был Киплинг. Он положил передние лапы на тахту, на них свою умную и печальную морду.
“Какая глупость про собак, что они боятся покойников”, – подумал Фима.
Он приподнял Нинку, поднял с полу ее промокшее кимоно и накинул ей на плечи.
Она была послушна.
– Он умер, – в который уже раз выговорил Фима, и ему показалось, что он уже привык к новому положению мира, в котором Алика больше нет.
Нинка посмотрела на него внимательными прозрачными глазами и улыбнулась. Лицо у нее было усталое и немного хитрое.
– Алик выздоровел, знаешь…
Он вывел ее из спальни. Валентина уже тащила ей ее питье. Нинка выпила, улыбнулась светской, ни к кому не обращенной улыбкой:
– Алик выздоровел, знаете? Он сам мне сказал…
Джойка издала звук, похожий на смех, и выскочила в кухню, зажимая рот. Снизу звонили в домофон. Нина сидела в кресле со светлым и растерянным лицом и гоняла палочкой лед в стакане.
Чисто Офелия. А защита – как у хорошего боксера: ничего не хочет знать. Всё правильно, никогда он не мог ее оставить, она живет вне реальности, а он всегда ее безумие собой прикрывал. “Есть, есть логика в этом безумии”. Делать Ирине здесь больше было нечего, захотелось поскорее уйти.
Она спустилась вниз. Тишорт не ждала ее около подъезда. Дочку свою она упустила. Ирина пересекла медленный машинный поток и зашла в кафе.
Догадливый черный бармен спросил утвердительно:
– Виски?
И тут же поставил стакан.
“А, конечно же, Аликов приятель”, – сообразила Ирина и, указав пальцем в сторону противоположного дома, сказала:
– Алик умер.
Тот мгновенно понял, о ком идет речь. Он воздел лепные руки в серебряных кольцах и браслетах, так что они звякнули, сморщил темное ямайское лицо и сказал на языке Библии:
– Господи, почему ты забираешь у нас самое лучшее?
Потом плеснул себе из толстой бутыли, быстро выпил и сказал Ирине:
– Слушай, девочка, а как там Нина? Я хочу дать ей денег.
Ее давно уже никто не называл девочкой.
И вдруг Ирину прожгло: он как будто никуда и не уезжал! Устроил ту Россию вокруг себя. Да и России той давно уже нет. И даже неизвестно, была ли… Беспечный, безответственный. Здесь так не живут. Так нигде не живут! Откуда, черт возьми, это обаяние, даже девочку мою зацепил? Ничего такого особенного ни для кого он не делал, почему это все для него расшибаются в лепешку… Нет, не понимаю. Не могу понять…
Ирина подошла к автомату в глубине кафе, сунула карточку, набрала длинный номер. Дома у Харриса стоял автоответчик, в конторе подошла старая обезьяна секретарша, сказала, что он сейчас занят.
– Соедините срочно, – попросила Ирина и назвалась.
Харрис тотчас же снял трубку.
– Я освободилась и могу приехать на weekend.
– Позвони, когда тебя встречать. – Голос его звучал суховато, но Ирина всё равно знала, что он обрадовался.
Красноватое сухое лицо, чистые усы, опрятная зеркальная лысина… Диван, стакан, лимон… одиннадцать минут любви, можно проверять по часам, – и чувство полнейшей защищенности, когда устраиваешь голову на обросшей кудлатой шерстью широкой груди… Это всё очень серьезно, и это надо довести до конца…
Прошлое было, конечно, неотменимо. Да и чего в нем было отменять…
Она отработала последнее представление в Бостоне и, не заходя в гостиницу, поехала в аэропорт. Купила билет и через два часа была в Нью-Йорке. Год был семьдесят пятый. В кармане оставалось после покупки билета четыреста тридцать долларов, которые она привезла из России в кармане брюк. Правильно сделала – деньги на руки труппе так и не дали, обещали выдать в последний день, на покупки, но ждать уже было невозможно.
Она сидела в самолете, поглядывала на часы и понимала, что скандал начнется завтра утром, а не сегодня вечером. Сегодня потное руководство будет бегать по паршивой гостиничке, ломиться во все номера и допрашивать, когда последний раз видели Ирку. Какие будут анафемы, начальник отдела кадров полетит с работы, это уж конечно… Отец на пенсии, наверняка чем-нибудь торгует, он выкрутится. А мама, умница, только обрадуется, маме позвоню завтра. Скажу, что всё у меня получилось отлично, нечего за меня беспокоиться…
В Нью-Йорке позвонила Перейре, цирковому менеджеру, который обещал помочь. Его не было дома. Как потом выяснилось, не было и в городе. Он просто забыл предупредить Ирину о своем отъезде. Второй, случайный телефон, который был у нее, – Рея, клоуна, с которым она познакомилась за три года до того на цирковом фестивале в Праге. Он был дома. Она с трудом объяснила ему, кто она такая. Вне всякого сомнения, он ее не вспомнил, но приехать разрешил.
Ее первая ночь в Нью-Йорке прошла как в бреду. Рей жил в крохотной квартирке в Вилледже со своим другом. Тот и открыл дверь, стройный молодой человек в женском купальнике. Они оказались замечательные ребята и здорово ей помогли. Потом Рей признался, что совершенно ее не помнил и вообще не уверен, что был когда-либо в Праге.
Поскольку Бутан – имя это, фамилия или прозвище сожителя Рея, Ирина так и не узнала – жил в Америке нелегально уже пять лет, ее безумный шаг не показался им таким уж безумным. Сами они сидели в это время без денег и без ангажемента и размышляли, как бы им заплатить за квартиру. На следующее утро они оплатили счет Иркиными деньгами и отправились на заработки. Заработки имели место в Центральном парке, и, как они сказали, Ирка принесла удачу.
Первые несколько дней она корячилась на коврике со своими акробатическими штучками, а потом сшила пять тряпичных кукол, надела их на руки, на ноги и на голову, и заработки их совсем уж устроились. Ирка скромно спала на трех диванных подушках в смежной комнате, ни в чем не ограничивая их сексуальной свободы. Через некоторое время Бутан стал к ней слегка приставать, а Рей начал по этому поводу нервничать. Идея их тройственного союза, таким образом, висела на волоске. Ирка еще выходила с ними на работу, но уже понимала, что надо срочно искать другой способ существования. Вообще они были славные ребята, и она как-то совершенно успокоилась насчет своей резкой линьки: оказалось, таких, как она, пол-Америки.
В один из августовских дней она отыграла свой номер возле входа в маленький зоопарк в Центральном парке и обнаружила себя в объятиях Алика, который двадцать минут внимательно наблюдал за веселой работой ее мускулистых рук и ног.
Еще через двадцать минут она вошла в тот самый лофт, в те времена еще не перегороженный. Алик к тому времени прожил уже два года в Америке, много работал и прилично продавался. Он был весел, независим, эмиграция его складывалась удачно. Он смотрел на Ирку, сделанную из маленького юркого животного, но с человеческим и дерзким лицом, и понимал, что она и есть то, чего ему не хватает.
С тех пор как они расстались, прошло семь лет. Теперь казалось, что это совершенно выброшенные годы, и они старались поскорее наверстать упущенные слова, жесты, движения. Им не хватало двадцати четырех часов в сутки. Всё было стеклянным и прозрачным. Земли под ногами не было.
Однажды ночью, возвращаясь домой, они нашли выброшенный из богатого дома огромный белый ковер и с трудом приволокли его в мастерскую. Теперь Ирка сидела на этом ковре, в естественной для нее позе лотоса, и держала перед собой учебник английской грамматики. Это была Аликова идея, что начинать надо именно с грамматики. Она ее долбила. А он возился со своими гранатами. Весь дом был ими завален: розовыми, багровыми, ссохшимися, бурыми, разломленными и подгнившими – и просто их сухими трупами, из которых был выжат жгучий сок.
Гранаты на его картинах того времени присутствовали в одиночку, парами, небольшими группами, совершали обмены и перекидки. И можно было предположить, что, производя эти несложные манипуляции, он вдруг откроет новое, никому не известное число в пределах всем известного числового ряда, например между семью и восемью…
Восемьдесят восемь дней прожила Ирка в этой мастерской. Они ели, разговаривали, обнимались, принимали теплый душ – потому что тогда тоже была жара и трубы прогревались, – и всё было счастье, вернее сказать, только начало счастья, потому что и представить себе было невозможно, чтобы всё это кончилось. Джаплиновские композиции рассыпались по ночам.
В жестких Иркиных губах проступала расплывчатая нежность: она уже знала, что беременна, и всё тело ее с головы до ног испытывало физиологическое счастье. Алик об этом еще не знал.
Он и без этого известия не особенно хорошо представлял себе, что ему делать. В то время он как раз ждал приезда Нинки, с которой развелся перед отъездом, и тогда ему самому не было ясно, развелся он с ней в шутку или всерьез. Отец ее никогда в жизни не дал бы ей разрешения на выезд, Алик же твердо решил уезжать. После его отъезда Нинка начала загибаться от своего тихого безумия, пыталась покончить с собой – это был уже второй суицид, лежала в психушке, звонила, звонила… Теперь же нашли наконец подставного американца, он на Нинке женился, и Нинка оформляла выезд на постоянное жительство к фиктивному мужу. Такие бумаги требовали иногда нескольких лет беготни.
Алик полоснул ножом по длинной розовой дыне, она распалась надвое – зазвонил телефон. Счастливая Нинка сообщила, что получила разрешение и уже заказала билет.
– Ну вот, а теперь я не знаю, как из этого выбираться, – положив трубку, объявил Алик.
Для Ирки вся эта история была совершеннейшей новостью.
– Без меня она не выживет, очень уж она слабенькая…
Он хорошо помнил, что Ирка сильная, умеет ходить на руках по самому краю крыши, не боится ни начальств, ни властей… Поэтому он предполагал снять ей жилье у каких-то своих знакомых на Стейтен-Айленд и постепенно разобраться с глупой и безвыходной ситуацией, в которую попал. Про Иркину гордость, которая за эти годы не стала меньше, он забыл. За неделю до приезда Нинки, когда со знакомыми было уже обо всем договорено, Ирка ушла из Аликова дома, и как ей казалось, навсегда…
Ирина вышла из кафе и остановилась, не зная, куда себя девать. Вероятно, надо ехать домой – Тишорт скорее всего уже дома. К Аликову подъезду подкатил микроавтобус с кондиционером на крыше, встал прямо под табличкой “No standing any time” и выпустил из себя двух человек в униформе. Третий, с чемоданчиком, похожий на облысевшего Чарли Чаплина, семенил за ними.
“Труповозка, – догадалась Ирина. – Домой. Скорей домой”.
Фима встретил служащих похоронки. Надо было развести мизансцену, он кивнул Валентине:
– Подержи ее здесь.
Но Нинка никуда и не рвалась. Она сидела в белом драном кресле и загадочно бормотала что-то, поминая травку, Божью волю и Аликов характер…
В спальне закрылись два добрых молодца и их дробненький начальник. Жалко, что Алик уже не мог улыбнуться этому комическому трио.
Пока Фима договаривался с ними о подробностях церемонии – Чарли Чаплин был вроде администратора среди них, – добрые молодцы вынули из чемоданчика огромный черный мешок из толстого пластика, похожий на те мусорные, которыми по вечерам забиты улицы, и ловким трехтактным движением сунули Алика в пакет, как покупку в магазине.
– Стоп, стоп, – остановил ребят Фима. – Минутку подождите. Чтоб жена не видела…
Он вышел в мастерскую, вытащил покорную Нинку из кресла и унес на кухню. Там он легонько прижал ее к себе и, коснувшись небритой щекой ее длинной, покрытой тончайшими, как будто иглой наведенными, морщинами шеи, спросил:
– Ну, зайка, скажи, чего хочешь? Хочешь, за травкой сбегаю?
– Нет, курить я не хочу. Я бы еще выпила…
Он сжал ее запястье, подержал полминуты.
– Давай я тебе укольчик сделаю, а? Хороший укольчик. – Он прикидывал, какой бы коктейль ей сейчас запузырить, чтобы отключить на время.
Пока он стоял, загораживая широкой спиной дверь кухни, мимо нее похоронщики вынесли этот черный мешок – как выносят старую вещь, сломанную и ненужную.
Когда работяги открыли сзади люк багажника и сунули в него черный мешок, Ирина уже шла по направлению к метро.
Потом Фима сделал Нинке укол, она заснула, проспала до следующего утра на той самой оранжевой простыне, с которой унесли ее мужа. Странно, но она даже не задала вопроса, где он. Она только время от времени, пока не уснула, нежно улыбалась и говорила:
– Вы меня никогда не слушаете, я же говорила – он выздоровеет…
Народ шел и шел. Многие не знали о его смерти, забегали просто так. Знакомых у него было очень много и помимо тех, кто составлял русско-еврейскую колонию этого огромного города. Пришел какой-то итальянский певец, с которым Алик подружился когда-то в Риме. Пришел хозяин кафе и действительно принес чек. Либин по старой российской традиции собирал деньги. Пришли какие-то люди из Москвы, один с письмом для Алика, другой назвался его старым другом. Заходили какие-то уличные, никому не известные. Звонил телефон то из Парижа, то из Ярославля.
Отец Виктор, когда узнал о предсмертном крещении Алика, охнул, всплеснул руками, замотал головой, а потом сказал:
– На всё воля Божья…
Да и что мог сказать еще честный православный человек…
Утром, накануне похорон, он заехал за Ниной на своей древней машине, привез ее в пустой храм – службы в этот день не было – и совершил заочное отпевание почти заочно крещенного человека. Он пропел низким полнозвучным голосом лучшие из всех слов, которые были придуманы для этого случая. Нина сияла радостью и ангельской красотой, а Валентина, стоявшая позади нее со свечой, в снопе пыльного света, шедшего с потолочного окна, отпустила самой себе грех своей любви к чужому мужу.
Когда умолкли в пустом пыльном воздухе последние отголоски поющего голоса, Валентина взяла из рук отца Виктора квадратный сверток с землей, белую ленту с молитвой и маленькую бумажную иконку. В гроб положить.
Потом Валентина подхватила шаткую Нинку под руку и усадила в такси. Входя в желтую потрепанную тачку, Нинка склонила маленькую голову и двинула плечами так, как будто ехала в “роллс-ройсе” на прием в Букингемский дворец.
“Вот бедная птичка осталась на мою голову, – вздохнула Валентина. – Господи боже мой, неужели я ее столько лет ненавидела?..”
Содержатели похоронного дела Робинсы, в прошлом веке Рабиновичи, расшатали всем известную еврейскую несгибаемость до такой гуманной и коммерчески оправданной веротерпимости, что за последние пятьдесят лет превратились из “Еврейского погребального общества” просто в “Погребальный дом” с четырьмя отдельными залами, где происходили церемонии всех религиозных конфессий с самыми разнообразными причудами. Как раз на прошлой неделе мистеру Робинсу пришлось в одном из залов монтировать киноэкран, чтобы в присутствии не погребенного покойника, в соответствии с его завещанием, продемонстрировать родственникам и друзьям непосредственно перед похоронами трехчасовой кинофильм о его концертной деятельности. Он был чечеточник.
Сценарий Аликовых похорон был относительно скромным: никакой религиозной процедуры не заказали, отказались от надгробной плиты – а у Робинса была порядочная гранитная мастерская, – но оплатили место в еврейской, наиболее дорогой, части кладбища. Место, правда, было паршивое – возле самой стены и без прохода.
Церемония была назначена на три часа, и без десяти три холл перед залом был полон. Нынешний Робинс, четвертый владелец безотказного, не знающего экономического спада дела, красивый старик с левантийской внешностью, был в недоумении. Он полагал, что по характеру участников церемонии может сказать о своем клиенте всё. В этой психологической игре он видел одну из самых привлекательных сторон своей профессии. На этот раз он не только не смог сразу определить имущественного ценза клиента, но даже усомнился в его национальности, на которую, казалось бы, недвусмысленно указывало желание родственников похоронить его в еврейской части кладбища.
В толпе были негры, что крайне редко наблюдалось на еврейских похоронах. Правда, судя по одежде, это были люди артистического мира. Лицо одного старика показалось Робинсу знакомым: это был знаменитый саксофонист, фамилию которого он не мог вспомнить, но видел его то ли на обложках журналов, то ли по телевидению. Присутствовало также несколько южноамериканских индейцев. Среди белых гостей тоже была полная разноголосица: солидные еврейские пары, несколько великолепных англосаксов, видимо, богатые галерейщики, а также русские разных сортов – от вполне приличных до шаромыжников, к тому же подвыпивших. Робинс был американцем четвертого поколения, выходцем из России, но вместе с русским языком давно утратил романтическую привязанность к опасной стране и ее шальному народу.
“Странный клиент, – думал он. – Вероятно, музыкант”.
Он даже сделал крюк через служебное помещение, чтобы взглянуть на нестандартного покойника…
Ровно в три вошла Нинка. Все вдохнули – и выдохнули. Из-под черной шелковой шляпы, из-под широкой вуали падали на две стороны ее знаменитые волосы – золото с серебром. Поверх короткого черного платья было накинуто прозрачное туалевое пальто до пят, тоже черное, а туфли были на тот момент старомодными – на высокой платформе, с огромными гранеными каблуками.
Галерейщики застонали, и один шепнул на ухо другому:
– Лиф Вортса, лучшая идея в истории костюма всех времен и народов. Бесподобно. У Алика сногсшибательный вкус. Если бы он занимался костюмом, мы бы имели не довольно ординарную живопись, а гениального модельера.
– Изумительная модель, – оценил второй. – Я ее еще три года назад заметил.
– Старая, – с сожалением отозвался первый.
Фима, в голубой рубашке с симметричными пятнами пота под мышками, в сандалиях на босу ногу, вел Нину, испытывая противоречивые чувства острой жалости к бедняжке и глубокого отвращения к роли, которую он вынужден был играть, совершенно не имея склонности к самодеятельному театру. К тому же он в эти два дня успел нахлебаться говна по самые уши, пока добывал деньги на похороны.
Нина шла как “черная невеста”, как сати – индийская вдова, восходящая на погребальный костер. Со дня смерти Алика она помнила только две вещи: что он выздоровел и что его больше нет. Эти вещи не совместились бы в обычном человеческом сознании. Но в ее маленькой головке, празднично посаженной на длинной шее, что-то сместилось давным-давно, как от легкого поворота перестраивается узор в окошечке калейдоскопа, и всё улеглось новым порядком, нисколько не мешая одно другому, в успокоительной отдельности.
Слова “смерть”, “умер”, “похороны” постоянно эти дни звучали вокруг нее, но не проникали сквозь невидимый заслон, им просто не было места в том узоре, который сложился теперь в ее сознании.
Зачем-то ее привели сюда. Это было связано с Аликом. Алик любил, чтобы она была красиво одета. Она тщательно готовилась и продумывала свой наряд для него…
Она прошла через толпу людей, никого не узнавая. Левой рукой она прижимала к груди черную лакированную сумочку в виде трехслойного бублика, а в правой держала толстые стебли лилий, которые волочились своими бело-зелеными надменными головками за подолом ее прозрачного пальто.
Толпа перед ней расступалась, расступились и двери зала как раз в тот момент, когда она к ним подошла. Не замедлив шага, она вошла в зал. За ней расширяющимся треугольником следовали люди. Очень много людей с цветами, гораздо больше, чем обычно вмещал этот зал.
В торце стоял катафалк, а на нем большая белая коробка, по форме напоминающая футляр от одеколона. В коробке лежала прекрасно раскрашенная кукла в виде рыжеволосого подростка с маленьким лицом и маленькими усиками.
Господин с внешностью телевизионного диктора в годах уже было раскрыл рот, но Нинка прошла сквозь него. И хотя господин был явно недоволен, что экстравагантная вдова так бесцеремонно его отодвинула, он посторонился.
Она подняла вуаль, склонилась, пристально вглядываясь в этот плохой скульптурный портрет из странного неузнаваемого материала, и улыбнулась маленькой понимающей улыбкой.
“Вместо Алика”, – догадалась она.
Когда она подняла голову, то стоящие рядом галерейщики увидели, что от прямого пробора вниз по лицу идет черная тонко наведенная полоска, спускается на шею и исчезает в глубоком вырезе платья.
– Ну, класс, – одобрительно шепнул один галерейщик другому.
– Дамы и господа! – торжественно произнес официальный господин…
Это был точный и дословный перевод той кладбищенской галиматьи, которую обыкновенно произносит над фиктивной печью крематория толстая дама в провинциальном костюме из черного кримплена по другую сторону океана…
Гроб полагалось везти на катафалке, и делали это служители. Но участок находился в такой густонаселенной части кладбища, что пронести туда гроб можно было только на руках, да и то наступая на чужие могилы. Метрах в тридцати от места тропка резко оборвалась, оставив только проход в стопу шириной. Мужчины прошли вперед, выстроились цепочкой до вырытой заранее могилы, и белый челнок поплыл, передаваемый с рук на руки, до места своей последней стоянки. Он опасно и весело покачивался над головами. Августовское сильное солнце пригнало вдруг ветерок с океана. Нинка стояла на постаменте чужого памятника, рядом со свежей ямой, земля из которой была аккуратно сложена в жгуче-розовые корзины, а ветер тянул назад черную туаль ее наряда, и линяло-драгоценные волосы шевелились на ветру, как парус.
Ирина стояла в самой гуще толпы. С Аликом она попрощалась давным-давно. Теперь у нее была другая забота: она создавала отца своему ребенку. Собственно, ничего особенного ей и не пришлось делать, они сами нашли друг друга. Ей только пришлось вложить в это предприятие довольно много денег – невозвратных. Вот и эта могила, в нее тоже немало вложено: у девочки был любимый отец и будет его могила. Ирина усмехнулась: всё простила, но ничего не забыла… Я рожала свою дочку в больнице для бедных, а ты в это время миловался с Нинкой и, может, с этой второй телкой, Валентиной… Стоит на полшага сзади, но рядом, место свое знает… Интересно, она хитрая сволочь или просто баба хорошая?.. Какая я стала злая… Алик, Алик, всё могло быть по-другому. А не смогло… И хорошо!
В этой отдаленной части кладбища, у самой ограды, могильные плиты устремились вверх. Вокруг каждой, лежащей горизонтально, вздымалось несколько родственных, стоящих будто на одной ноге. Квадратные угловатые надписи, сохранившие в своей графике память о глиняной дощечке и тростниковой палочке, мешались с английскими, с нелепо готическим акцентом, выдававшим место рождения и в камне воплощенные вкусы давно ушедших людей.
Закрытый гроб стоял на соседней могиле, и подоспевший Робинс, почтивший своим присутствием необычного клиента, скомандовал дирижерским движением – опускать. Валентина что-то сказала Нинке, и та раскрыла свою круглую сумочку и вытащила из нее пакетик с землей. Она сыпала ее щепотками, как солят суп, и шевелила губами. Двое рабочих ждали наготове с лопатами.
– Погодите, погодите! – раздался вдруг вопль с главной дорожки.
За спинами людей шло какое-то неясное движение, толкотня, трудное и неловкое протискивание. Наконец, растолкав всех, появился пылающий Лева Готлиб. За ним следовало еще некоторое количество бородатых евреев, общим числом десять. Эта команда немного опоздала. Они вылезли из автобуса и заблудились, поскольку у каждого было свое собственное суждение о том, где должна находиться контора. Теперь, натягивая на ходу молитвенные покрывала и тфиллин, расталкивая мужчин и наступая на ноги женщинам, они возглашали первые слова:
– Да возвеличится и освятится Великое Имя Его в мире, который Он вновь создаст, когда Он воскресит мертвых и призовет их к вечной жизни…
Они запели и запричитали высокими печальными голосами, но едва ли кто, кроме Робинса, понимал смысл этих древних восклицаний…
– Откуда взялись эти древнеевреи? – спросила Валентина у Либина.
– Ты что, не видишь: Готлиб привел…
Они так и не узнали, что это реб Менаше позаботился о бедном “плененном ребенке”…
У Валентины возникло подозрение, что евреи слишком уж декоративные, не актеры ли из какого-нибудь маленького театрика с Брайтон-Бич.
“Надо у Алика спросить…” – и в ту же секунду поняла, что есть множество, великое множество вещей, спросить о которых ей теперь будет не у кого…
Они прочли поминальные молитвы, это было недолго. Потом передние стали отступать от могилы, задние просачивались вперед, гора цветов росла, была уже Нинке по пояс, а она всё укладывала каждый цветок отдельно, гладила, устраивала не то странный домик, не то мавзолей и улыбалась так, что теперь уже многие заметили, что она похожа на престарелую Офелию.
Потом все попятились прочь, и теперь евреи, стянув с себя белые покрывала и обнажив обуглившиеся на солнце черные костюмы, оказались в числе последних, но Нинка дождалась их и просила приехать в дом на поминки. Самый старый из них, лысый, с приклеенной пластырем прямо к голой голове кипе, подняв две сухие ручки на уровень лица и растопырив желтые пальцы, горестно сказал:
– Деточка! Когда евреи имеют покойника, они делают шиву – садятся наземь и имеют пост… Хотя выпить рюмку водки очень хорошо…
В дымящихся черных костюмах они влезли в микроавтобус, на котором синими буквами по белому было написано “Temple Zion”…
Тишорт и Джойка на похороны не поехали. Они остались дома. Тишорт занялась развеской. Вытащила старые картины, разгребла двухлетнюю пыль, соображала, как повесить. Разом, как глаза у котенка на седьмой день, у нее открылось зрение, она начала видеть Аликовы картины: какую – куда – эту – рядом – ту – выше – ту – убрать совсем… Ничего не надо было решать, надо было только смотреть, а они сами выстраивались по-умному и красиво…
“Пойду искусствоведение изучать”, – решила она немедленно, забыв, что на прошлой неделе уже посвятила себя Тибету.
Ей больше нравились картины среднего и маленького размера, но просилась в торец большая, и она позвала на подмогу Джойку с Людой, и они повесили трехметровое полотно, которое лет пять стояло лицом к стене. Там было очень, слишком уж много всего нарисовано: какой-то осенний праздник, с виноградом, грушами и гранатами, пляшущими женщинами и детьми, кувшины с вином, дальние горы и человек, входящий под навес…
Люда резала сыр и колбасу, крошила салаты, Джойка медлительно и сонно разносила по всем углам разовую посуду и русско-еврейскую якобы домашнюю еду, купленную в эмигрантском магазине: селедка, пирожки, студень, салат, называемый русскими “оливье”, а другими народами “русским”…
Приехали все сразу, большой толпой. Грузовой лифт поднял их снизу в три приема. Человек пятьдесят сели за общий стол, составленный из досок и всякого хлама, остальные, взявши рюмки и тарелки, как на американском пати, бродили из угла в угол. Удивительно, как при таком скоплении народа может возникнуть чувство пустоты.
Вашингтонские галерейщики тоже приехали. Они ходили по мастерской, как по выставочному залу, и разглядывали работы. Вид у них был недовольный, и минут через десять, когда народ еще и пить не начал, они поцеловали Нинке руку и исчезли.
Ирина смотрела на них без всякого удовольствия – ей еще предстояло с ними потягаться. Как бы там ни было, а денег-то Алику они не отдали и работ не вернули…
Файка оказалась тем знатоком обрядов, который всегда обнаруживается на свадьбе и на похоронах. Она налила рюмку водки, покрыла ее куском черного хлеба и поставила на тарелку:
– Алику.
Так было надо.
Застольно и подготовительно гудели – без громких разговоров, без всплесков отдельных голосов. Монотонное бормотание да звяканье стекла. Разливали водку.
В дверях стояла Тишорт, бледная, с опухшим ртом и розовыми ноздрями, в черной майке с желто-оранжевой надписью. В кармане, в потной руке, она давно уже держала эту пластмассовую коробочку, и теперь настало время, когда она должна была ее предъявить.
Нина сидела на подлокотнике белого кресла, а в кресле никого не было. Фима встал с поднятой рюмкой и собрался говорить.
– Послушайте все! – крикнула Тишорт.
Ирина замерла – чего угодно она могла ожидать от своей странной девочки, но только не публичного выступления.
– Послушайте! Алик просил вам вот что передать!
Все обернулись в ее сторону – она багровела на глазах, как индикаторная бумага при химической реакции, но тут же села на корточки и вставила кассету в магнитофон, который, как обычно, стоял на полу. И почти сразу же, почти без паузы, раздался ясный и довольно высокий голос Алика:
– Ребятки! Девчушки! Зайки мои!
Нинка вцепилась руками в подлокотник. Аликов голос продолжал:
– Я здесь, ребятки, с вами! Наливаем! Выпиваем и закусываем! Как всегда! Как обычно!
Каким простым и механическим способом он разрушил в одно мгновенье вековечную стену, бросил легкий камушек с того берега, покрытого нерастворимым туманом, непринужденно вышел на мгновенье из-под власти неодолимого закона, не прибегая ни к насильственным приемам магии, ни к помощи некромантов и медиумов, шатких столиков и вертлявых блюдечек… Просто протянул руку тем, кого любил…
– И прошу вас, пожалуйста, без всяких мудовых рыданий! Всё отлично! Своим чередом! О’кей? Да?
…Громко всхлипнула Джойка. Окаменела, слегка выпучив глаза, Нина. Женщины, пренебрегая Аликовой просьбой, дружно заплакали. И те из мужчин, кто мог себе это позволить, тоже. Достал из кармана клетчатую тряпочку, прикидывающуюся носовым платком, Фима.
Алик как будто их видел:
– Ну что вы такие прихуевшие, ребятки? Выпьем за меня! Ниночка, за меня! Поехали! Тишорт, детка, выруби на минутку магнитофон.
Потекла пауза. Тишорт нажала на кнопку не сразу, а лишь после того, как раздался снова голос Алика:
– Выпили?..
Она отмотала назад.
Выпили стоя и не чокаясь. Великая пустота, которая возникает после смерти, была заполнена обманным путем. Но – удивительное дело! – она была все-таки заполнена.