Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации Тяпугина Наталия
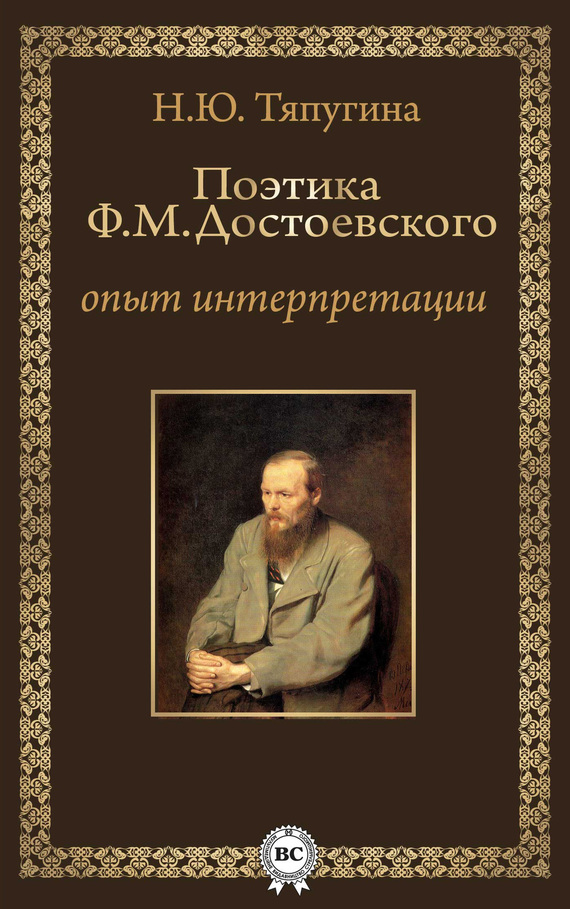
Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
Теоретическое вступление
Любому думающему о своем ремесле ученому-литературоведу, наверное, не раз приходило в голову то, в чем незадолго до смерти признался гениальный Ньютон. Он, приблизившийся в своих прозрениях к законам небесных тел, открывший тайны мироздания, сказал о себе так: «Я не знаю, что будут думать обо мне грядущие поколения; но я сам представляюсь себе ребенком, который на берегу океана нашел несколько выброшенных на сушу раковин, тогда как сам океан во всей своей неизмеримости и неисследимости по-прежнему стоит перед его взором, как великая неразгаданная тайна».[1]
Трудность в осмыслении художественного произведения заключается не только в том, что человечеством накоплено море литературы и надо учитывать огромное количество предшествующих попыток, извлекая из них золотые песчинки опыта. Дело еще в том, что каждое подлинно художественное произведение – это и есть тот самый океан смысла, чувств и ассоциаций, постичь который до конца вряд ли возможно.
Литературоведы имеют дело с живой словесной материей. Слово в пределах художественного произведения живет по своим законам: сохраняя энергию авторского гения, оно открыто для новых прочтений, которые, актуализируя те или иные смысловые пласты, исчерпать его просто не в силах. И в этом смысле художественное произведение – одна из величайших тайн, что, кстати, мы осознаем уже на стадии первичных читательских ощущений.
Здесь и возникает антиномия восприятия. Суть ее в следующем. Когда мы непосредственно переживаем художественное произведение, погружаясь в его мир, то не смеем анализировать, чтобы не отдалиться от живого чуда искусства, от того первичного, что, собственно, и рождает все последующие процессы. Иначе невозможен, неполноценен будет и анализ. А когда начинаем осмыслять и истолковывать произведение искусства, то должны по необходимости замещать впечатление анализом, но так, чтобы первичное ощущение, полученное впечатление по возможности присутствовало в нем «в снятом виде».
Как это сделать, теоретически растолковать несравненно проще, чем выполнить практически. До сих пор верны советы В. Г. Белинского, воплотить которые, увы, дано далеко не каждому: «Пережить творения поэта – значит переносить, перечувствовать в душе своей все богатство, всю глубину их содержания, переболеть их болезнями, перестрадать их скорбями, переблаженствовать их радостью, их торжеством, их надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи некоторое время под его исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком».[2]
При интерпретации художественного произведения литературовед решает задачу колоссальной сложности: у него, как и у писателя, предмет и средство познания совпадают: это слово. И надо их совместить таким образом, чтобы слово писателя и слово исследователя не диссонировали, а, вступая во взаимодействие, способствовали бы более продуктивному постижению текста и, одновременно, самосознанию читающего. Об этом убедительно писал А. Ф. Лосев, утверждая, что именно «в слове сознание достигает степени самосознания».[3]
Это в полной мере относится к слову литературоведа. Вот почему надо прислушаться к совету А. Ф. Лосева: «Чтобы понять творчество, надо понять сознание».[4] Доказательством продуктивности этой идеи служат работы самого ученого, соединяющие тонкий стилистический анализ с пониманием законов человеческой психики.
К. Г. Юнгу принадлежит одно любопытное сравнение. Он уподобил художественное произведение растению, которое, хоть и произрастает из почвы и, безусловно, зависит от нее, но являет собой самостоятельную сущность, которая сама по себе не имеет никакого отношения к строению почвы. Здесь важен результат. То есть при анализе художественного произведения следует не упускать из виду, что «продукт» творчества есть реализация всех исходных условий, а смысл художественного произведения, его специфическая природа покоятся только в нем самом. Что же касается мировоззренческих установок, замыслов художника и его намерений – это имеет значение лишь постольку и в той мере, поскольку и в какой мере позволяет постичь созданное.
Юнг понимал художественное произведение как «самосущность, которая употребляет человека и его личные обстоятельства просто в качестве питательной среды, распоряжается его силами в согласии с собственными законами и делает себя тем, чем само хочет стать».[5]
Об этом, кстати, свидетельствовали и писатели:
- Пока не требует поэта
- К священной жертве Аполлон,
- В заботах суетного света
- Он малодушно погружен;
- Молчит его святая лира;
- Душа вкушает хладный сон,
- И меж детей ничтожных мира,
- Быть может, всех ничтожней он.
- Но лишь божественный глагол
- До слуха чуткого коснется,
- Душа поэта встрепенется,
- Как пробудившийся орел…[6]
У Достоевского в его «Дневнике писателя» за 1876 год (в главе «Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности») вопрос вообще поставлен ребром: «… талант ли обладает человеком или человек своим талантом?» И делался категоричный вывод: «Мне кажется, сколько я ни следил и ни наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно редко человек способен совладать с своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант порабощает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот (да, именно в таком унизительном нередко виде) и унося его весьма на далекие расстояния от настоящей дороги».[7]
Как о реальной силе, как о загадочной энергии пишут о художественном творении и сами творцы, и исследователи их творчества. Причем, наиболее чуткие из них обращают внимание на то, что энергия эта рождается не только из самих слов, но и из связи между ними. П. А. Флоренский сравнил эту связь «с пучками бесчисленных волокон, бесчисленными волосками и паутинками, идущими от мысли не к ближайшим только, а ко многим, к большинству, ко всем прочим».[8]
Вот почему исследователю литературы следует помнить, что все нормы истолкования заключены в составе самого произведения и нельзя в угоду теории допускать внешних по отношению к смыслу комбинаций. Какую-нибудь остроумную и даже полезную вещь такая операция произведет, но жизнь, которую вдохнул в нее создатель, из такой работы уйдет.
Между тем литературная наука – это именно наука, которая постигает предмет в присущих ей формах мысли: она должна перевести язык искусства на язык логических понятий. Как это сделать, не нарушая живого образного единства и не сводя художественный образ только к логическим понятиям, – вопрос вопросов. И это не столько теоретическая, сколько реально-практическая антиномия, стоящая перед интерпретатором художественного произведения.[9]
Так и пробирается филолог между Сциллой живого искусства и Харибдой научной целесообразности. И риск велик. Об этом в одном из своих писем иронизировал В. С. Соловьев: «Главное дело в том, что эта «наука» не может достигнуть своей цели. Люди смотрят в микроскопы, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают природу!.. Вместо живой природы они целуются с ее мертвыми скелетами».
Между тем душа способна угадать многое, потому что именно к ней и апеллирует художник. Речь идет об особой энергии слова, что, проникая в душу читающего, вызывает могучий ответ в виде рождения мощного внутреннего импульса. Это можно назвать чудом искусства, и этим ограничиться. А можно попытаться понять механизм этого чуда. Ведь по сути происходит второе (или – очередное) воплощение идеи, которая изначально присутствовала в парадигме читающей личности, и с помощью искусства была лишь актуализирована. Произошла модификация смысла, оживление ассоциаций, которые изначально были заложены в глубине воспринимающей личности, а с помощью слова были не просто разбужены, но приведены в состояние плодотворного взаимодействия. Произошло взаимное оживление давно написанного слова и воспринимающей души, которая, пройдя через эстетическое потрясение, обрела какое-то новое качество.
Конечно, роль читающей личности исключительно важна, ведь именно в недрах ее души и рождается отзвук, который, будучи переведенным в специальную терминологию, есть не что иное, как интерпретация. В этом смысле интерпретация может быть приравнена к сотворчеству.
Но имеет ли границы наука о литературе, если сама литература безгранична? И может быть, прав О. Уайльд и не стоит себя мучить подобными вопросами, а раз и навсегда согласиться с тем, что «единственная характерная особенность прекрасной формы заключается в том, что всякий может вложить в нее, что ему вздумается и видеть в ней, что он пожелает»?[10]
Однако при всей заманчивости такой интерпретаторской вседозволенности, существует дистанция между автором и исследователем, и при общности объекта задачи у них всё-таки разные. Труд литературоведа по своей природе вторичен и напрямую связан с результатами труда писателя. Вот почему большая доля метафорического допущения есть в мысли А. А. Потебни о том, что «мы можем понимать поэтическое произведение настолько, насколько мы участвуем в его создании».[11] И главным критерием труда литературоведа остается точность и понимание своего места и границ возможностей. А точность исследования – это «совпадение вещи с самой собой», это умение «добраться, углубиться до творческого ядра личности, (в творческом ядре личность продолжает жить, то есть бессмертна)».[12]
Между тем художник по природе своей соединяет в своем деянии подвиг Пигмалиона, внося в косную материю жизни идеальное начало; подвиг Персея, облагораживая нравственную и социальную жизнь человечества, весьма далекую от идеала; и подвиг Орфея, увековечивая в искусстве индивидуальные явления быстротекущей жизни.
И все это настоящий художник не то чтобы должен, а просто не может не делать. Это априори ему как творческой личности дано. Вот почему уже на стадии замысла художник испытывает на себе какую-то силу, побуждающую его к поиску той единственной дороги, по которой он почему-то непременно должен пройти. Конечно, писатель активно ищет, думает, сравнивает, однако подчас и сам не может объяснить, почему отказался от одних замыслов и остановился именно на этом, единственном.
К примеру, до нас дошли варианты авторских замыслов романа «Идиот», где Мышкин предстает то гордецом («Последняя степень проявления гордости и эгоизма»); то скупым рыцарем; то забитым человеком, который тем не менее «кончает божественным поступком»; то героя отличает особенная жизненная сила, проявляющаяся в жажде наслаждения; то «при характере идиота – Яго», необыкновенный, скрытный, холодный, завистливый; наконец, «он – юродивый!», хотя свойственна ему «страсть безумная из безумных». Даже к концу октября 1867 года Мышкин видится Достоевскому демонической личностью, наподобие Ставрогина.
Вдруг в тетради № 11 появляется важная заметка: «Он – князь. Идиот. Все на мщении. Униженное существо. Князь – юродивый (он с детьми)». А в декабре 1867 года Достоевский окончательно понял, что должен «изобразить вполне прекрасного человека», что «князь – невинен!»[13]
Примечательный комментарий к этому ходу авторской мысли принадлежит К. В. Мочульскому: «Отвергнутые варианты представляются нам теперь менее художественными, чем окончательная редакция. Мы загипнотизированы реальностью воплощения, но перед взором творца теснились бесчисленные возможности судьбы героев, требуя воплощения и отстаивая свое право на жизнь. Он вовсе не выбирал ту из них, которая была художественнее, но она становилась художественной потому, что он ее выбирал. В этой свободе выбора тайна искусства».
То есть внутренние мотивы творчества возникают из такого глубокого источника, что не охватываются только сознанием, и потому не находятся целиком под его контролем. В мифологии эти силы называли манами, духами, демонами или богами.
И вот эти самые маны не только входят в плоть произведения, но и составляют то самое специфическое качество, которое затруднительнее всего выразить в конкретных терминах, и которое тем не менее являет собой то единственное и неповторимое, что делает произведение именно явлением искусства. Как остроумно заметил П. В. Палиевский, «искусство не строится на теориях и даже не строится вообще – оно вырастает индивидуальным способом». Вот почему и открывается оно только ключом, подобранным тем же самым – индивидуальным способом.
Очевидно, что одно из самых перспективных направлений в изучении творчества Достоевского, таящее неограниченные возможности углубления в предмет исследования, связано с поэтикой. И в самом деле, возникший в 1920-е годы в трудах М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Л. П. Гроссмана, В. Л. Комаровича, Б. М. Энгельгардта интерес к поэтике писателя был развит далее в работах Г. М. Фридлендера, А. В. Чичерина, Д. С. Лихачева. В последние годы поэтика в самых разных аспектах анализируется в трудах В. Н. Захарова, Г. К. Щенникова, Р. Г. Назирова, В. Е. Ветловской, Е. А. Иванчиковой и др.
Все пишущие о поэтике Достоевского признаются в том, что сфера эта поистине неисчерпаема и белых пятен в ее изучении еще очень много. И связано это в первую очередь с особой организацией художественных текстов писателя. Они отличаются насыщенностью смыслами, включающими в себя множество аспектов и вариантов. Поэтому так важно подобрать ключ к художественному миру Достоевского, найти путь к постижению эстетической целостности писательского универсума. При этом важно помнить: только сам материал диктует исследователю выбор приемов и характер интерпретации. Понятно, что каждый откликается в меру сил и возможностей. Вот почему талантливые работы по поэтике имеют свой почерк, у исследований И. Л. Волгина, Л. И. Сараскиной, В. А. Туниманова, В. Н. Топорова – свое лицо.
Как мы уже говорили, сверхзадача исследователя поэтики заключается в умении перевести художественную логику в логику научную с наименьшими потерями, без разрушения того впечатления, которое произведение вызвало при чтении. Понятно также, что сложность проблемы не уничтожает саму проблему, что надо искать пути и методы взаимодействия. Наша литературная наука стала искать их в 1920-е годы. Именно тогда состоялась плодотворная дискуссия о путях литературоведения, в которой приняли участие виднейшие наши ученые В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, Н. К. Пиксанов, А. Н. Веселовский, А. М. Евлахов и другие. Свою точку зрения на становление литературоведческой методологии высказали в этой полемике М. М. Бахтин и А. П. Скафтымов, совпав в главном: признавая важную роль «теоретического» подхода (Скафтымов), отводя определенные права «материальной поэтике» (Бахтин), оба ученых акцентировали внимание на едином требовании: прежде всего надо постигать эстетическую целостность самого художественного творения: «Эстетический анализ должен прежде всего вскрыть имманентный эстетическому объекту состав содержания, ни в чем не выходя за пределы этого объекта, – как он осуществляется творчеством и созерцанием».[14]
В наше время эти идеи аргументированно развил С. С. Аверинцев. Определяя характер содержательной образности литературы, в своих статьях о Мифе и Символе в Краткой литературной энциклопедии (т.4 и т.6), даже как бы отходя от темы и самого жанра энциклопедической статьи, высказал он мысль о существовании двух уровней литературоведческого анализа. Характеризуя символ как «знак, наделенный всей органичностью мифа и неисчерпаемой множественностью образа», С. С. Аверинцев пишет о той разновидности литературоведения, которая устремляется на обнаружение в символе «образа мира, в слове явленного». Ее он называет истолкованием, символологией, в отличие от описания текста, которое в полном соответствии со своими задачами стремится к последовательной формализации исследования по образцу точных наук. В то время как «истолкование, или символология, как раз и составляет внутри гуманитарных наук элемент гуманитарного в собственном смысле слова, т. е. вопрошающего о humanum, о человеческой сущности, не овеществляемой, но символически реализуемой в вещном». Отличие символологии от точных наук и в том числе – от описательного литературоведения носит принципиальный и содержательный характер – «ей не просто недостает «точности», но она ставит себе иные задачи».[15]
Если попытаться сейчас конкретизировать цели, стоящие перед нашей работой, то они будут звучать так: проследить эволюцию поэтики Ф. М. Достоевского от раннего творчества 1840-х годов («Господин Прохарчин», «Хозяйка») к годам 60-м («Идиот») и к позднему периоду («Дневник писателя»). Попытаться раскрыть важнейшие структурные принципы художественных (и не только) текстов Достоевского и через них – круг идей, волновавших писателя в тот или иной момент его жизни. Нам было важно выяснить, как реальная судьба писателя отразилась в структуре текста и каким образом сам текст корректировал и направлял жизнь художника по новому руслу.
Мы хотели также продолжить теоретико-методологический поиск, выводящий литературоведа в главной цели – честно читать (А. П. Скафтымов). Для этого мы попытались аккумулировать богатые возможности телеологического (teleos – цель) принципа, позволяющего проследить особенности воплощения авторской идеи в поэтике произведения, открывая путь от индивидуального к бытийному.
Исследование художественного материала побудило нас обратиться к тому, что называют философией и психологией творчества и что затрагивает фундаментальные проблемы родственных гуманитарных наук. Думается, что это продуктивно не только для науки о Достоевском, но и для литературоведения в целом. Ведь одна из главных задач, стоящих перед исследователями и преподавателями литературы заключается в том, чтобы, преодолев теоретическую механистичность, открыть в художественном тексте те опричинивающие факторы (А. П. Скафтымов), ту каузальность, что наполняет вечно современным смыслом любой эстетический феномен.
Глава I. Мифология Достоевского
Оговоримся сразу: миф не есть басня или небылица. Один из самых авторитетных исследователей философии имени и диалектики мифа А. Ф. Лосев, чьи взгляды на этот предмет представляются нам особенно убедительными, трактовал миф так: «Миф есть конкретнейшее и реальнейшее явление сущего, без всяких вычетов и оговорок, – когда оно предстоит как живая действительность»; «Как бы ни мыслил я мира и жизни, они всегда для меня – миф и имя, пусть миф и имя глубокие ли неглубокие, богатые или небогатые, приятные или ненавистные»; «Для меня миф – это выражение наиболее цельное и формулировка наиболее разносторонняя – того мира, который открывается людям и культуре, исповедующим ту или иную мифологию».[16]
Мы принимаем этот подход и применяем его в своей работе. Это дает нам возможность через конкретно-чувственное восприятие образа, через непосредственно-наивное переживание, которое всегда есть результат подлинно художественного, символико-мифологического по своей природе произведения, подойти к осознанию авторской «мифологии» – системы взглядов на жизнь, выраженных в образной форме. Так восприятие конкретных образов соединяется с анализом писательского мировоззрения. Ведь художник всегда создает в произведении собственную модель жизни, свой миф со своей устойчивой системой ценностей.[17] Исследование мифологии дает ключ к пониманию философии творчества, поскольку является самым полным и наглядным ее воплощением.
Но мифы – это еще и психические явления, в непосредственной форме фантазии выражающие суть человеческой души. Так мифологический метод оказывается тесно сопряженным с исследованием психологии творчества, ибо позволяет проследить, как архетип становится осознанным и воспринятым, какие изменения он претерпевает под влиянием той индивидуальности, на поверхности сознания которой он возникает. Именно здесь имеют хорошие шансы к разрешению такие сложные вопросы, как проблема художественной интуиции, вопрос о типе творчества, о поэтике конкретного произведения. Именно в этом контексте будут особенно продуктивно работать авторские признания о характере творческого мышления, вдохновения, о самом процессе творчества и т. д.
Поскольку мифологическое мышление есть интуитивно-непосредственное соприкосновение сознания и мира, то большой интерес для исследователей будет представлять вопрос о том, какая часть мифа актуализирована в произведении и в каком направлении произошла трансформация вечно повторяющихся мифопоэтических сюжетов и героев.
Известно, что существуют, так называемые, блуждающие образы и сюжеты, которые неизменно встречаются в искусстве разных времен и народов. Это универсальные мифологические фигуры, которые непременно содержат в себе «психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа» (Юнг). Иногда художник не отдает себе в том отчета, но чаще – он как бы намеренно приноравливается к существующей мифологеме, перебирая в памяти ее разные художественные лики. Ф. М. Достоевский был из числа последних. Задумывая «Идиота», писатель как всегда много читал, постоянно думал об образах мировой литературы и шире – мировой истории, несущих в жизнь заряд нравственности: Дон Кихот М. Сервантеса, Жан Вальжан В. Гюго, Пиквик Ч. Диккенса и, конечно, Евангелие, Христос. Не только Мышкин, но и другие герои романа «Идиот» зарождаются в сознании Достоевского в виде устойчивых типов: Настасья Филипповна поначалу условно именуется автором Миньоной, Геро, Ольгой Умецкой – героиней современной уголовной хроники.
Исследование мифопоэтики включает в себя элементы сравнительно-типологического подхода, позволяя установить, что роднит, а что отличает тот или иной универсальный архетип, созданный различными творцами в разное время. А поскольку художественное воплощение праобраза есть перевод его на язык современности, после чего образ как бы заново обретает возможность приобщиться к глубочайшим источникам жизни, то естественным образом возникает социальный аспект проблемы: почему именно в это время, в этом месте у этого у художника возникла потребность в актуализации именно этого архетипа?
Понятно, что творец в разной степени интуитивно или сознательно исполняет запрос времени. Он, как считали многие наши классики, по предназначению своему – воспитатель народного духа. И потому дает жизнь именно тем фигурам и идеям, потребность в которых более всего ощутима в обществе. Художник по природе своего дарования призван напоминать людям о вечном. А идеал – это и есть вечные, наиболее активные архетипы. Идеалы мифологичны по своей сути, ибо в них с наибольшей очевидностью отразились религиозные, нравственные и эстетические представления человеческого рода. В этом, кстати, и причина особой эмоциональной интенсивности мифологем: за голосом художника мы различаем хор всего человеческого сообщества. Ведь художник «возвышает личную судьбу до судьбы человечества и таким путем высвобождает в нас те спасительные силы, что извечно помогали человечеству избавляться от любых опасностей и превозмогать самую долгую ночь».[18]
Здесь уместно вспомнить о времени создания Достоевским его романа «Идиот» и об одном евангельском мифе, который некоторые исследователи считают центральным в романе.[19] Речь об Апокалипсисе, приметы которого горячо обсуждаются героями романа. Нравственный кризис, который охватил не только Россию, но и Европу в середине 1860-х годов, Достоевский считает по природе своей кризисом религиозным. Вера в Христа угасает, люди гоняются за химерами, они озлоблены и опустошены. Идет война всех против всех. Скоро вслед за всадником на вороном коне, «имеющим меру в руке своей», назначившим всему свою цену и подчинившим всё, даже человеческие души, деньгам, – появится «конь бледный, имя которому – смерть».
Достоевский воспринимал наступающее время как эпоху катастроф. Он вглядывался в мелкие факты, газетные сообщения, текущую хронику и с тревогой убеждался в том, что предчувствие его не обманывает. Мир устремился по катастрофическому пути. Для других это было не только неясно, но неприемлемо, казалось излишней болезненной фантазией писателя. И если взгляду обычного человека мир представлялся традиционно стабильным и незыблемым, то Достоевский своим творчеством заставлял читателей ощутить реальную опасность. Он указывал на самые уязвимые места пока благополучного человечества: процесс разрушения совершается в глубинах сознания.
Однако присутствие мифологического следа в романе отнюдь не означает утилитарного к нему (мифу) отношения. Вот почему неприемлемыми кажутся утверждения, типа: «Достоевский использует миф для того, чтобы морально осудить невиданные раньше и трудные для его понимания явления, и, если ему нужно, дополняет и перерабатывает миф».[20]
И не в том дело, что невольно поставлена под вопрос мудрость Достоевского. Речь о том, что мифогенная ситуация в романе – есть проявление самых глубинных, интуитивно угаданных движений души и времени. Как заметил Достоевский по поводу картины Якоби «Привал арестантов», «точность, верность элементарно необходимы, но они лишь материал для художественного произведения, орудие творчества». Поэтика Достоевского чужда рационалистичности. Писатель инстинктивно схватывал и осязал самую глубину человеческой природы, при этом он тонко чувствовал ту корреляцию психических свойств, в силу которой все основные черты человеческой личности законообразно связаны между собой и благодаря которой по одной из них можно угадать другие. Эта же художническая интуиция позволяла Достоевскому прозревать существование во времени вечных человеческих типов и ситуаций, внося при этом точные коррективы, возникающие чуть ли не у всех на глазах в течении бурного исторического потока. Что, на наш взгляд, и является еще одним подтверждением продуктивности мифологического способа в исследовании его творчества, ибо за современно-бытовым планом произведения позволяет узреть вечное и природное.
Достоевский всегда стремился к тесному общению со своим читателем. Всегда хотел «написать так оригинально и призывно», чтобы книгу не хотелось выпускать из рук.[21] Да, собственно, все им написанное и обладает такой исключительно заразительной силой. Многие, вслед за Н. А. Бердяевым, могли бы назвать писателя влекущей к себе духовной родиной. Через Достоевского приходили к философии, к аналитической психологии, к России, к Богу. Уже при жизни многие видели в нем пророка, учителя, человека, знающего ответы на самые сложные вопросы. Связь Достоевского со своим читателем – прошлым ли, настоящим или будущим – из разряда исключительных психологических явлений, ее можно назвать магией слов (Андрей Белый).
В каком же случае возможна такая преображающая встреча? – Только в одном: когда в произведениях писателя его читателями угадывается подлинная ценность, когда слово художника воспринимается глубочайшим центром читающей личности. Ничего не стоят бытовые подробности и натуралистическая конкретика, если писатель не может провидеть «суть вещей невидимых». Именно в этом видел Достоевский свою задачу и смысл реалистического искусства.
Творчество крупного художника – это актуализация вечных морально-нравственных ценностей, которые сложились в лоне национальной и – шире – мировой культуры. Б. А. Рыбаков это обосновывал так: «…исторические корни каждого мифологического образа лежат глубоко и… происходит не столько смена богов, сколько выдвижение рядом со старыми нового бога, но новым оказывается не само представление о божестве (оно уходит глубоко в века), а место этого божества, завоевание им главенствующего положения…»[22]
Итак, в недрах каждой личности заложены многочисленные напластования всех слоев прошедшей жизни, причем, жизни вообще, а не личной только. Эмоционально-подсознательная память удерживает в нас многое, но с разной степенью отчетливости. Наша память способна извлекать эту информацию из разного рода мифов, символов, своеобразных праобразов. Но для этого требуется эмоциональный толчок. Такого рода толчок и способен произвести писатель. Правда, не всякий, а только такой, который абсолютно родствен своему народу, то есть имеет ту же систему ценностей, что и его соплеменники. Конечно, он, как художник, должен обладать особым даром к пробуждению тех абсолютных ценностей, тех коренных, хотя, может быть, на данный момент и забытых норм, что составляют саму национальную природу человека.
Таков Достоевский. Он был убежден, что «люди успокаиваются не прогрессом ума и необходимости, а нравственным признанием высшей красоты, служащей идеалом для всех, перед которой все бы распростерлись и успокоились…» Одним словом, «нравственно только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы ее воплощаете».[23]
У Ф. М. Достоевского как писателя особенные отношения не только со своими читателями, но и со своими творениями. Можно сказать, он находился с ними в состоянии активного взаимодействия. Художественное произведение являлось для него и полигоном идей, и школой самовоспитания, и трибуной, и дневником, и средством к существованию. Между тем и само произведение, принимая на себя такую сложную миссию, приобретает в его глазах право на относительную автономию.[24] А поскольку всё в произведении – от автора и он сам, то с помощью творчества Достоевский получал возможность анализировать собственную жизнь изнутри и как бы со стороны одновременно.
Так творчество не просто входит в плоть жизни, но и составляет самую полную ее форму. В произведениях и с их помощью осуществляется постановка важнейших нравственных задач, которые в творчестве воплотить так же трудно, как и в жизни. И так же, как нельзя расстаться с самим собой, так же невозможно Достоевскому выйти за круг им написанного, а можно только пытаться этот круг расширить. Сохраняя обретенное, ставить перед собой все новые и новые человеческие и творческие задачи, которые и будут границей следующего концентрического круга.
Когда Достоевский утверждал, что он не живописец, а поэт, он интуитивно точно выражал тот приоритет духовности, что свойствен именно поэзии. Гегель объяснил это гениально точно: поэзия и есть то особенное искусство, «в котором одновременно искусство само начинает распадаться» и в котором оно обретает для философского познания точку перехода к религиозным представлениям как таковым, а также к прозе научного мышления.[25]
В романах Достоевского создается органический синтез определенного исторического времени и времени абсолютного, мифологического, в котором находят воплощение герои с резко индивидуальными и, одновременно, вечными чертами. Человек в его произведениях полностью не эмансипируется от социальных обстоятельств – он тесно вписан не только в конкретное время, но и в место, при этом главный акцент сделан на сложности человеческой психики, которая, сохраняя черты индивидуальной и национальной конкретики, несет в себе черты универсальные, общечеловеческие.
Такая структура повествования, как нам представляется, побуждает к использованию средств символики-мифологического метода, ибо дает возможность более глубокого погружения в художественный мир писателя, в его мотивацию индивидуальной и социальной природы. Ведь миф – это и определенное мировоззрение. С его помощью автору удается высказать самые важные свои мысли, касающиеся наиболее сущностных сторон жизнеустройства.
Как мировоззренческая категория, миф находится в определенных отношениях с религией. Что касается следов христианской мифологии в творчестве Достоевского, то они многочисленны и обширны.
Символико-мифологический метод оказывается продуктивным при анализе произведений Достоевского еще и потому, что сопрягает воедино все важнейшие черты его поэтики, наполняя вечные мифологемы живым, полнокровным, народным по сути содержанием. Этот метод органичен и для жанровой структуры, ибо давно и справедливо замечено, что «русский роман, начиная с Гоголя, ориентируется в глубинной сюжетной структуре на миф…»,[26] что «роман свободно втягивает в себя разнообразные семиотические единицы – от семантики слова до семантики сложнейших культурных символов – и превращает их игру в факт сюжета».[27]
Приступаем мы к своей задаче не без робости, ведь еще Юнг предупреждал: «В научном сознании такие явления, как символические идеи, ничего, кроме досады, не вызывают, поскольку их невозможно сформулировать так, чтобы удовлетворить требованиям интеллектуальной логики».[28] И понятно: не интеллекта (а точнее – не только интеллекта!) это дело, здесь присутствует такая категория, как бессознательное, а уж оно-то способно перепутать все карты.
Однако есть у нас и ободрение, которое, как говорится, дорогого стоит, – напутствие самого Достоевского. Писатель много размышлял над загадками природы, среди которых человек – первая и главная. Один из тайных даров человека – дар пророчества, который в полной мере проявляется в художественном творчестве и который в высшей степени был присущ самому Достоевскому, о чем мы еще будем писать в этой работе.
Так, думая над единичными и довольно невнятными попытками понять природу творчества, Достоевский пришел к неутешительному выводу: у темы этой – дурная репутация, и «заниматься даже… таким вопросом, даже только ставить его как тему исследования в наш век недостаточно… либерально и может компрометировать серьезного человека, тем более научного исследователя… Я осмелюсь выразить мнение, что подобные верования, оставленные без внимания и разъяснения, без расчистки, так сказать, поля, вредят делу преуспеяния человеческого и самой даже науке несравненно более, чем сама наука полагает».[29]
Так и в нашем случае. Все ощущают тайну искусства, неисчерпаемость художественного образа, непереводимость его в линейные логические категории, но… Хотя есть попытки, и весьма удачные.[30]
Как известно, апелляция к самому непосредственному, открыто-чувственному центру личности и есть качество подлинной художественности, которая только одна способна разбудить в человеке дремавшие доселе чувства и мысли. Именно художественный образ, с одной стороны, помещает человека в центр мироздания и укрупняет, делает значимо-осязаемыми все самые потаенные движения его души. А с другой стороны, соотнося мир человека с Космосом и другими полноправными сознаниями, именно хрупкая материя художественности наводит на мысль об уникальности, уязвимости, порой – беззащитности человека как носителя в себе самом сложного устроенного Космоса.
В этой связи вспоминается замечательное по вдохновенной поэтичности и глубокой мудрости описание звездного неба, принадлежащее Вяч. Иванову: «Вид звездного неба пробуждает в нас чувствования, несравнимые ни с какими другими впечатлениями мира на душу. Мгновенно и всецело овладевает это зрелище человеком и из предмета отчужденного созерцания неожиданно становится его непосредственным внутренним опытом, событием, совершающимся в нем самом… Никогда живее не ощущает человек всего вместе, как множественного единства и как разъединенного множества; никогда не сознает себя ярче и вместе с тем глуше, сиротливее перед лицом того заповедного ему и чужого, что не он, и вместе родственнее и слитнее с этим, от него отчужденным. Никогда макрокосм и микрокосм не утверждаются в более наглядном противоположении и в то же время в более ощутительном согласии и как бы созвучии».[31]
В ощущении, которое вызывает эта картина, отчетливо выделяются два момента: наедине с Космосом человек и мал, и велик одновременно. Он прозревает и свое сиротство, и глубинное родство с мирозданием. Он восхищен и потерян одновременно. При этом само звездное небо сколь непостижимо, столь и реально. Человек же, силясь воспринять непостижимое, открывает в самом себе, в самом глубинном центре своей личности, ту же самую, созвучную и соотносимую с Космосом загадочную Вселенную.
И если философы вслед за И. Кантом давно выстроили параллель между звездным небом над нами и нравственным чувством внутри нас, то создатели искусства и его исследователи давно почувствовали этот «эффект звездного неба» в природе художественного образа. С одной стороны, он неисчерпаем и беспределен в своем значении, он многосмыслен и до конца не выразим, а с другой стороны, мы совершенно четко ощущаем в художественном образе связь с нашими предками и грядущими потомками в способе мирочувствования и миропонимания. Образ являет собой новое, чужое и давно знакомое, родное. Он удивляет и объясняет. Он вроде бы нагляден и понятен, и в то же время обнаруживает такую неисчерпаемость и неуловимость, что почти помимо нашей воли побуждает доискиваться смысла.
Между тем сама связь человека с Космосом делает очевидной мысль о том, что все, появляющееся на поверхности человеческого сознания, рождается в соответствии с извечными законами бытия. А там, где к сознанию присоединяется бессознательное или даже оно вытесняет первое, будь то сон, творочество, любая форма фантазии, где ведущую роль играет воображение, – непременно можно различить «архаические остатки» (Фрейд), «ментальные формы, первобытные образы» (Юнг).
Как убедительно доказала аналитическая психология, воображение тоже имеет свои законы, и главный из них состоит в том, что в фантазии проявляются вечные инстинкты человека, которые воплощаются не иначе, как в символических образах. Источник фантазии и материал для создания образов у человека один – архетипические образы и идеи, то, что К. Г. Юнг называл плодом коллективного бессознательного.
Художественный образ только тогда и будет таковым, когда он символичен, то есть, когда он беспределен в своем значении, когда он открыт для новых поворотов мысли. При этом он несет в себе «переживания забытого и утерянного достояния народной души» (Вяч. Иванов). И это так важно для нас, что мы почти невольно откликаемся на фантазию художника, ибо слышим в ней голос человеческого рода. Об этом же свидетельствуют многочисленные высказывания людей творящих и рефлексирующих: «Познание есть воспоминание» (Платон); «Быть поэтом – значит позволить, чтобы за словами прозвучало Пра-слово» (Г. Гауптман); «Поэт – орган народного воспоминания» (Вяч. Иванов) и др.
Эта истина, впрочем, открыта была в далекой древности. А термин «archetypus» использовали еще Цицерон и Плиний. В юнгианской психологии это просто рабочее понятие. Во французской литературе Юбер, Мосс, Леви-Брюль и другие высказывали сходные идеи. Взгляд на архетипы как на «коллективные универсальные паттерны (модели) или мотивы, возникающие из коллективного бессознательного и являющиеся основным содержанием религий, мифологий, легенд и сказок»,[32] является абсолютно устоявшимся. Есть у нашей работы и еще один теоретический источник, а вернее – мощный генератор идей – это труды русских философов начала прошлого века, каждый из которых в своем ключе, но весьма плодотворно разрабатывал различные элементы символико-мифологической теории творчества (Л. П. Карсавин, С. Л. Франк, Б. П. Вышеславцев, А. Белый, Вяч. Иванов и др.).
Одному из них, С. Н. Булгакову, принадлежит мысль, которая, как нам кажется, точнее всего отражает представление Достоевского о сути художественного творчества: «Образы для художника имеют в своем роде такую же объективность и принудительность, как и миф. Образы владеют творческим самосознанием художника, он же должен овладеть ими в своем произведении, творчески закрепить их в имманентном мире. Его задача – надлежащим образом видеть и слышать, а затем воплотить увиденное и услышанное в образе… истинный художник связан величайшей художественной правдивостью, – он не должен ничего сочинять».[33]
Итак, теоретически, кажется, понятно, что творчество Достоевского – это особый способ восприятия мира, позволяющий интуитивно точно проникать во всё сущее. Обратимся же, наконец, к художественным текстам писателя.
Глава II. Ранний Достоевский
«Господин Прохарчин»: тайнопись художника
Известен совет В. Г. Белинского, данный им автору «Бедных людей»: «Оставайтесь верным (своему дару, явленному в первом романе – Н.Т.) и будете великим писателем». Достоевский от всей души почитал критика и, конечно же, желал быть «великим писателем». Но… не мог выполнить его рекомендации. Будучи гениальным художником, он обречен был идти собственным путем, рискуя вызвать недовольство и непонимание критиков и читателей.
П. В. Анненков эту ситуацию прокомментировал так: «Белинский ошибся: он встретил не новичка, а совсем уже сформировавшегося автора, обладающего потому и закоренелыми привычками работы…»[34]
Действительно, Достоевский скоро убедился в том, что для него «жить – значит сделать художественное произведение из самого себя».[35] А поскольку человек в каждую последующую минуту и равен и не равен себе, то результаты творчества, устремленного во внешний и, одновременно, во внутренний мир, с одной стороны, будут неизбежно отличаться преемственностью идей, ситуаций, образов; а с другой стороны, будут воистину уникальными знаками сиюминутного душевного строя художника. Произведения такого мастера становятся «стенографией большой личности, скорописью ее духа» (Пастернак).
И понятно, что начинающий автор занят напряженными поисками, так называемого, «личного» кода. В этом смысле раннее творчество Достоевского представляется нам совершенно заповедной сферой по насыщению текста разноуровневыми смыслами, по эксперименту над словом, по способам авторской тайнописи. И даже то, что не все в этих текстах равно художественно безупречно, делает их наиболее интересными для анализа. По ранним произведениям Достоевского можно многое понять в нем, как человеке и художнике. Остановимся на двух из них, наиболее характерных. Речь идет о рассказе «Господин Прохарчин» (1846) и повести «Хозяйка» (1847).
Произведения эти выбраны, конечно, не случайно. Эти ранние произведения Достоевского содержат следы колоссальных внутренних сдвигов, происшедших в сознании писателя; они являются своеобразными «следами» его творческого самосознания. Традиционный взгляд на эти произведения как неудачные почти укоренился в литературной науке, чему во многом способствовал безапелляционный отзыв-приговор Белинского, увидевшего в «Прохарчине» «не вдохновение, не свободное и наивное творчество», а «умничанье» и «претензии». Манеру этого «не поэтического создания» критик назвал «вычурною», «не понятною», хотя полностью отказывать в таланте начинающему литератору не стал.
Между тем, при некоторых очевидных авторских просчетах (растянутости, повторах, стилистической несбалансированности) стало ясно, что произведение являло собой незнакомую художественную систему. Традиционный ракурс не вместил стихийного обилия авторских откровений, которые, в силу разных причин, не могли поместиться в привычную логику изложения. А при ретроспективном взгляде на творчество Достоевского стало очевидно, что зародыши почти всех произведений Достоевского теснятся в его раннем периоде – первом концентрическом круге его духовной и творческой жизни. Им трудно взаимодействовать друг с другом. Они еще не могут быть развиты автором. Но они есть!
Начнем с «Господина Прохарчина». Проблемы призрачности реальной жизни и феномен сильной личности, способной сделать фантом реальностью, мечты о Золотом веке и идея Ротшильда, зачатки бесовщины и предчувствие мощных социальных катаклизмов, пророчество собственной трагической судьбы и отчаяние одиночества – всё сплелось в этом, в высшей степени странном рассказе Достоевского. Здесь нашел воплощение важнейший для Достоевского архетип человек (художник) и жизнь. Перенесенный после «Двойника» из явно патологической сферы в область пограничного бытия, которую в дальнейшем будет активно обживать писатель, в «Прохарчине» этот архетип занимает здесь центральное место.
Между тем Достоевский, в обычной своей манере, высказался о «Прохарчине» очень критично: рассказом своим, он, оказывается, «страдал все лето» и вообще им мало доволен». Очевидно, что шел напряженный поиск новой художественной манеры и, конечно, не все получалось. Интересно, что недостатки затронули лишь внешний слой произведения. А удалось то, что впервые было воплощено начинающим писателем, что можно назвать конструированием метапоэтического уровня текста, когда происходит такое сближение художника со своими творением, что в результате оно становится фактом не только литературы, но и важнейшей материальной вехой, ощутимым этапом личной жизни писателя.
Именно способы личного воплощения в слове и искал Достоевский. Уже в первых своих произведениях писатель столкнулся с проблемой экспликации, ибо отчетливо ощутил принципиальную невозможность полноценно выразить себя. И если в 40-е годы это еще можно связать с неокончившимся ученичеством, недостаточной художнической оснащенностью, – то этими обстоятельствами она никак не может быть объяснена, например, в «Идиоте», где устами князя Мышкина автор выскажется со всей определенностью: «Всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи».
Что же увидели в «Прохарчине» исследователи? В первую очередь, «страх человека перед необеспеченностью и потенциальный протест против жестокой действительности».[36] Были трактовки и пооригинальнее. Так, К. К. Истомин расценил «Господина Прохарчина» как первый концентрический круг самоанализа, который необходим был Достоевскому для осмысления успеха «Бедных людей» и неудачи «Двойника». Ученый считал, что в рассказе в зашифрованном виде дается переживание по поводу разрыва с «литературными друзьями» и ответ обидчикам: «И все судьи обращаются в подсудимых: одни грубо издеваются и потешаются над подсудимым… другие болезненно отдаются гипнозу подсудимого… третьи неудачно применяют к нему мерку «натуральной школы»… А гениальный подсудимый пророчески вещает им об их нравственной слепоте и духовной немощи».[37]
Символическое толкование рассказа позднее углубил В. Н. Топоров, который распознал в «Прохарчине» новое – архетипическое качество поэтики: апелляцию «к безличному существованию в «Man» затравленного Семена Ивановича, и к открытому миру бытию-сознанию (Dasein) его автора… И то, что Достоевский не просто описал, а «понял» Прохарчина, т. е. пережил его как свою собственную возможность, знаменует преодоление вещности, овеществленности и несвободы и новый прорыв к сфере бытия».[38]
Есть в трактовках «Прохарчина», как это и должно быть в истории символического текста, и другие смысловые развороты и глубины. О них – чуть позже. А пока остановимся на том, что можно назвать методикой чтения подобного рода текстов. В самом деле, как обнаружить все эти пласты и уровни? И здесь, рискуя впасть в банальность, выскажем мысль, на первый взгляд, очевидную: Достоевского надо читать несколько (много!) раз. Понятно, что любого писателя, чтобы понять глубже, надо не только читать, но и перечитывать. С Достоевским дело особое: речь идет не о факультативной рекомендации, а об обязательном условии. После первого чтения складывается одна, очень приблизительная и подчас – просто неверная версия смысла. Возвращение к тексту оказывается читательской задачей, при которой человек, осознавая, что он «снял» только первый слой, прошел мимо чего-то несомненно важного, возвращается к произведению вновь. Это почти бессознательная реакция на чтение Достоевского. И никогда читатель в этом не ошибётся. При повторном чтении открываются не просто детали и нюансы (хотя, конечно, и они тоже). Главным открытием становится объем смысла. Думается, что это свойство именно архетипического текста. Его можно назвать эффектом воронки: текст Достоевского, несомненно, обладает силой, не отпускающей от себя. Он увлекает в глубины, подчиняет своей логике, диктует особые правила обращения со словом.
Как не годятся для бушующей водной стихии правила плаванья по тихим заводям, так и чтение текстов Достоевского требует особых навыков. Вновь и вновь погружаясь в слово писателя, надо сохранять самообладание, не страшась его смысловых вихрей, а далее – как в бушующей воде: набраться смелости, затаить дыхание, занырнуть поглубже, там обнаружить какой-то неизвестный тебе мир, а затем, сохраняя впечатление от увиденного, начинать своё возвращение в мир привычный. Вы, конечно, рискуете не выбраться, но тот, кто останется на поверхности, рискует гораздо больше. Он никогда не узнает Достоевского.
Но вернемся к «Прохарчину». Время, когда писался рассказ (с апреля по август 1846 года) иначе, чем трагическим для писателя, не назовешь. Литературная неудача с «Двойником», почти обструкция вчерашних почитателей, знакомство с Петрашевским, предчувствие социальных потрясений, в которых, как считал Достоевский, ему не уцелеть. И при этом – мучения творческого порядка: как обрести свой голос, как воплотиться в слове? Вот почему авторское самочувствие этого периода можно выразить в одном слове – страх. «…Я страшно боюсь», – признается Ф. М. Достоевский в письме к брату. Ни в чем нет опоры. Реальный мир есть в высшей степени фантастическая материя. Вот почему в рассказе Достоевского фантастично, странно, ирреально все: и сюжет, и герой – скупой рыцарь, который умирает на сокровище в полной нищете. И чем реальней, тем невероятней. И подтверждение тому – конкретное происшествие с неким коллежским секретарем Никифором Бровкиным, умершим от нищеты на тюфяке, в котором им зашито было целое состояние. Известно, что история эта очень интересовала Достоевского.
Ощущение мистериальности жизни нашло закрепление в опорных словах-образах, несущих и хранящих тайну: угол (который снимает Семен Иванович в квартире Устиньи Федоровны); ширма (за которой стоит кровать героя); сундук (в котором остальные жильцы подозревают наличие некоего сокровища); наконец, тюфяк (в который было запрятано две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною).
Как остроумно заметил В. Н. Топоров, тайна Прохарчина запрятана по всем канонам народно-поэтического мышления, прямо, как смерть Кащея. Между тем она запрятана так глубоко, потому что только там ей и место. Ведь что такое тайна в символическом аспекте? Тайна есть власть сверхъестественного, это информация не для всех. Этой исключительностью она и завораживает. Но это и ноша для того, кто ее хранит. Вот почему человек чувствует себя счастливым, освобожденным, когда избавляется от непосильной ноши тайн или секретов. Но, с другой стороны, «способность подчинить себе это состояние напряжения дарует сознание устойчивого превосходства над другими людьми».[39] Именно это ощущение испытывает, например, художник, владеющий тайной искусства. Тайной, способной обессмертить его имя. Так бытовая тайна Прохарчина о запрятанном сокровище переплетается с тайной художника, который пока один знает, каким даром он владеет, какое сокровище в нем сокрыто.
Между тем само понятие сокровища имеет, кроме материального, традиционно мистическое значение. Это то, что Юнг называл сердцевиной человеческой личности, ее самостью (Selbst). Герой Достоевского хранит то, что фактически отличает его от других и что после его смерти должно его «восстановить в правах». Прохарчина оценили по достоинству, когда его не стало: «Когда же первый страх пропал, когда схватились за ум и узнали, что был такое покойник, то присмирели, притихнули все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича и даже как будто обиделись… Такой капитал! Этак натаскал человек!»[40]
Так страх за сокровище приобретает форму мистического ужаса перед небытием, перед бездной жизни, в которой человеку так трудно, страшно, одиноко. Не из этого ли ощущения выросли позднейшие герои Достоевского – Свидригайлов и Ставрогин, Версилов и Иван Карамазов? – Думается, что источник тут один.
Фантастический, чудный, странный – эти излюбленные авторские характеристики в изобилии встречаются в тексте рассказа. Вот пример только одной страницы: «Много в нем было фантастического»; «никто уже более не сомневался в фантастическом направлении головы Семена Ивановича», при встрече он был «чуден и странен», судьба героя может быть объяснена «прямо фантастическим его направлением» (I,315) и т. д.
Фантастическое в эстетической системе Достоевского – категория хорошо исследованная.[41] Она указывает на существование каких-то иных, не явных, но чрезвычайно важных уровней смысла.
Между тем понятие уровня относится к тому аспекту пространственной символики, который связан с моральной моделью, основывающейся на понятиях высоты и центра. Творения Достоевского устремлены к вершинам духа, но путь этот – через бездну греха и страданий. Достоевский, как никто другой, аккумулирует в своих произведениях вечные «pro» и «contra». И если главной мифологемой Достоевского считать борьбу сил Космоса и Хаоса, перенесенную в рамки единичной человеческой души,[42] а мы склонны с этим согласиться, то «Господин Прохарчин» – первое свидетельство сближения этих двух стихий. Здесь чувствуется некий страх художника перед жизнью, когда ощущает он в душе своей «клад», но опасается, что «прохарчится» – так и пройдет по жизни «скупым рыцарем», странным, нелепым, непонятым. Тонко это почувствовал Ин. Анненский, написавший: «И на самого Достоевского, как на его Прохарчина, напирала жизнь, требуя ответа и грозя пыткой в случае, если он не сумеет ответить: только у Прохарчина это были горячечные призраки… а для Достоевского это были творческие сны, преображавшие действительность, и эти сны требовали от него, которому они открылись, чтобы он воплотил их в слова».[43]
Конечно, в текстах такого рода заключено много тайн. Они становятся благодатной почвой для разного рода гипотез и предположений. Несомненно символическим содержанием насыщен эпизод пожара в Кривом переулке, который с изумительными подробностями переживал в своем сновидении Прохарчин. У него от этого пожара «начала гореть голова», вкупе с его углом, ширмой и тюфяком. А вместе с этим добром горело и много разного бедного люда. Кроме жалости и страха, растет в душе Прохарчина чувство вины, влекущее за собой возможность скорой расплаты. Во сне является ему мужик-извозчик, которому не заплатил он за работу, и теперь тот «начал подымать весь божий народ на Семена Ивановича (I,322). Герой явственно ощущает, как «вся разъяренная толпа обвивает его, подобно пестрому змею, давит, душит» (I, 322). И хотя Прохарчин проснулся, но страх его не прошел. Более того, он усугубляется тем, что в реальной жизни странную власть над ним вдруг заимел пьянчужка Зимовейкин, от которого за версту несет бесовщиной. Вот его портрет: «Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак и все платье были изорвано, причем вся левая сторона одеяния была, как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть грязью из какой-нибудь лужи. Под мышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нес продавать» (I,325).
Этот в высшей степени сомнительный тип обращается с Прохарчиным как власть имеющий, шантажирует его.
И когда Прохарчин «оторопел и пришел в смущение и робость», так что только и смог лишь слабо отбиться: «Ты, несчастный, ступай… ты, несчастный, вор ты! Слышишь, понимаешь? Туз ты, князь, тузовый ты человек! (I, 326), – Зимовейкин, войдя в раж, сохраняя присутствие духа и «с удовольствием озираясь кругом», по сути, приказал Прохарчину: «Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, все, братец ты мой, расскажу, понимаешь?» (I, 326). – И Семен Иванович «заробел». Перепугались и все присутствующие, потому что всем стало очевидно: «Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер», что «почва была благодатная», «посев был хорош» и все «сторицею взошло» (I, 327).
Что же именно «взошло»? Главная крамола, конечно, в осознании ненужности канцелярии, что в переводе с символической тайнописи, без сомнения, означает существующую государственность. Вот что осознал «в компании» Прохарчин: канцелярия «нужна, слышь ты, и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна» (I, 327).
И хотя Прохарчин по природе тихий человек, но его лояльность имеет пределы: «…я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..» (I,329)
Скорой и серьезной расплаты за то, что позволил себе усомниться в крепости, да и в самой надобности Казармы, боится Прохарчин. Боится, что донесут. Вот и Зимовейкин предчувствует, что для Прохарчина все кончится «сумочкой» – тюремной сумой то есть. И это несмотря на его «тишайшую» самохарактеристику: «… миловидный я, смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен». Он заранее оправдывает себя в глазах людей: «… он совсем бедный… такой несчастный, простой человек… глупый и темный, чтобы простили его добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили…» (I, 329)
Однако «дикий страх» Прохарчина имеет основание: пожар запылал, и от него уже загорелась голова. Так что остается только забиться в «углы» и схорониться на своем сокровище. Самым надежным спасением, откуда уже никакой экзекутор не достанет ни за вольнодумство, ни за буянство и пьянство, является смерть. Вот и отправился Прохарчин «по добрым делам и грехам» прямиком на тот свет, оставив своих квартирантов в полном замешательстве: «Обманул, надул!»
Очевидно, что Прохарчин во многом явился отражением авторского самочувствия и предчувствия. Много даже лексических совпадений в речах этого героя с личными показаниями Достоевского по делу петрашевцев. Ср.: «Я не люблю говорить громко и много даже с приятелями, которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слыву за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало. Половина моего времени занята работой, которая кормит меня; другая половина занята постоянно болезнию… Если я говорил, если я немного жаловался (а я жаловался так немного!), то неужели я вольнодумствовал?… (XVIII, 122)
Между тем, есть тайна и у автора «Прохарчина», в которой он признается лишь в 1873 году. В «Дневнике писателя» Достоевский откроет, что мог бы сделаться нечаевцем во дни своей юности.[44] И как участник кружка Спешнева он, несомненно, давал «обязательную подписку»: «Когда распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное открытое участие в восстании и драке».[45] То есть при определенном обороте событий он тоже вполне мог подвергаться шантажу. А может быть, подобно Прохарчину, и подвергался…
И хотя текст «подписки» был сформулирован только осенью 1848 года, но и с весны 1846 года, когда Достоевский начал посещать «пятницы» Петрашевского (и когда писался «Прохарчин»), было ясно, что сходки эти чреваты серьезными последствиями. Как доносил агент III отделения Липранди: «В собраниях происходили рассуждения о том, как возбуждать во всех классах народа негодование против правительства («канцелярий» – Н.Т.), как вооружать крестьян против помещиков, против начальников, как пользоваться фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разрушать всякие религиозные чувства, которые они сами из себя уже совершенно изгнали, проповедуя, что религия препятствует развитию человеческого ума, а потому и счастья…»[46]
Чем не пожар, чем не горящие головы?
«Толпа», «ватага» обступает Прохарчина во сне и наяву. Она и далее, в других произведениях Достоевского, будет наиболее зримым выражением душевной смуты, безотчетной внутренней тревоги, довлеющей автору и его героям. В «Прохарчине», однако, прочерчен выход из внутреннего беспокойства, дающий возможность преодоления страха и тревоги. Он обозначен символическим пунктиром: жизнь (с тайной) – пожар – проливной дождь – возвращение – исповедь и покаяние.
О символике пожара мы уже говорили, она будет еще не однажды использована автором в схожих ситуациях («Хозяйка»; «Бесы»). Сильный дождь в этой смысловой системе сходен с потопом, очищением. Он несет смысл наказания и завершения, а также возможность возрождения. Как помним, последнее, что попросил Прохарчин, приподнявшись со своего одра, это чтоб его добрые люди простили и в беде не оставили. Что и есть покаяние.
Получается, что вехи в своей прошлой, настоящей и будущей жизни зашифровал в этом рассказе Достоевский. Так воспринял он роковую предопределенность собственной судьбы, соединив ее с судьбой своего странного героя. И не ошибся.
Литература пророчески шла впереди его жизни, прокладывая ее основное русло. В этом раннем рассказе через Прохарчина и с его помощью Достоевский прожил – пережил! – драматичный момент и интуитивно точно нашел выход из жизненного лабиринта. И смерть героя, как ни парадоксально звучит, это в полной мере подтверждает, потому что в системе символических координат смерть является источником не только духовной жизни, но и источником возрождения материи. Она есть высшее освобождение, разрешение всех проблем. Именно так и подается этот акт в рассказе Достоевского: теперь, когда господин Прохарчин протянул ноги, даже если б сам экзекутор явился с арестом, или зашла бы попрошайка-салопница, «если б даже Семен Иванович тотчас получил двести рублей награждения или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях»(I, 332) (курсив мой – Н.Т.)
Лукавое «может быть» в данных обстоятельствах и содержит намек на метафизический характер разрешенного конфликта, который, как это свойственно архетипическому тексту, разворачивался сразу в нескольких уровнях.
«Хозяйка»: символика повести
В повести «Хозяйка» Достоевский продолжает углублять мифологему «Жизнь и человек», перенеся ее в новый контекст. «Человек» (художник) помещен в повести лицом к лицу с русским национальным миром. При этом степень личного присутствия автора в тексте увеличивается. Вот почему некоторые исследователи, не ощутившие личностного начала в «Прохарчине», легко выделили его в «Хозяйке».[47] Автором был выбран такой вариант третьеличной формы повествования, который позволил ему максимально тесно слиться со своим героем. Понятно, что сюжет в такого рода произведении является видимо-очевидной стороной событий, суммой тех знаковых обозначений, которые указывают лишь направление движения. И степень понимания, как это всегда у Достоевского, связана с уровнем осмысления. Одни в образе Катерины видят в «Хозяйке» «воплощение русской национальной стихии, околдованной мрачным наследием старины в лице Мурина. При этом, как полагают, остается некий налет декоративности на восприятии этих пришедших из русских сказок и песен героев.[48]
Думается, что не сказочная, а мифологическая основа у героев повести. Не метафора они, а символ. Вот почему более близкой к истине представляется утверждение о том, что в «Хозяйке» Достоевский «моделирует (в какой-то мере, разумеется, посредством символики) драму в национальном космосе… Герой – мечтатель в борьбе за «царь-девицу», символизирующую русскую национальную душу, греховную, психически неуравновешенную, но рвущуюся к добру, не в силах вырвать ее из объятий порочного фанатика старовера, демонического носителя зла, отождествленного со злобным колдуном, аналогичным тому, который в «Страшной мести» у Гоголя выступает всеобщим губителем, врагом православия».[49]
Оставляя пока без комментария психическую неуравновешенность русской души и ее тяготение к пороку, обратимся к анализу самой повести как к решающему свидетельству того, в каком направлении шло развитие поэтики Достоевского.
«Хозяйка» содержит «живые и светлые мысли» Достоевского о природе творчества, о тех мощных, полных драматизма внутренних импульсах, что испытывает художник, вынужденный учиться жить, как-то сосуществовать со своим талантом и, одновременно, адаптировать его и, конечно, себя самого к жизни. Повесть эта о смутных, узнанных душою сферах бытия, которые с тех пор уже не выйдут за пределы творческого кругозора Достоевского.
Это с энтузиазмом создававшееся произведение тоже вполне удачным не назовешь: эклектичен стиль, наивны приемы, неубедительны герои. Но есть в повести нечто, делающее ее, по сути, притчей о драме творческого духа. Повесть несомненно автобиографична, она несет следы потаенных переживаний ее автора и содержит все: и первые радостные открытия, и властную мощь творческого потенциала, подчиняющего себе всё существо художника от смутного предчувствия воплощения до трагедии невоплотимости.
К тому же «Хозяйка» представляет собой первый эмоциональный авторский комментарий к тем сферам жизни, которые, будучи гениально угаданными в повести, стали постоянным объектом постижения и воплощения во всем последующем творчестве Достоевского. Речь идет о тайне русского национального характера.
Наконец, в повести воспроизведен один мощный психический процесс, который Юнгом был назван индивидуацией. Это процесс обретения личностью своей самости, что является, по сути, древнейшим архетипом. Художник только тогда состоится, когда научится адекватно воспринимать и воплощать творческие импульсы. Нужны его целенаправленные усилия, нужна мощная работа души для того, чтобы интегрировать в себе все эти сигналы и сформировать себя как совершенный природный инструмент для выражения невыразимого.[50]
Работа над повестью шла на подъеме. Автор писал: «Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души». Он чувствовал, что находится на верном пути, что «Хозяйка» – это один из самостоятельных шагов, сделанных им по направлению к собственному «я». Вот почему, как сообщает он брату, труд идет «свежо, легко и успешно». Для его обозначения молодой писатель использует высокую лексику, мистические интонации: «… работа для Святого Искусства, работа святая, чистая, в простоте сердца, которое еще никогда так не дрожало и не двигалось у меня, как теперь перед всеми новыми образами, которые создаются в душе моей»… (XXVIII. Кн. 1. С. 139–140)
Так же увлечен своим творчеством и герой «Хозяйки» – молодой ученый, историк церкви Ордынов. Им владеет подлинная страсть. Этой глубокой, ненасытной, истощающей страстью становится для него наука.
Достоевский обозначает генезис исследовательского интереса Ордынова: «В нем было более бессознательного влечения, нежели логически отчетливой причины учиться и знать» (I, 339). Писатель в подробностях описывает характер занятий и душевное состояние своего героя: «… в уединенных занятиях его никогда, даже и теперь, не было порядка и определенной системы; теперь был только первый восторг, первый жар, первая горячка художника» (I, 339).
Как видим, для писателя очевидна единая природа творчества. Поэтому ученого Ордынова он называет художником и вкладывает в его сознание идею-страсть, показывая, как вызревает она в душе настоящего художника: «…в душе его уже мало-помалу восставал еще темный, неясный, но какой-то дивно-отрадный образ идеи, воплощенной в новую, просветленную форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу; он еще робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность ее: творчество уже сказывалось силам его; оно формировалось и крепло» (I,339).
Но чтобы творчество состоялось и полнокровно воплотилось в материалах жизни, будь то слово, мрамор или краски, – оно должно быть осознано и реализовано художником. Необходимость воплощения всегда волнует творческого человека. Жизнь представляется ему глубоким источником, питающим вдохновение и дающим разнообразный материал для него. Но жизнь – это и пугающая стихия, притягательность которой зиждется на одном, правда – важнейшем для художника моменте: только реальность выявляет подлинность всего на свете, в том числе и таланта.
Достоевский подчеркивает одиночество Ордынова, являющееся следствием его изначальной непохожести на других людей: «Еще в детских летах он прослыл чудаком и был непохож на товарищей. Родителей он не знал; от товарищей за свой странный, нелюдимый характер терпел он бесчеловечность и грубость, отчего сделался действительно нелюдим и угрюм и мало-помалу ударился в исключительность» (I, 339).
Исключительность его состояла в том, что жизнь «он читал в ярко раскрывшейся перед ним картине, как в книге между строк» (I,339). Сравним это с признаниями самого Достоевского: «Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать, кто они, как живут, чем занимаются и что их в данную минуту занимает». Достоевский полагает: художник, обладая особым инстинктом, предчувствует жизнь и открывает ее тайны «в тиши уединенных ночей». А среди людей, в потоке жизни он лишь с любопытством поверяет свои заключения. При этом именно жизнь подталкивает его к новым открытиям, и «ему как-то бессознательно хотелось втеснить как-нибудь и себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал или, лучше сказать, только верно предчувствовал инстинктом художника» (I, 340).
Но сделать это не так просто: слишком разнородны составляющие. Миру нет никакого дела до тонкой организации художника, мир слишком занят «светом, блеском, вихрем жизни». А художник, чтобы сохранить себя, должен сторониться его. Вот и герой «Хозяйки» Ордынов после первых любовных порывов, чувствует себя подавленным, а потом и просто – изношенным и испуганным: он ретируется в свое привычное одиночество, как в «отрадную норку».
Да, фантазия художника воспринимает и ассимилирует впечатления действительности, но интерпретирует житейские впечатления не в сторону практических выводов, а в область творческих фантазий, изолируясь от реальной действительности и сплетаясь с «продуктами» творческого воображения. Именно так в начале своего писательского пути ощущал процесс художественного творчества Достоевский.
Но вернемся к повести. Описание художнических ощущений героя здесь соединяется с событийной стороной жизни. В церкви произошла многозначительная встреча Ордынова с удивительной парой: злым стариком в народном одеянии и молодой, «чудно прекрасной» женщиной. Герой повести ощутил какую-то тайну в их облике, в речи, в поведении, да и в самом их союзе. Он последовал за ними, «пораженный, бичуемый каким-то неведомо радостным и упорным чувством» (I, 342). И хотя «в инстинкте его было бежать от всего, что могло развлечь, поразить и потрясти его во внешнем, не внутреннем, художественном мире его» (I, 343), – Ордынов все-таки устремляется на поиски незнакомки и не успокаивается до тех пор, пока не находит ее и не снимает комнату в ее жилище. Впрочем, до покоя здесь слишком далеко, потому что именно теперь он буквально сходит с ума от любви к ней и тайны, связывающей эту женщину с ее злобным спутником. Художник близок к «хозяйке» его сердца – почти рукой достать, он страстно любит и почти любим… но лЮбой его она никогда не будет…
Мир начинает являть Ордынову свою призрачность, почва уходит из-под ног, вопросов больше, чем ответов. А полученные ответы порождают поток новых загадок. «Он впадал в смятение, в тревогу; ему все хотелось узнать, кто таковы эти люди, зачем они здесь, зачем он сам в этой комнате; и догадывался, что забрел в какой-то темный, злодейский притон, будучи увлечен чем-то могучим, но неведомым, не рассмотрев прежде, кто и каковы жильцы и кто именно его хозяева…» (I, 356)
И опять, как и в «Господине Прохарчине», как позднее и в других произведениях («Преступление и наказание», «Идиот» и др.), Достоевский прибегает к форме сноведения, чтобы в емкой символико-метафорической форме высветить самые затемнённые уголки сознания своего героя. Ведь художественное изображение сна – это и поле творческой фантазии, и тончайшая психологическая мотивировка событийной стороны жизни, и воплощение самых дальних, самых неясных пока предчувствий. Но в любом случае помещенное в контекст образа, сновидение выявляет всю потаенную глубину личности, соединившую в себе прошлое, настоящее и будущее.
Художественный потенциал этого приема очевиден. Вот почему, кстати, в «Идиоте» Достоевский не только использует, но и психологически мотивирует его: «Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее и вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце; вам как будто сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами…»
В ранних произведениях Достоевский еще только ищет приемы и способы воплотить свои ощущения и переживания, максимально соединясь с героями, которые уже не оставят его писательское воображение. В первом концентрическом круге его творчества оказалось много так называемых «блуждающих образов», которые были столь важны для писателя, что ему пришлось обращаться к ним вновь и вновь. Так, в Катерине и Мурине чувствуется потенциал, который реализуют в «Идиоте» образы Рогожина и Настасьи Филипповны.
Совпадения настолько существенны, что явно случайными быть просто не могут. Обратим внимание лишь на некоторые. Катерина поразила Ордынова, как и Настасья Филлиповна князя Мышкина, «невыносимой, неслыханной красотой». Про внешность Катерины даже будет сказано «страшная красота». Отношения ее с Муриным так же, как и отношения Настасьи Филипповны с Рогожиным, полны драматизма, и даже более того – протекают буквально на острие ножа:
«– Катерина, не ходи, не губи себя! Он сумасшедший! – шептал Ордынов, дрожа за нее.
– Катерина! – раздался голос за перегородкой.
– Что ж? Зарежет небось? – отвечала, смеясь, Катерина. – Доброй ночи тебе, сердце мое ненаглядное, голубчик горячий мой, братец родной!» (I, 383)
Чувства Катерины к Ордынову тоже лишены линейной определенности: они психологически сложны и запутанны. Все-таки в итоге не за ним идет ее «сердце послушное». И в решающую минуту объяснения она посмотрела на Ордынова «с такой насмешкой, так презрительно-нагло, что он едва устоял на ногах…» (I, 393)
Героиня красива и загадочна. Связь ее с Муриным, человеком старинной закваски, не на разуме зиждется, и потому ни понять, ни разорвать этот союз Ордынов не в силах. Мурин хитер, он может поколебать слабого Ордынова своей простонародной логикой:
"Я уж тебе толковал, – сказал Мурин, стиснув брови, – она полоумная! Отчего и как помешалась… Зачем тебе знать? Только мне она и такая – родная! Возлюбил я ее больше жизни моей и никому не отдам» (I, 401).
Рогожинская стихия чувств бушует в этой груди, соединяя самые неуемные и исступленные переживания.
Есть в повести и еще одна черта, роднящая «Хозяйку» и «Идиота» – это одно из редких в творчестве Достоевского описание природы, создающее ощущение тоскли и сиротства на фоне почти космической пустыни. Так об Ордынове сказано: «Долго и бессознательно бродил он по улицам, по людным и безлюдным переулкам и наконец зашел в глушь, где уже не было города и где расстилалось пожелтевшее поле: он очнулся, когда мертвая тишина поразила его новым, давно неведомым ему впечатлением… На краю синих небес чернелись леса, а с противоположной стороны находили мутные снежные облака, как будто гоня перед собою стаю перелетных птиц, без крика, одна за другою, пробиравшихся по небу. Все было тихо и как-то торжественно грустно, полно какого-то замиравшего, притаившегося ожидания… Ордынов пошел было дальше и дальше, но пустыня только тяготила его» (I,344).
Это же ощущение обособленности, покинутости возникает и при описании природы князем Мышкиным. Как помним, в Швейцарии его «мучило… то, что всему этому он совсем чужой».
Можно предположить в этом личностную авторскую подоплеку,[51] некий автобиографизм переживания, однако несомненно одно: писатель наделил качеством обособленности от природы героев тонкой духовной организации. Ему важно подчеркнуть мысль: перед солнцем, небом или пустыней не ощущают блаженства личности значительные, не поддающиеся растворению в природном великолепии. Природа их потому-то и мучит, что они одержимы прямо противоположной целью – найти, выразить, сохранить себя (в каждом случае, разумеется по-разному).
Не углубляясь дальше в параллели между «Хозяйкой» и «Идиотом», поскольку у нас сейчас другая задача, подчеркнем лишь следующее: процесс самосознания – процесс болезненный, а главное – непредсказуемый. Овладеть своим предназначением труднее всего. Молодой Достоевский это знал доподлинно.
Ордынову не открылась тайна любви, а значит и тайна жизни. Его творчество потеряло всякий смысл. «Он стал задумчив, раздражителен, впечатлительность его приняла направление болезненное, и он неприметно впадал в злую, очерствелую ипохондрию… Будущее было для него заперто… Он даже не думал о будущем. Иногда прежняя горячка к науке, прежний жар, прежние образы, им самим созданные, ярко вставали перед ним из прошлого, но они только давили, душили его энергию. Мысль не переходила в дело. Сознание остановилось. Казалось, все эти образы нарочно вырастали гигантами в его представлениях, чтоб смеяться над бессилием его, их же творца» (I, 403).
Так кто же такой художник, по Достоевскому? – Носитель мощной, не зависящей от него силы, которая сознательному управлению не всегда поддается. Но она может стать продуктивной, если художник управится с ней, если ему удастся привести ее в гармонию с жизнью. Между тем это задача титаническая, ибо жизнь, а тем более народная среда – тоже стихийна. В ней явлено все: любовь и злоба, удаль и коварство, красота и уродство. Понять ее так же трудно, как понять самого себя. Тем более, что диапазон противоречий особенно русской жизни уж слишком велик. Это не размеренный быт немецкой пары, Шписа и его дочери Тинхен, который лишь контрастно оттеняет стихийность русской жизни.
Ордынова, как и самого Достоевского, неудержимо влечет народная почва, он чувствует в ней глубокую надобность. Возлюбив и возмечтав, пожелал он понять Россию, но – отступил, ибо понял, что (пока) еще не дано. От соприкосновения со стихией народного духа он чуть жив остался.
Глубоко символична эта маленькая ранняя повесть Достоевского о «хозяйке» его сердца – прекрасной, загадочной и щедрой России. Потому-то и возможно усмотреть в этом произведении разного рода символы, что зачерпнул в ней Достоевский глубоко, из тех недр, которые в творчестве обретают свойство мифа, своего рода художественного тайновиденья. И пусть не все из зачерпнутого удалось донести до читателя, пусть не до конца покорился начинающему писателю «язык богов», как называл мифы Вяч. Иванов, – родство с ним уже ощутимо.
Символичен образ художника, чья фамилия своим тюркским корнем намекает на его «восточные» качества. Высмеивая немца, который зафиксировал на память в своей дорожной книжке: «В проезд через город Нюрнберг не забыть жениться», – Достоевский в записной тетради отметил: «У немца, конечно, прежде всего в голове была какая-нибудь система, и он не почувствовал безобразия факта из благодарности к ней, но действительно нельзя не сознаться, что и системы-то в наших поступках иногда никакой не бывает, а так как-то делается, точно по какому-то предопределению восточному» (курсив мой – Н.Т.).
Именно так – импульсивно, «пораженный, бичуемый каким-то неведомо сладостным и упорным чувством», и действует Ордынов в повести.
Символична и антитеза Мурин – Катерина, Шпис – Тинхен. В доме немцев жизнь Ордынова текла «однообразно», «покойно». Все было рассчитано, и «немец был без особого норова: хорошенькая Тинхен, не трогая нравственности, была всем чем угодно». А в случае с Муриным и Катериной Ордынов едва остался жив, перенеся мощную духовную катастрофу.
Главная же символика заключается в самой идее повести, обращенной к тайне творчества. Почему изначально одаренный художник, увлеченный национальной стихией и стремящийся овладеть ею, терпит крах? Ведь был же талант, и талант истинный! Ведь «мыслил он не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созвездиями…»(I, 356) – И ведь все шло к тому, что «в нем осуществилась бы целая, оригинальная, самобытная идея» (I, 403).
В чем же причина его творческой несостоятельности? Что может уничтожить талантливого художника? Как понимаем, для начинающего писателя, так сложно вступившего на стезю искусства, это вопросы – из разряда жизненно важных. Итак: запас ли дарования был недостаточен или замахнулся он на «предмет» не по силам, или личные его качества, его отшельничество помешали ему состояться? – Прямых ответов, как это и должно в подлинно художественном тексте, нет. Повесть обрывается почти на полуслове. И тем не менее.
Ордынову не хватило силы, то есть все-таки не хватило дарования, чтобы не отступаться от того, к чему он чувствовал сильное тяготение. Страх за свою жизнь, разочарование от несостоявшейся любви, стыд перед счастливым соперником – вся эта житейская суета, опутав Ордынова цепким коконом, лишила творческого полета и веры в себя, обескровила его самобытность.
В том, что художник не состоялся, виноват сам художник. Так судьба Ордынова оказалась серьезным литературным предупреждением для реального писателя Достоевского.
Между тем «Хозяйка» – это шаг по своей дороге. Здесь Достоевский погружается в такие пределы, где бьют мощные, прозрачные родники национальной духовности и где ожидают его главные обретения и потери. О том, что риск был оправданным, свидетельствует сам феномен Достоевского, о котором в письме к Н. Н. Страхову другой гениальный художник, Л. Н. Толстой, написал так: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что же! результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнешь, тем общее всем, знакомее и роднее»[52] (курсив мой – Н.Т.).
Глава III. Поэтика романа «Идиот»
«… И поле битвы – сердца людей»
В. В. Розанов назвал Достоевского «всадником в пустыне, с одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадает его стрела. Достоевский дорог человеку… Достоевский живет в нас».[53] И это безусловно верно. Жизненный путь этого русского писателя уникален не только по творческим результатам, обессмертившим его имя, но и по выработанному им руслу духовных поисков, по исключительно высокой цене, заплаченной за прозрение.
Судьба Достоевского удивительна еще и потому, что его духовные искания в своих существеннейших чертах отражают развитие русской философской и общественной мысли на протяжении второй половины XIX века и во многом определяют ее направление в последующих веках, причем не только в России.
Катастрофичность судьбы Достоевского сродни российским историческим катаклизмам. Что же давало силы этому русскому мученику начинать новый путь? Какие аргументы зрели в его душе, когда оказывался он в очередном водовороте идей и мнений? Как осуществлялся их отбор в ситуации абсолютной открытости всем самым острым вопросам жизни? Как складывалась копилка бесценного опыта, созидался запас незаемной мудрости, где все векселя оплачены по самому высокому счету? – Вот об этом и хочется подумать над страницами его произведений, когда на очередном вираже истории человек (в который уже раз!)
- Безверием палим и иссушен,
- Невыносимое он днесь выносит…
- И сознает свою погибель он,
- И жаждет веры – но о ней не просит…[54]
Этой почти мистической неизбывности тютчевского стиха противостоит сама логика жизни Достоевского, сердцевиной которой были и жажда, и активный поиск веры.
Еще не выветрилось из общественного мнения живое сочувствие «бедным людям», еще не исчез интерес к петербургским мечтателям, а Достоевский уже проходит суровую экспертизу на подлинность явленного им гуманизма в кружке Петрашевского. «Неистовый Виссарион» блистательно доказал ему равенство между логикой жизни и логикой бунта. И сделал это столь убедительно, что не только за один вечер обратил писателя в новую – социалистическую – веру, но и навечно отпечатал в его сознании саму систему доказательств, их дерзкую интонацию. Отныне Достоевский обречен об этом думать всегда, вечно искать аргументы pro u contra. Заметим, что один из самых мощных художественных аргументов – его роман «Идиот».
Последовавшее наказание своей репрессивной мощью столь наглядно превосходило мыслительную дерзость молодого литератора, что могло не просто потрясти – сломать человека, и уж во всяком случае доказательно убедить в преступности государственной системы, превратив ее очередную жертву в мученика Идеи. Личная обида за испорченную жизнь должна была дополнительно аргументировать сакраментальный тезис о необходимости социального переустройства.
Судьба предоставила Достоевскому уникальную возможность лично удостовериться в том, насколько близка (или наоборот – чужда) народу – самому что ни на есть реальному, а не философическому народу – идея социализма, равно как и все прочие идеи, занимавшие русскую интеллигенцию.
И писатель этот мучительный дар судьбы принял хоть и с горечью, но с благодарностью. Многое открылось ему в остроге, а главное – стал ближе и понятней сам народ. Это знание до конца дней сообщало его произведениям верный тон, здравые оценки и саму интонацию человека, право имеющего. Право говорить от имени народа Достоевский выкупил многолетним совместным страданием с ним и осознанной необходимостью посредничества между «идейными» людьми, которые в полемическом запале упускают из виду «почву», то есть саму народную жизнь, во имя которой будто бы все и затевается. Так уж повелось на Руси: Слово, чтобы быть услышанным, должно быть оплачено по самому большому счету. И Достоевский, принявший на веру аргументы Белинского и получивший уникальную возможность проверить их на собственной жизни, оказался по воле судьбы третейским судьей в борьбе влиятельнейших идей – христианской и социалистической.
Писатель документально точно установил: человек – существо гораздо более сложное, даже загадочное, чем его трактуют социалисты. Даже в абсолютно одинаковых условиях (острог – уникальная по своей циничности лаборатория!) люди со всей определенностью выявляют все индивидуальные особенности своей человеческой натуры, которая не может быть охвачена и объяснена лишь обстоятельствами внешнего порядка.
В «Записках из Мертвого дома» Достоевский засвидетельствовал, что прекрасным, сильным, страшным или нищим человек существует от природы. «Я говорю, «от природы» и особенно напираю на это выражение, – пишет Достоевский, обосновывая самое, пожалуй, загадочное, «природное» существование нищего люда. – Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смирные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими… Всякий почин, всякая инициатива – для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтоб ничего не начинать самим и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудке… Я заметил, что такие личности водятся и не в одном народе, а во всех обществах, сословиях, партиях, журналах и ассоциациях»(III,258).
А если все люди от рождения разные, то никакая общая мерка не может быть человеку впору. И потому не может быть одинакового наказания за одни и те же преступления. Ведь «человека образованного, с развитой совестью, с сознанием, сердцем» «одна боль собственного его сердца прежде всяких наказаний убьет… своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не подумает ни разу о совершенном им убийстве, во всю каторгу»(III, 250).
Достоевский в заточении с изумлением обнаружил, что даже там есть натуры до того прекрасные от природы, до того награжденные Богом, что одна мысль, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможною (Алей, например). Но есть люди сильного, железного характера и воли, которые, презирая всякие муки и наказания, не боялись ничего на свете (таков беглый солдат Орлов). Иногда человек подобен дикому зверю, «и вы, стоя возле его и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо» (Газин).
Одним словом, Достоевский смог воочию убедиться, что нельзя подобрать одного ключа для всех, даже если ключ этот – от светлого будущего. Просто невозможно. Человеческая натура столь сложна и прихотлива, что, кроме всего прочего, всегда найдется господин «с ретроградной физиономией» и из одного своего глупого хотения, в угоду собственным дурацким «почесываниям» откажется следовать за всеми. И куда его девать прикажете? К слову сказать, и сам массовый «загон» в счастье – занятие для загонщика небезопасное – уж очень «широк» человек!
Находясь несколько лет бок о бок с самым разным людом, Достоевский со всей определенностью уловил существующие отношения и настроения, ощутил «идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека»(XXI, 17). Идея Христа, например.
Именно этим идеям, бессознательным, но истинно переживаемым в народе, отводил Достоевский главное место, считая, «чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и сложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее». И к числу таких чисто русских идей Достоевский относил то, что преступление в народе называют несчастием, а самих преступников – несчастными. Писателю однажды самому, как несчастному, была подана сердобольная копеечка. Достоевский в течение всей жизни думал над этим и другими проявлениями гуманности и соборности русского народа, и пришел к выводу, что это и есть самые настоящие принципы христианского мироустройства, из которого не изгоняется ни одна заблудшая овца, где обходятся без предварительной кровавой сортировки на достойных и недостойных.
Между тем эта гуманность по отношению к оступившимся со стороны простых людей – «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь на нашем месте, может, и хуже бы сделали» – отнюдь не провоцируют вседозволенности, ибо христианский регулятор действует и в обратном направлении: никто из преступников не считал себя правым в душе своей! И поэтому нельзя излишней мягкостью расшатывать веру в закон и народную правду: «…строгим наказанием, острогом, каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили»(XXI, 19).
И это не было игрой ума. Это был скорбный путь к истине, добытой писателем таким уникальным путем. В заключении «Записок из Мертвого дома» есть такие пронзительные строчки: «Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни»(III, 467).
Друг писателя, поэт А. Н. Майков в своей речи на заседании Славянского благотворительного общества, посвященной памяти Достоевского, 14 февраля 1881 года вспомнил такой знаменательный эпизод: один старый приятель писателя после возвращения его с каторги посочувствовал ему, посетовав на несправедливость наказания. «Нет, – коротко, как всегда, обрезывает Достоевский, – нет, справедливое. Нас бы осудил народ… Это я почувствовал там только, в каторге. И почем вы знаете, – может быть, там наверху, то есть Самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием…»
На каторге вся предыдущая жизнь была оценена Достоевским как ошибка и падение, именно здесь возродилась его вера в человека, в Бога, в Россию и свое предназначение. Достоевский не озлобился, ища виновников несчастья вовне, а заглянул в себя и обнаружил путаницу из недодуманных мыслей и дерзких планов, замешанных на безмерной гордыне. Он с ужасом отпрянул от этой бездны, возблагодарив судьбу за возможность осознать это. Так боль была избыта, преодолена бесценным духовным опытом, так писатель стал недосягаем для своих палачей, обидчиков и просто оппонентов.
Размышляя над этапами духовной жизни Достоевского, трудно отделаться от мысли, что судьба вела его след в след по тропе гоголевских прозрений. В самом деле, он будто жизнью своей материализует совет Гоголя: «Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу».[55] А затем с точностью хорошего ученика выполнил совет, а вернее – завет Гоголя: «Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других».[56]
Вот и Достоевский в своих произведениях щедро поделился столь дорого стоившим ему духовным опытом. В «Дневнике писателя» за 1877 год он вывел: «… сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина… Мыслители провозглашают общие законы, т. е. такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные» (XXV, 47).
Как видим, эта продуктивнейшая идея если и не отрицает, то во всяком случае, ставит под сомнение ближайшую перспективу социалистического устройства, хотя бы уже потому, что центр тяжести в социалистической идее перенесен с человека на среду. Впрочем, и здесь все не так просто. Дело в том, что русский человек в своих исканиях Града Божия на земле неизменно оказывается в силках собственной природы. Как это верно ощутил Достоевский, «высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда ее».
Идея обретения нравственной свободы пронизывает все творчество Достоевского. Свобода в понимании писателя – это прежде всего борьба человека с собственной греховностью, это нравственно-религиозное очищение. Человек вправе доказать себе, что он может отказаться совершить зло, «вполне сознавать свое Я, отдать это все самовольно для всех». «Не будьте злы и сухи! – призывает Достоевский. – Не торопитесь перестраивать по-своему гражданскую жизнь, займитесь прежде жизнью сердца вашего…»
Многие называли идеи Достоевского утопическими, фантастическими, невозможными. Иронизировали над его планами нравственного переустройства жизни, когда бы «преступники, убийцы, блудные, продажные и оскорбленные женщины опомнились и изменились». Смеялись над наивностью объявленных рецептов спасения: «… в симпатии или, лучше сказать, в любви, направленной на саму подлинную жизнь другого существа».[57]
Между тем Достоевский не отступал, и в конце 1860-х годов у него возникает желание воплотить эту идею художественными средствами. Задачу свою он считает «бесконечно трудной, почти непосильной для художника», потому что это вопрос об идеале. Но, несмотря на это, он все-таки приступает к ней в романе «Идиот», где берется «изобразить положительно прекрасного человека».
Перед писателем встает вопрос: посредством какого литературного образа можно было бы доказать право «единичности добра» на разрешение мировых вопросов? В поисках ответа художник обращается к опыту мировой литературы (Сервантес, Гюго, Диккенс), но приходит к выводу: «Все писатели пасовали, потому что эта задача безмерная, прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы еще не выработался» (X, 643).
В процессе работы Достоевский приходит к открытию, что на свете есть только одно положительное лицо – Христос. (Эту мысль находим в дневниковой записи от 13 апреля 1868 года). А следовательно, чем ближе к нему будет главный герой его романа, тем полнее может быть осуществлен писательский замысел. Вот почему поначалу своего Мышкина Достоевский именно так и называет – «Князь Христос». Этот ориентир остался ощутимым не только на уровне предварительных набросков.
И в окончательном варианте писателю удалось воплотить в образе Мышкина ту высшую стадию развития личности, что проявляется в христианском отрешении от индивидуализма и эгоизма. Мышкин не преследует собственных интересов, не выделяет себя из толпы людей, он входит в этот мир с проповедью сострадания, которая, по мысли Достоевского, и есть «главнейший и может быть единственный закон всего человечества». Любовь и сострадание открывают ему сердца людей.
В этом влиянии на людей, в вещем проникновении в судьбу каждого человека заключена главная энергия князя Мышкина, чья «огромная и сердечная жизненная задача» предстала перед ним, когда он «попал в вихрь человеческих отношений…»[58]
Достоевский убежден, что, благодаря примеру Христа и собственным усилиям, человек может обрести, восстановить в себе «детскость» как особое мироощущение, может осознать себя малой частью единой общности. «Богатства больше, но силы меньше, – утверждает герой романа Лебедев, – связующей мысли не стало».
Князь Лев Николаевич Мышкин в романе и является носителем такой «связующей мысли» о братстве людей, о необходимости милосердия и добра, сострадания и поддержки, о родстве человеческих душ.
Путь к России
В подготовительных заметках к роману «Идиот» Достоевский так отметил важнейшее направление создаваемого произведения: показать, «как отражается Россия» в судьбе и размышлениях князя Мышкина, который смущен «громадностью новых впечатлений… забот, идей» и ищет ответы на вопрос «что делать?»(VI, 629).
Писатель подчеркивает сопричастность Мышкина судьбе России: «Все вопросы и личные Князя… и общие решаются в нем, и в этом много трогательного и наивного, ибо в самые крайние трагические и личные минуты свои Князь занимается решением общих вопросов…» (VI, 629)
Достоевскому важно, что «Россия действовала на него (Мышкина – Н.Т.) постепенно. Прозрения его. Но где только он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту»(VI, 629).
Этот замысел, безусловно, нашел свое художественное воплощение в романе, ибо ради него роман и писался. Особенностью этого замысла было то, что писатель по мере развития сюжета касался самых сущностных черт русской национальной природы, которые его герой открыл в себе и в других.
Позднее в главе «Влас» («Дневник писателя» 187З г.) Достоевский так написал о главной любви русского народа: «… сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания»(XXI, 38).
Остановимся только на одном (правда – важнейшем!) аспекте христианского мировоззрения Достоевского, отраженного в судьбе князя Мышкина. Речь идет об основополагающем христианском догмате Пресвятой Троицы, заключающемся в том, что природа человеческого «Я» соборна и многоедина, что вне этого многоединства она просто не может до конца раскрыться.
Человеческое естество, созданное по образу и подобию Божию, не в силах вместить в себя всю полноту Его образа, однако может к этому стремиться. Для этого существует только один путь – любовь, ибо лишь силам любви дано преодолевать границы эгоистического «Я». При этом и происходит самоотождествление себя с другим или с другими. Случается нечто похожее на то, что совершается в Святой Троице: «Я» исходит из себя и «как бы в жертвенности гасит свой светильник для того, чтобы он возгорелся в другом или других (двух). Божественная Ипостась осуществляется предвечным актом ипостасного самоугашения для возгорания в другом, для другого, через другого».[59]
Этот акт можно оценить как трагедию личности, которая, подавляя естественную волю к жизни, своей жертвой укореняет в людях моральные добродетели. При этом трагедия саморазрушения личности заставляет окружающих переживать такое скорбное и мучительное чувство, что рязвязка венчается необычным подъемом духа; это и есть удовлетворение высшего порядка – катарсис.






