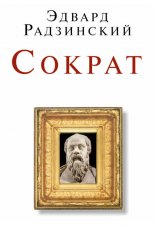Русская лилия Арсеньева Елена

Пролог
Море… Море синее, атласное, а пена от колес парохода – белоснежный каскад. Как может синева оборачиваться белизной? Как может небесная лазурь сменяться темнотой? Чудеса… День постепенно уплывает, как пенный след, и настает ночь. Ах, что за ночь! Небосвод в лунном серебре, но звезды поодаль от луны горят так ярко, словно за каждой стоит ангел и раздувает ее светлый пламень. Вода отливает фосфорическим блеском, и колесный след, белый днем, теперь кажется огненным. Воздух пронизан теплой влажностью. Ольга сидит и сидит на палубе, каждую минуту ожидая, что появится Эдит и начнет ворчать: мол, она слишком задерживается здесь, а ведь ночью может похолодать. И в самом деле холодает, причем с каждой минутой все сильнее. Ольга уже почти с нетерпением ждет, когда придет Эдит и прикажет идти в каюту. Но она почему-то не приходит. Ольга хочет подняться сама, но чувствует, что тело оцепенело и налилось странной тяжестью. Она не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Опускаются ресницы, которые тоже чудятся каменно-тяжелыми, и Ольга вдруг ощущает, что постепенно превращается в камень. Точно в такую же белую мраморную нимфу, которая стоит в ее саду среди апельсинных деревьев. О, она прекрасна, но она неподвижна! У нее закрыты глаза. Она ничего не видит. Она спит вечным сном… Может быть, это девушка, заколдованная волшебником? И Ольга вдруг осознает, что если она сейчас, сию минуту, не откроет глаза, то обратится в статую, которую тоже поставят в каком-нибудь саду.
Но она не хочет! Не хочет!
Она напрягает силы и открывает глаза, но с изумлением обнаруживает, что больше не сидит на палубе в шезлонге, а лежит на чем-то твердом и холодном. Над ней сомкнулись неровные каменные своды… Медленно возвращается память и осознание того, что она не в прекрасном море – она в пещере. В той самой пещере! И она здесь не одна…
– Ну что, очнулась эта гинэкэ?[1]
Внезапно раздавшийся голос показался Ольге оглушительным. Под сводами раскатилось эхо. Все они, несчастные узники, проведшие здесь почти сутки, уже привыкли говорить только шепотом. Они натерпелись страхов, всех неотступно донимали мысли о безнадежности их участи и скором приходе неминуемой мученической смерти, поэтому громкое, пугающе громкое эхо заставляло мужчин вздрагивать, а женщин заливаться истерическими слезами. А этот человек, который спрашивает, очнулась ли Ольга, ничего не боится, раскаты эха ему нипочем. Голос у него грубый, нет в нем ни капли сочувствия. Конечно, это один из их похитителей и стражей, один из убийц несчастного Маккинли.
– Что вам нужно? О чем вы спрашиваете? – послышался дрожащий женский голос.
Это бедняжка Эдит Дженкинс, ее бывшая гувернантка… Ну да, она же не понимает по-гречески! Когда Ольга посвящала все свободное время на пароходе изучению языка своей новой родины, Эдит только ужасалась, изредка заглядывая в учебник и пытаясь прочесть греческие слова: эстиа – очаг, дакри – слеза, дэндро – дерево, дилина – сумерки, кала нэа – хорошие новости, агапи – любовь… Родным языком Эдит был английский, также она превосходно говорила по-французски и по-немецки, но греческий почему-то пугал ее. Наверное, думала Ольга, мисс Дженкинс уже не раз пожалела, что согласилась сопровождать свою воспитанницу в эту далекую, странную, обильно политую кровью, измученную, полунищую страну с легендарным, волшебным прошлым.
– Я спрашиваю, эта женщина уже очнулась? – повторил человек по-немецки.
Ольгу, помнится, с первой минуты на греческой земле поразило, как много ее жителей говорят по-немецки. Ну, это понятно, ведь прежний король и королева были немцы. А теперешний – датчанин. Что же, теперь все греки станут датский учить? Или русский – родной язык их королевы? Хотя очень может быть, что русской королевы они лишатся с минуты на минуту… И королевы, и наследника престола… Ольга вздрогнула от этой ужасной мысли и беспомощно повела глазами.
Вокруг, как и прежде, царил полумрак. От входа сквозил вечерний полусвет, но и его заслоняла фигура высокого, осанистого мужчины. Лица его было не разглядеть, но Ольге, лежавшей на земле, он показался почти великаном.
– Ах, – радостно воскликнула Эдит, хватая Ольгу за руку. – Моя дорогая девочка! Я уже стала бояться, что вы умираете!
– Женщины живучи, как кошки, – холодно проговорил незнакомец на сей раз по-английски. Он оказался не таким уж диким горцем, как можно было подумать, слушая его грубый голос или глядя на его меховой плащ.
– Когда вы нас отпустите? – Ольга попыталась сесть (лежать перед этим мужчиной было унизительно и страшно… у него в глазах мелькнуло такое выражение… похоть или ненависть, она не поняла, но и то и другое было одинаково пугающим).
– Я уже говорил вам. Разве вы не помните? Об этом мы и вели речь, когда вы лишились чувств. Я отпущу вас, когда ваш муж придет забрать свою жену, не раньше. Вы мне не нужны. Мне нужен ваш муж. И пока он не явится за вами, я буду убивать ваших спутников, отправляя ему их головы. Одна уже переброшена через ограду его сада с письмом в зубах. Завтра он получит другую… Я, правда, еще не решил, будет это снова мужская или на сей раз женская голова. Здесь, кроме вас, три женщины и двое мужчин. У вас в запасе пять дней жизни. У ваших спутников – гораздо меньше. Но до завтра доживете все, обещаю.
Ольга заледенела от этой чудовищной речи, произнесенной с циничным безразличием. Тишина стояла в пещере невероятная, слышались только тяжелое дыхание Эдит и всхлипывания в том углу, где сидели англичане.
– Что за нелепость… Если вам нужен этот мужчина, чего ради вы похитили его жену, а вместе с ней ни в чем не повинных посторонних людей? Почему не схватить его самого? Зачем вы разыгрываете этот чудовищный спектакль? – Ольга узнала рыжего мужчину по фамилии Брикстер.
Массивная фигура с непостижимым проворством метнулась на голос. Мощная ручища схватила беднягу за горло:
– Помалкивай, англос[2]. Еще одно слово о тэатро[3] – и я не стану ждать утра, клянусь Агиагеоргисом[4]!
Я знаю, что англосы необычайно умны. Но ты… О, какой ты глупец! Неужели ты до сих пор не знаешь, чью жену мы увезли вместе со всеми вами?!
– Н-нет… – прохрипел Брикстер, тщетно пытаясь разнять пальцы, сжимавшие его горло. – Отпустите… Вы меня задушите!
– И верно… – Горец ослабил хватку. – Душить я тебя не стану. Нет никакого удовольствия рубить голову мертвецу.
Брикстер заплакал навзрыд; его стенания подхватили другие пленники. Слезы Эдит падали на руки Ольги. Она снова закрыла глаза, отчаянно жалея, что очнулась, и мечтая скрыться под покрывалом беспамятства. Увидеть бы снова море… Хотя бы во сне…
– Вы меня и моих соратников считаете убийцами и злодеями, – сказал горец. – Нам не привыкать. Турки нас считали такими же, потом Каподистрия, продавшийся с потрохами русским, потом германцы, которые пришли с королем Оттоном… Где они теперь? Турки изгнаны, Каподистрия давно убит, Оттон бежал. А мы, маниаты[5], сулиоты[6], клефты[7], акриты[8], мы остались. Это наша страна, и не какому-то навязанному нам датскому мальчишке указывать нам, как жить. Он нам не нужен! Он должен умереть. Конечно, я был бы счастлив встретиться с ним лицом к лицу и сначала воткнуть ему в живот кинжал, а потом разнести пулей череп, как поступили с Каподистрией мои родственники, заплатившие за это жизнью. Но я еще необходим своей стране, я еще послужу ей во благо, а посмертная слава мне не нужна. Поэтому я подожду, пока Георг сам придет за женой.
– Георг? – сквозь всхлипывания выговорил Брикстер. – Датский мальчишка? Но ведь Георгом зовут вашего короля, и он родом из Дании… Помилуй меня Бог, о ком вы говорите? Не о короле, надеюсь?!
– О нем самом, – усмехнулся горец.
– Неужели эта леди…
– Она его русская жена.
– Королева Ольга? – раздался общий изумленный крик, и Ольга, открыв глаза, поймала печальный взгляд Эдит.
– Погодите, сэр, да нет, не может быть… – быстро заговорил Брикстер. – Я живу на свете сорок лет, а ни разу не видел нашу британскую королеву Викторию. Она обитает в своих дворцах. Я не могу представить, чтобы королева на ночь глядя отправилась на прогулку по Лондону в компании случайных знакомых! А эта леди именно так и поступила – пошла гулять по Афинам. Бросьте, это опять спекта… Простите, я не хотел! Я просто изумлен, как и мои спутники. Мы помним, как познакомились с этой леди на улице в Стамбуле, в Чукурджуме, как сговорились встретиться в Акрополе и погулять по нему на закате солнца… Но кто бы мог подумать!
– Двадцать греческих женщин не так болтливы, как ты один, англос, – презрительно прервал его горец. – Замолчи и дай отдохнуть госпоже. Берегите себя, ваше величество. Еды и воды будет вволю. Мне нужно, чтобы вы были живы и здоровы к тому времени, когда ваш супруг придет отдать свою жизнь в обмен на вашу. Или к тому времени, когда я пошлю ему голову, срубленную с вашего еще трепещущего тела. Вы меня поняли? О, диаболокос, она опять лишилась сознания!
Эти слова донеслись до Ольги сквозь блаженную, спасительную тьму беспамятства, в которое она вновь погрузилась почти с наслаждением.
За несколько лет до описываемых событий
Принц вошел во дворец первым. Тишина стояла полная, и только эхо шагов разнеслось по комнатам, как если бы оттуда кто-то ринулся его встречать. Например, придворные, заждавшиеся нового повелителя. Или прежний король со своей королевой и всем двором…
Но этого быть не могло. Король Оттон, обиженный на страну, которой он отдал лучшие годы жизни, отсиживается сейчас в Баварии. Королева Амалия, проклинаемая народом за то, что не подарила королю наследника и осталась чужой своим подданным, разделяет его изгнание. Их придворные разбежались по домам, опасаясь гонений от нового монарха за преданность прежнему, но в то же время надеясь, что он не сможет без них обойтись и рано или поздно призовет на службу.
Возможно, и призовет. Принц вполне отдавал себе отчет, что больше не сможет видеть вокруг знакомые по отцовскому дворцу и прежней жизни лица: светлоглазые, белокожие, обрамленные светлыми волосами. Теперь его станут окружать другие люди: смуглые, черноволосые, их темные глаза будут смотреть недоверчиво, недоброжелательно, может быть, враждебно. И только в его власти обратить эти чувства в преданность, уважение, любовь.
Однако он что-то застрял на пороге своего нового дома! Надо же наконец пройти этот просторный, гулкий, пустой вестибюль. Главное, чтобы никто не понял, что его одолела робость. Всю жизнь принц больше всего опасался, чтобы окружающие не подумали, что он чего-то боится. Из-за этого было наделано великое множество молодых глупостей, о которых теперь так приятно вспоминать. Его унылое прошлое младшего сына датского короля теперь казалось таким милым, спокойным…
По пути сюда принц учил язык своей новой страны, а заодно пословицы и песни. Он вообще любил народную речь. Как счастлив он был, узнав, что станет королем! Как страшно ему теперь! Его соотечественники сказали бы: «С берега море красиво, а с моря берег красив». А греки, наверное, выразились бы так: «Одни о бороде мечтают, другие, у кого есть борода, на нее плюют». Словом, не ценил он того, что имел. Успеет ли оценить то, что получит?
Принц обернулся к замершей на ступеньках дворца немногочисленной свите:
– Ну что, господа, мне нравится простор моего нового дворца. Насколько я понимаю, в Греции не принято загромождать комнаты мебелью.
На самом деле дворец показался ему крайне нелепым. А уж эти пустые покои… Но он был сыном короля и знал, что правда – это последнее, что стоит повелителю говорить своим подданным.
Вперед выступил человек в меховом плаще. Плащ отчаянно пах старым козлом. В первую минуту встречи принц едва сдержался, чтобы не зажать нос. Однако потом притерпелся. Как его, этого господина? Мавродис? Маврокидис? Маврокиди?.. Нет, не вспомнить. Самое ужасное – это фамилии греков… Имена-то легкие, с этими именами мы рождаемся и умираем: их через одного зовут Аполлон, или Сократ, или Диоген, или Адонис, или Гектор, на худой конец Петр, или Александр, или Георгий… А вот повторить фамилии невозможно с первого раза. Впрочем, принц тут же подумал, что его полное имя – Кристиан Вильгельм Фердинанд Адольф Георг Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский – ни один грек не запомнит никогда в жизни. И ему стало смешно.
– Вы что-то хотите сказать, друг мой? – Принц с улыбкой взглянул на провожатого.
Встречающие говорили с ним по-немецки, он отвечал так же, но последние слова произнес по-гречески – мои кафэ, – и в свете невероятно яркой, огромной, воистину сказочной луны все увидели, что суровое, со сросшимися бровями лицо грека расплылось в довольной улыбке:
– Ваше величество…
Принц вздохнул. Он еще не был коронован и даже сам себя мысленно не называл королем. Церемония назначена на завтра. Но для этих людей, жаждавших спокойного развития страны, людей, уставших от войн и неурядиц, решение трех стран, от которых зависела сейчас судьба Греции, – Великобритании, Германии и России – посадить на греческий престол датского принца было равнозначно коронации. Поэтому он уже перестал смущаться, когда к нему обращались «ваше величество», хотя буквально сдергивать с лица стыдливую улыбку все еще приходилось.
– Слушаю вас, кирие, сударь. – Еще одно слово, которым приятно щегольнуть.
– Ваше величество, вся обстановка дворца после отъезда короля Оттона… пропала. Вашему величеству известно, что в стране некоторое время властвовала смута. Люди думали больше о сохранении государственности, чем о чьем-то имуществе… Вы должны понять…
– Фусика, – вежливо сказал принц. – Конечно.
Он и в самом деле понимал. После того безвластия, которое царило в стране, откуда не столь давно, немногим более четверти века назад, были изгнаны поработители-турки, четыреста лет терзавшие Грецию, трудно было думать о законах. По сути дела, клефтами – партизанами, убивавшими и грабившими турок, – были не только те, кто так звался. Клефтами в глубине души были все греки, даже те, кто приобрел подобие европейского лоска. Ни братьям Александру и Дмитрию Ипсиланти, возглавившим освободительную войну, ни первому правителю свободной Греции, русскому министру и греку по происхождению Иоаннису Каподистрии, ни баварскому королю Оттону, ни временно сменившему его переходному правительству так и не удалось смирить одержимости греков Мэгалэ Идеа, Великой Идеей Великой Греции, и решимости добиваться ее осуществления любыми доступными средствами. Право, можно было подумать, что Никколо Макиавелли, некогда изрекший: «Цель оправдывает средства!», был по происхождению грек и к тому же клефт! Хотя кто его знает, чего только не бывает на свете…
Словом, дворец разграблен и пуст. Ну что ж, зато жене будет чем заниматься. Женщины ведь обожают обставлять дома и украшать их. Однако у него нет жены. И где ее взять, неизвестно. Времена, когда принцы отправлялись по разным королевствам в поисках невесты, остались только в сказках. Теперь те же люди, которые сделали его королем, подберут ему кого-нибудь в королевы. Беда в том, что кого-нибудь ему совершенно не хочется. Ему хочется жениться по любви, как его отец и мать, как его сестра Аликс, ставшая женой английского принца Альберта Эдуарда, как другая сестра, Дагмар, которая мечтает выйти за русского царевича Николая, сына императора Александра II… По любви! Но кого ему любить? Принц примерно знал брачный европейский рынок. Сейчас на нем не было невест – тех, которые хоть ненадолго могли бы привлечь его внимание. А уж полюбить-то…
И ударило воспоминание… По пути сюда он на день задержался в Стамбуле для встречи с датским послом, который должен был сопровождать его в Афины, но внезапно слег с сердечным приступом, так что встреча не состоялась. Вместо нее у принца оказалось часа два свободного времени, пока пароход догрузили углем, и он решил прогуляться по городу. Собственно, это была торопливая пробежка по ближним к порту улицам, но он чувствовал невероятное возбуждение, как мальчишка, убежавший с урока. Нет, будто он – лицеист, которого вызвали в кабинет директора, чтобы устроить хорошую выволочку, но господин директор отбыл к высокому начальству, и пугающий разговор отсрочен. Но что греха таить, он и в самом деле боялся того, что его ждет в Афинах… Стамбул показался ему шумным и неряшливым, а жители его, хоть и пестро одетые, непривлекательными. Женщины с их закрытыми лицами вовсе не возбуждали своей таинственностью, о которой он столько читал у Байрона, а вызывали некую брезгливость, словно прятали следы порочных болезней. И вдруг из какого-то проулка чуть ли не на него выскочила цыганка в сопровождении двух мрачных соплеменников. Впрочем, на них едва ли кто глядел – все внимание приковывала красавица. Никогда в жизни принц не видывал ничего подобного! Она была не юной девушкой, а женщиной в расцвете красоты. Ей было не меньше двадцати пяти лет, и зрелая опытность чувствовалась в каждом ее движении и взгляде. Синие глаза, яркий румянец на смуглых щеках, море вьющихся темно-русых, выгоревших на солнце кудрей, небрежно собранных под круглую, расшитую бисером шапочку, широкие кисейные рукава обнажали до плеч изящные загорелые руки, а пестрый платок, обернутый вокруг талии и бедер, обрисовывал фигуру, которой позавидовала бы нимфа. И не только принц не мог отвести от нее взора! Все кругом расступалось и провожало красавицу взглядами, а она беззаботно стреляла вокруг своими невероятными глазами. Наконец она скрылась за поворотом, и принц с трудом удержался, чтобы не кинуться следом. Ах, вот такую бы в жены! Да разве это возможно?! Таких принцесс и на свете-то нет. И как тогда он вздохнул с превеликим сожалением, так же тоскливо вздохнул и сейчас. Но, кажется, окружающими это было принято за зевок.
– В тронном зале вам приготовлена постель, ваше величество, – услужливо сказал господин Мавро… Или как его там…
«Пусть останется Мавро, я уточню его фамилию потом», – решил принц, которому казалось невежливым переспросить грека, как его все-таки зовут. Завтра будет официальное представление принца Национальному собранию, а Национального собрания – принцу, вот там надо быть повнимательнее и слушать в оба уха.
Они миновали гулкие пустые покои, залитые лунным светом, который почему-то делал их еще более пустыми и гулкими, и оказались в просторном зале, где в один угол было задвинуто массивное кресло – очевидно, королевский трон, – а в другом стояла походная раскладная кровать, застеленная такой же меховой накидкой, какая была у Мавро. Правда, козлом от нее не пахло. А впрочем, вполне возможно, что принц уже просто привык.
Около кровати он увидел табурет, который, видимо, должен был исполнять роль ночного столика. На нем стояли бутыль с вином и высокий стакан, рядом горела толстая короткая свеча в плошке.
«Зачем мне свеча, и так светло как днем?» – Принц вздохнул: уснуть ему вряд ли удастся. И луна, и тревога, и мысли…
– На табурет вы можете положить револьвер, ваше величество, а вина глотните перед сном, спокойнее будете спать, – посоветовал Мавро. – У входа останется охрана. Пусть ничто не тревожит вас. Но все же запритесь изнутри. На всякий случай. Вот ключ.
Револьвер на табурете, трон, задвинутый в угол, приказания, которые отдает не он… И это называется будущий король?!
Принцу стало смешно, и он кивнул:
– Эвхаристо. Спасибо.
А что еще он мог сказать?
* * *
– Олечка, ты так хорошо шьешь, – восторженно вздохнула Вера, рассматривая юбку старшей сестры. – Ничего не заметно! Совсем как новая! Совсем! И даже красивее, чем была раньше!
– Ольга будет хорошей, разумной женой, – степенно кивнула мисс Дженкинс, гувернантка Ольги. Иногда ее можно было называть просто Эдит, но очень редко, по великим праздникам, как шутил отец. Она славилась своими знаниями, способностью их передавать и на редкость гладкой, немодной прической. Все дамы взбивали волосы над лбом, а она зачесывала их назад и скручивала на затылке в небольшой пуританский узелок. – С такой женой мужчина не пропадет, будь он король или дровосек.
– Папа не отдаст Олю за дровосека! – обиженно воскликнула Верочка.
– Да ты не волнуйся, – засмеялась Ольга, – дровосек ко мне не посватается. Скажи, ты часто видела в Павловске дровосеков?
– Дровосеков я не видела, а истопники? Они ведь тоже носят дрова. И уголь. Вы еще скажите, мисс Дженкинс, что Оля станет женой истопника! Я вот пожалуюсь папа, какого жениха вы ей подыскиваете!
Англичанка и ее воспитанница переглянулись. Ольга с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться, но у мисс Дженкинс сделалось встревоженное выражение. И Ольга ее прекрасно понимала. Если Вера в самом деле нажалуется отцу, гувернантке плохо придется. Сказки, в которых царевны выходят замуж за Иванушек-дурачков, а принцессы за свинопасов, – это одно, а прочить дочь великого князя Константина Николаевича, брата русского императора Александра Николаевича, за истопника или даже за дровосека – это совсем другое. Конечно, у бедняжки Эдит и в мыслях ничего такого не было, это все Верочкины фантазии, но ведь отец этого не знает. Вряд ли ему это понравится! Как бы не отчитал гувернантку, а то и вовсе не выставил вон! А впрочем, папа добрый, а главное, он прекрасно знает, какая Верочка выдумщица и скандалистка. Она обожает ссориться. И в этом очень похожа на мама… Ну а Ольга пошла в отца – такая же спокойная, рассудительная, добродушная, она норовит всякий спор уладить, всех утешить и порадовать, всем сказать приветливое слово и ласково улыбнуться.
– Успокойся, душенька, – сказала она сестре. – Ну что ты устроила бурю в стакане воды? Взгляни лучше на свою штопку. Право, дырявым твой чулок и то лучше смотрелся. Так что не заботься о моем будущем – позаботься о своем настоящем.
Мисс Дженкинс благодарно посмотрела на воспитанницу. Ольга почти слово в слово произнесла любимую фразу гувернантки: «Прежде чем заботиться о будущем, позаботься о настоящем!» Еще мисс Дженкинс любила говорить: «Не споткнись, когда задираешь нос!» и «Бедняки умеют смеяться, а богачи умеют плакать!» Гувернантка рассказывала Ольге, что выросла в многодетной семье пастора, очень-очень бедной. Эдит долгое время даже не представляла, что чулки и кружевные воротнички, а также платье и белье можно покупать в лавке, а не вязать или шить самостоятельно. Каждая вещь, даже отцовская ряса, была штопана-перештопана до того, что на ней живого места невозможно было найти. В семье она и усвоила мысль, что у порядочной женщины не должно быть ничего пышного, в том числе и в прическе. Но вот, совершенно как в сказке, приехала добрая богатая тетушка и увезла с собой младшую дочку – Эдит. Тетушка дала ей образование и возможность поездить по свету. Эдит стала хорошей учительницей, к ней пришла известность в определенных кругах, и, после того как она поработала гувернанткой в семье князей Юсуповых, ее рекомендовали в семью великого князя Константина Николаевича. После безудержных роскоши и мотовства, которые царили у Юсуповых, Эдит была поражена строгой экономией при дворе брата императора. Из пятнадцати тысяч в год, которые казна выделяла каждой барышне из великокняжеской семьи, две тысячи следовало отдать на благотворительность. Более того, родители, Константин Николаевич и Александра Иосифовна, сами слишком любили удовольствия жизни, чтобы тратить деньги на детей. Барышни отнюдь не были избалованы. При виде всего этого Эдит с воодушевлением вспомнила уроки своего детства и юности и принялась учить княжон не только английскому языку, но и шитью, вязанию, штопке, уверенная, что умение залатать нижнюю юбку или из старого платья сделать новое в равной степени может пригодиться и государыне какого-нибудь незначительного европейского королевства, и жене дровосека. Верочка была не слишком благодарной ученицей, зато Ольга занималась рукоделием с удовольствием и очень гордилась, когда ей удавалось сделать почти незаметную штопку на чулках.
«Повезет тому мужчине, которому достанется в жены Ольга Контантиновна!» – часто думала мисс Дженкинс, поглядывая на свою воспитанницу. Ольга не унаследовала буйной красоты матери, Александры Фредерики Генриетты Паулины Марианны Элизабет, герцогини Саксен-Альтенбургской, названной после православного крещения Александрой Иосифовной, да может быть, оно и к лучшему. Мисс Дженкинс не была никогда замужем, но навидалась достаточно самых разных семей и очень любила еще одну пословицу: «Не родись красивой, а родись счастливой». Александра Иосифовна, некогда поразившая своими голубыми глазами и рыже-золотистыми волосами, своей прелестью и элегантностью не только молодого великого князя Константина, но и его отца, императора Николая I, известного ценителя женской красоты, не обрела счастья в семейной жизни. Великий князь хоть и не был записным гулякой, но порой не стеснялся искать удовольствий на стороне. А в последнее время и вовсе голову потерял, причем отнюдь не от законной супруги.
Мисс Дженкинс украдкой вздохнула. Она была тайно влюблена в великого князя, прекрасно понимала, что у нее нет надежды обратить на себя его внимание, и все же безумно ревновала к каждой, кто этого внимания удостаивался. И вот сейчас у него новая пассия… Чтобы не заплакать, мисс Дженкинс строго свела брови. Усилием воли она заставила себя не думать о великом князе Константине Николаевиче и его… всепоглощающей страсти к театру вообще, а к балету в частности, назовем это так. Гувернантка вновь задумалась о своей воспитаннице.
Ее красота не столь яркая, как у матери, а спокойная и сдержанная. Великая княгиня – это пышно цветущая роза, а ее дочь – скромная белая лилия. Кому-то нравятся розы, кому-то – лилии. Ну что ж, мисс Дженкинс могла только от души молиться, чтобы будущий супруг Ольги по достоинству оценил и нежность белых лепестков, и тонкий аромат этого цветка. Ну и, само собой, пусть это все же будет не дровосек!
За несколько лет до описываемых событий
Наконец-то принц остался один. Вернее, наедине с луной, которая бесцеремонно заглядывала в окна и не давала спать. Он последовал совету Мавро… как его там… и выпил стакан вина, однако сонливости оно не прибавило – напротив, разогнало усталость. Он был слишком возбужден, чтобы спать. Хотелось что-то делать, а не сидеть взаперти в пустом тронном зале.
Принц подошел к окну и поглядел на лежавшую внизу площадь. Она называлась плата Омония, площадь Согласия, хотя прежде была площадью Оттона, в честь бывшего короля. После его изгнания площадь переименовали. Право, больше всего народу в то время нужно было именно согласие!
Даст ли Греции это согласие новый повелитель?
Принц переходил от окна к окну и с волнением смотрел на легендарный город, волшебно освещенный луной и более всего напоминающий некую старую реликвию, не вполне удачно вставленную в рамку современности. Афины… Афины… От этого звука не может не трепетать душа человека, для которого Эллада – символ красоты, нетленной, вечной, вдохновляющей красоты… Но Георг уже начал ощущать себя хозяином не только разграбленного дворца, но и измученной страны, а потому не мог не думать, что место для столицы выбрано неудачно. Афины – всего лишь памятник старины, великий музей античных святынь, а не средоточие молодой деятельности воскресающей нации. Коринф – вот где должно быть сердце нового государства! Если бы столица находилась посреди перешейка, в четверти часа езды от двух морей, да провести бы к ней железную дорогу, да прорыть бы канал между двумя гаванями, в возможности чего еще и при Нероне не сомневались, Коринф вырос бы до одного из важнейших торговых пунктов в Европе. А торговля – это процветание нации…
Но что делать, если баварцу Оттону было не столь важно, что страдает торговля, остановилась промышленность, заброшены дороги. Он перенес столицу в Афины, теша самолюбие тем, что афинская палата собирается теперь в том же месте, где некогда жили Демосфен и Перикл, университет стоит недалеко от Платоновой академии, а новый ареопаг разбирает вексельные процессы и земельные тяжбы в виду холма, где в древности заседали архонты.
Принц усмехнулся. Как бы он ни брюзжал на своего предшественника и ни делал вид, что торговые выгоды должны стоять над легендарными совпадениями, а все же и его самолюбие тешилось этими же совпадениями. И, хотя с тех самых пор, как именно его кандидатура была названа в качестве будущего короля, он находился в состоянии страха и тревоги (которое предпочитал называть естественным волнением человека, осознающего ответственность перед державой и миром), сейчас его охватило восторженное умиление. Во время скачки от Пирея, где он сошел с корабля, до Афин принц был слишком напряжен, чтобы испытать хоть какие-то чувства от того, что под копытами его коня та же земля, по которой некогда скакал, например, Тезей, но сейчас осознание того, что он в Афинах – в тех самых Афинах! – настигло его как удар хлыста. Принц и в самом деле ощутил себя новым Тезеем, с высоты скалы, на которой его отец Эгей воздвигнул этот город, озирающим бескрайние окрестности и мечтающим о новых завоеваниях и подвигах. А впрочем, во времена Тезея еще не было Акрополя с колоннадой сверкающего белого Парфенона и башней Ветров, не было храма самого Тезея, полуразрушенных арок театра ирода Агриппы, Адриановых ворот, храма Юпитера-громовержца, воздвигнутого уже римлянами…
Волнение туриста, оказавшегося в местах, которые прежде воскрешали пред ним только воображение и книги, внезапно охватило принца и оказалось куда сильнее прежних тревог и страхов. Ему невыносимо захотелось увидеть все эти достопримечательности, коснуться хотя бы кончиками пальцев мраморов, которые тысячелетия назад отражали солнечный блеск и лунный свет. Он метался от окна к окну, озирая принадлежавший ему отныне великий город, и чудилось, будто луна нарочно высвечивает только обольстительные древности, расчетливо оставляя в непроницаемой тени новейшие постройки, в которых жили афиняне, его подданные. Чары ночи воскресили древность, которая сейчас казалась принцу реальнее настоящего и манила неудержимо.
Он замер у окна, выходившего в просторный сад. Аромат цветущих апельсинных деревьев коснулся его ноздрей и заставил их затрепетать.
Фавны и нимфы, дриады и сатиры резвились в античные времена под такими же деревьями, и такой же аромат пьянил их. Нет, они были пьяны от молодого вина и от страсти. О, какое наслаждение быть свободным от условностей, носиться ночами под луной по этим просторам, отдаваясь желаниям молодого тела!
Принц с изумлением прислушивался к себе. Он был воспитан в большой строгости, однако в положенный срок одна из фрейлин матушки, королевы Луизы, познакомила его – разумеется, с матушкиного и отцова ведома и по их приказу! – с тайнами плотских наслаждений. С этих пор принц порой отдавал им должное, а впрочем, не слишком увлекался женщинами и втихомолку гордился тем, что способен властвовать собой, своими желаниями. В любой миг он мог усмирить восставшую плоть хладнокровным душевным усилием, однако сейчас ощутил вдруг прилив такого возбуждения, что вынужден был расстегнуть рубашку и подставить грудь ночному легкому ветерку. Тревоги дня ушедшего, волнения дня предстоящего, аромат этого сада, аромат Греции, аромат воображаемых картин вдруг распалили его до такой степени, что он и думать позабыл о сне. Не спать ему хотелось сейчас, а предаться любви… С кем? Да не важно! Он представлял себе такие ночи в свободном, лишенном всяких оков легендарном мире Эллады, когда мужчины и женщины, ощущая неодолимую потребность в наслаждении, шли куда глаза глядят и совокуплялись с первыми встречными, порой даже не зная имен и не рассмотрев толком лиц своих случайных любовников и любовниц, отдавались друг другу стремительно и пылко, только чтобы утолить жажду телесную и очистить свой дух от томления. Это было языческое распутство.
Принц вырос в другом мире, он был воспитан в снисходительном презрении к плотским слабостям, но сейчас холодный, рассудочный, сдержанный пуританский мир был далек, нереален и бессилен по сравнению с жаждой любодейства, которая заставила принца испустить чуть слышный стон. Чего бы он только не отдал сейчас за возможность заполучить женщину… Какую угодно женщину, хоть на миг!
Он оперся о массивный подоконник широкого окна, высунулся и помотал головой, словно намереваясь вытрясти из нее эти ненужные мысли и желания.
Вдали, на гладкой равнине, внезапно вспыхнул огонек. Вспыхнул… погас было… и разгорелся ровным светом. Наверное, костер, разожженный каким-нибудь пастухом, ведь пустынное поле вполне пригодно для пастбища.
Принц оперся о подоконник поудобнее и вдруг ощутил под рукой округлый металлический предмет. Не без удивления обнаружил он, что это подзорная труба – небольшая, складная, из тех, которые часто носят с собой путешественники. Сам он был морским офицером, привык к другим подзорным трубам, и миниатюрность этой его сначала насмешила, но потом, когда он приложился глазом к окуляру, изумила, настолько четко все было видно. Казалось, костер подскочил прямо к стенам дворца, и теперь принц мог различить игру пламени и несколько скорчившихся фигур.
«Наверное, пастухи накрылись плащами и спят», – подумал Георг. Их неподвижность показалась принцу скучной, и он перевел взгляд в другую сторону, но не увидел ничего, кроме лунной ночи и камней. Вернулся к костру… и тихо ахнул от изумления!
Тонкий женский силуэт метнулся туда-сюда против огня. Он не просто двигался – он танцевал… Да как! Прыжки и полеты были отточены и изящны, словно Тальони исполняла одну из своих блистательных партий! Развевались волосы, взметывались юбки…
Это было обворожительное зрелище. Заинтригованный, принц до боли вдавливал в глаз окуляр и накручивал колесико, но, к сожалению, не смог рассмотреть танцовщицу ближе. Особенно хотелось увидеть ее лицо, но это было невозможно. В ее движениях было что-то цыганское, буйное, и принц снова вспомнил красавицу, мельком виденную в Стамбуле. Конечно, она никак не могла оказаться в Афинах одновременно с ним: для этого ей пришлось бы выйти в море не позднее чем через два часа после их встречи, причем на столь же быстроходном судне, как английский крейсер, на котором добирался он. Вот разве что она была перенесена сюда колдовством, однако принц в колдовство не верил.
Внезапно девушка замерла, вглядываясь в темноту и вслушиваясь в тишину, а потом, резко сорвавшись с места, ринулась вперед… Как показалось принцу, в сторону сада, окружавшего дворец. Он вглядывался в залитое луной пространство, выискивая бегущую фигурку, раз или два ему удалось поймать ее взглядом… Да, она бежала к дворцу.
К нему!
Конечно, это была бредовая мысль. Девушка, само собой, понятия не имела о его существовании, однако понять это принц был сейчас не способен. Он ринулся было к двери, но вспомнил, что, во-первых, внизу должна остаться охрана, которая преградит ему путь, а во-вторых, он просто запутается в пустых и похожих одна на другую комнатах. Вернулся к окну, глянул вниз… Третий этаж – не спрыгнешь, но стена украшена вычурными барочными выступами, на которые очень удобно ставить ногу. Во всяком случае, лезть по стене не сложнее, чем лезть по вантам. И не штормит! Вот разве что голова кружится от возбуждения.
Через мгновение он оказался на земле и со всех ног бросился в сад. Луна сквозь кружево листвы… Полутени, полусвет, лепестки падают на голову, словно капли ароматного дождя… Принц слышал свое тяжелое дыхание, топот своих ног… На миг он остановился, пытаясь угадать, близко ли девушка, и внезапно ощутил, что он здесь не один… Резко повернулся, готовый раскрыть объятия… И отшатнулся, увидев перед собой высокую мужскую фигуру.
Как назло, луна вдруг исчезла. Одна-единственная тучка нашла ее на небе и скрыла, на земле воцарилась воистину кромешная темнота, и она оказалась подобной ведру холодной воды для разгоряченного принца.
Куда он летит? Куда стремится?! К кому? Зачем? Он – будущий король, а не самец, обуреваемый низменной похотью! А что, если…
Что, если это ловушка? И он сейчас будет убит теми, кто был против его кандидатуры? Он знал – таких оказалось в Греции немало…
Яростное желание, только что снедавшее его и затмевавшее разум, исчезло мгновенно.
– Кто ты? – хрипло выкрикнул принц.
– Ваш покорный слуга, ваше величество. – Он говорил по-немецки, но принц сразу понял, что перед ним грек. Голос был молодой, сильный, мелодичный, в нем звучали почтительные интонации. Чудилось, человек не говорит, а выпевает слова.
– Что ты делаешь в этом саду? – Принц с трудом переводил дыхание.
– Служу вашему величеству, – ответил незнакомец. – Осмелюсь сказать, что в наших краях ночами бывает опасно. Не лучше ли вашему величеству вернуться во дворец и отдохнуть перед великим событием, которое произойдет завтра?
– Мне просто хотелось подышать.
– Да, ваше величество. – В голосе звучало только глубокое почтение, больше ничего.
Принц почувствовал себя лучше. Возможно, незнакомец не видел ночную танцовщицу. А раз так, он не понял, что по саду только что бежал не будущий король, а фавн, обуреваемый похотью. Теперь Георг не понимал, что на него нашло. Не иначе, колдовство! Он презрительно усмехнулся. Никакого колдовства не бывает! Просто его трезвый ум взял верх над минутным искушением.
Интересно было бы поглядеть на этого человека, но по-прежнему стояла темнота. Принц ощущал дуновение ветерка, деревья слегка шелестели кронами, но на тучку это не влияло, она, похоже, приклеилась к луне. И это – тоже кол… Нет. Просто ветер дует низко над землей.
– Ну что же, ты можешь проводить меня до дверей, – благосклонно проговорил принц.
– Если мне будет позволено дать совет… – начал незнакомец и умолк.
– Конечно, слушаю тебя.
– Стража будет изумлена, увидев вас в саду. Они знают, что ваше величество спит в тронном зале. Они могут не поверить вам и не пропустят во дворец. Они простые люди, они могут решить, что это какой-то обман. Не хотелось бы скандала.
– Так что же, мне снова придется… через окно?
– Это было бы лучше всего. – Незнакомец проводил его к той стене, по которой принц недавно спускался, и помог взобраться на первый выступ.
Он был очень силен, настоящий богатырь – поднял принца над землей без малейшего усилия. В то же время его фигура, которую Георг мог разглядеть на фоне светлой дворцовой стены, была очень стройной. Незнакомец был одет в широкие шаровары и просторную рубашку. От него еле уловимо пахло полынью. Принц внезапно вспомнил, что по-гречески полынь – артемисия.
Откуда он явился? С каких полынных просторов? Кто он?
Можно спросить, но незнакомец ничего не скажет.
Первые несколько футов преодолеть оказалось трудновато – было слишком темно. Но внезапно луна открылась, снова залила округу ярким светом, и принц вмиг добрался до окна. Залез внутрь, перегнулся через подоконник… Внизу было пусто. Незнакомец исчез.
Вовремя же он появился, этот человек. Сейчас принц уже диву давался, что так страстно и бездумно поддался искушению.
Он посмотрел вдаль. Костер уже не горел. Георг провел рукой по подоконнику – подзорной трубы не было. Поискал на других окнах – ничего.
Он прихватил трубу с собой и потерял в саду? Возможно.
Принц улегся на походную кровать, стараясь не думать о том, что только что произошло, а размышлять о самых обыденных вещах. Например, сможет ли он принять ванну завтра утром – перед тем как наденет парадный мундир и на его голову возложат королевский венец.
Повернулся на бок, вздохнул глубоко… Сон был близок, он приподнялся, чтобы погасить свечу, и удивленно уставился на табурет, заменявший ночной столик.
Вот свеча в плошке, вот револьвер… Но нет бутылки с вином и стакана.
Что такое?! Кто-то входил сюда, пока он бегал по саду? Но Георг отчетливо помнил, что по совету Мавро запер дверь изнутри. Ключ на табурете: так и лежит, как он положил. А может быть, он зря не верил в колдовство?
Принц почти в отчаянии дунул на свечу, зажмурился, откинулся на спину, согнутой рукой прикрыл лицо от лунного света… и мгновенно заснул, не ведая о том, что в это время происходило в саду.
А происходило там вот что.
Когда принц влез в окно, человек, остановивший его, некоторое время постоял под деревьями, напряженно слушая ночь и всматриваясь в игру лунного света, потом сказал негромко, по-гречески:
– Это ты, Элени?
Ночь не ответила.
– Я знаю, ты здесь. Я знаю, что вы задумали – ты и твои сообщники. Но хочу, чтобы вы тоже кое-что знали: я не позволю вам причинить вред королю.
– О верный Васили… – отозвалась ночь мелодичным женским голосом, в котором звучала откровенная злоба. – Верный, как пес! Позволю, не позволю! Ты слишком много на себя берешь! Что ты можешь сделать, чтобы нам помешать?
– Я уже кое-что сделал, разве нет? Я спас короля от тебя этой ночью. Бог поможет спасать его и впредь.
– Спас короля! – передразнила Элени. – Не позволишь причинить ему вред! Можно подумать, его кто-то собирался убивать. Мы просто хотели немного… изменить его жизнь. Пора ему перестать плясать под дудку этих англичан и русских.
– А вы хотите, чтобы он плясал под вашу дудку? – хмыкнул Васили. – Думаете, ваши песни звучат лучше, чем английские?
– Во всяком случае, это греческие песни! Это песни нашей родины!
– С каких пор Греция стала для тебя родиной? – искренне удивился Васили. – Не ты ли недавно смеялась над нами, над нашим патриотизмом, не ты ли говорила, что твоя родина – весь мир, что ты готова любую страну признать родной, лишь бы тебе было там хорошо и привольно? С каких пор тебе стало хорошо и привольно в нищей Греции, как ты ее презрительно называла? Не с тех ли пор, как здесь появился этот король, которому нужна жена? Но на что надеешься в этом смысле ты? Кто ты такая, чтобы мечтать о ложе короля?
– Я, быть может, кажусь тебе никем. Но разве ты забыл, кто моя приемная мать? И ведь тебе далеко не все известно о моем рождении!
– О, мне известно, что ты, твоя приемная матушка и ваши дружки способны сплести сеть самой отъявленной лжи, чтобы добиться своего, – спокойно ответил Васили. – Они могут объявить тебя незаконнорожденной дочерью хоть Наполеона, хоть королевы Виктории, хоть русского императора Александра, но сама-то ты знаешь, что ты просто девчонка без роду без племени, пригретая княгиней из милости.
– Без роду без племени?! – взвизгнула Элени. – Но тебе это не мешало… в свое время! И не мешало любому другому мужчине. Чем же это помешает королю?
– Я отлично знаю, что меня сменило немало этих «любых других мужчин», – холодно отозвался Васили. – Не трудись хвалиться этим. Таких, как ты, французы называют авантюристками. Вас много мельтешит по миру. Но ни одна из вас еще не стала женой короля.
– Зато многие из нас получили возможность управлять королями. Иногда фаворитка играет в государстве куда большую роль, чем законная жена.
– И все-таки на людях рядом с королем появляется именно королева, а фаворитка прячется за дверью и с завистью глядит на их блестящий кортеж. Почести оказывают дневной жене, а ночная вечно в тени. Неужели ты, с твоей гордыней, готова согласиться на это?
– Ты знаешь, я готова была бы вечно оставаться в твоей тени, если бы ты женился на мне. – В голосе Элени звучали слезы.
– Я бы женился на тебе, если бы не узнал, что ты спишь с Аргиросом Мавромихалисом, а может быть, и с самим хуфтало[9], папашей, и мне достался не единожды надкушенный кусок. Но довольно. Стоит нам встретиться, ты начинаешь упрекать меня этими старинными обидами, которые на самом деле тебя не слишком-то волнуют.
– Не слишком-то?! – яростно воскликнула Элени. – Да что ты знаешь обо мне?!
– Я уже сказал, что довольно много. И ты в этом только что убедилась.
– Да, – с ненавистью прошептала Элени, – ты помешал мне… нам… Но ты не можешь всегда стоять рядом с королем, будто нянька! Мы доберемся до него рано или поздно! А ты…
– Тихо! – Васили насторожился. – Здесь кто-то…
Он не договорил, потому что от одного из апельсинных деревьев отделилась тень, взмахнула рукой и нанесла ему удар по голове. Васили рухнул на траву.
– Зачем ты это сделал, Аргирос? – вскрикнула Элени. – Остановись! Не смей!
Человек, размахнувшийся для второго удара, замер:
– Ты хочешь оставить его в живых после того, что он тут наговорил?! Откуда он проведал о наших планах? Кто мог ему сказать?
– Просто-напросто он умен и догадлив! – прошипела Элени. – И, к несчастью, хорошо знает меня и всех нас… Ведь он был одним из нас до тех пор, пока не поверил, что очередной чужеземный король может принести счастье и покой Греции.
– Я его убью, чтобы он не успел никому рассказать о своих догадках.
– А откуда ты знаешь, что он уже не рассказал? И когда он будет убит, его друзья сразу поймут, кто за этим стоит. А нам сейчас скандалы ни к чему!
– Ты права… Но как же теперь быть?! Наши планы… Все было так тщательно продумано…
– Изменить планы, вот что нам нужно.
– Легко сказать…
– Легче, чем ты думаешь. Кое-что у меня в запасе есть, но я не говорила об этом даже княгине. Теперь мне кажется, что и в самом деле все складывается к лучшему. Ты знаешь, ваша выдумка всегда казалась мне слишком помпезной. Слишком театральной! А вот моя… Она проще, безопаснее и вернее. На ложе короля она приведет меня куда скорее, чем на трон!
– Но нам нужен трон!
– Нам нужна власть, а уж каким образом мы ее получим, дело десятое.
– Посмотрим, что скажут княгиня и отец… – проворчал Аргирос.
– Мне нужно встретиться с ними, и поскорее! Идем!
– А он? – Аргирос небрежно ткнул носком сапога неподвижное тело Васили. – Что сделать с ним?
– Ничего! Оставь его в покое! Он очнется и уйдет отсюда сам. А впрочем… Впрочем, ты прав. Свяжи его, да покрепче. Заткни ему рот. И оттащи куда-нибудь, где его найдут не сразу. Но если ты вздумаешь прикончить его, я сама убью тебя, и очень скоро! Только смерть твоя будет мучительной и страшной, ты изойдешь криком и болью, ты весь покроешься коростой и станешь отвратителен даже родной матери. Ты понял меня?
– Понял, ведьма! – буркнул Аргирос. – Не беспокойся, я оставлю его живым, хотя мне кажется, что я сейчас рою яму всем нашим замыслам.
– Тебе кажется? Тогда перекрестись! – усмехнулась Элени и, послав неподвижному Васили воздушный поцелуй, неслышно побежала прочь, иногда нарочно дергая за низкие ветви деревьев и осыпая себя, словно душистым дождем, бело-розовыми лепестками.
Аргирос посмотрел ей вслед, криво усмехнулся и вытащил нож.
* * *
Ольга стояла перед зеркалом и пристально разглядывала свое лицо. Никакого удовольствия ей это не доставляло.
– Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне! – Ольга скорчила себе гримасу. Она изо всех сил старалась сделать ее посмешнее, но гримаса получилась жалобная. И вдобавок еще слезы на глаза навернулись… Девушка торопливо отвернулась от зеркала.
Но смотри не смотри, а слез от этого не убавилось.
Как так вышло, что у очаровательных родителей родилась неуклюжая, пухлая, с невыразительным лицом дочка? И волосы какие-то пегие, и глаза блеклые, и брови бесцветные, и рот вялый. На собственное отражение смотреть тошно. Чего же тогда ждать от других людей? От мужчин, например? Почему они должны взирать с удовольствием на великую княжну Ольгу Константиновну, если ей самой это зрелище не доставляет ни малейшего удовольствия?
Ну разве ее можно сравнить, например, с матушкой? Ну ладно, матушка – красавица, таких мало на белом свете, но… Но хотя бы с кузиной Мари, дочерью дядюшки Александра Николаевича, государя императора? И сам император внешностью уступает брату Константину Николаевичу, Ольгиному отцу, и жена его, императрица, куда менее красива, чем Александра Иосифовна, Ольгина матушка, а Мари уродилась на загляденье! И братья у нее как на подбор: что Никса был, наследник трона, недавно умерший, что добродушный Саша, теперь ставший цесаревичем… Но лучше всех, красивее всех, конечно, младший брат, Алексей. И не только в своей семье он самый красивый – он самый красивый мужчина на всей земле!
Не то чтобы Ольга успела повидать всех мужчин земли… это и не нужно. Она просто знает, что лучше Алексея нет на свете! Нет красивее, умнее! Нет другого такого, при виде кого она чувствует себя и счастливой, и несчастной одновременно. Счастливой – оттого, что видит его, что он есть на свете. Несчастной – оттого, что он на нее даже не глядит. А зачем ему на Олю глядеть? Что в ней особенного? Чем она красивее, скажем, любой из многочисленных принцесс европейских дворов? Когда-нибудь Алеше выберут одну из них в жены. А Олю не выберут ни за что, потому что они кузены, двоюродные. Будь они хотя бы троюродными, можно было бы на что-то надеяться. Оля все равно надеется, хотя это грех, грех… Грех о нем мечтать! Грех замирать от счастья и неудержимо глупеть при виде его! Это смешно, это жалко выглядит, кажется, все замечают… кроме него. Конечно, кто для него Оля? Толстая застенчивая кузина без всяких проблесков ума и красоты. И в мысли не взойдет Алеше помечтать о ней. И не потому, что это грех. Греха-то он не боится… Он грешник, да, он грешник, и еще какой!
Оля подскочила к двери. Приоткрыла, выглянула… В коридоре пусто. Вернулась к зеркалу и, зажмурившись, принялась неловко расстегивать мелкие пуговки у ворота. Спустила платье с плеч и, боязливо приоткрыв глаза, принялась рассматривать вершинки приподнятых корсетом грудей.
Белое все, бело-розовое, пышное и гладкое. Поднимается и дышит. На это любят смотреть мужчины. Это им нравится больше, чем ум и доброта душевная. Когда они глядят на женщину, они не думают, сколько книг она прочитала, приветлива ли она, умеет ли штопать платья или страшная мотовка. Оно норовят прежде всего заглянуть в ее декольте. Ольга сколько раз видела, как они смотрят на ее грудь. А проку? Декольте матушка носить не разрешает, хоть бы на улице жара. Сама наряжаться любит, но дочерей держит в строгости, говорит, что чистота – лучшая красота и обнажат они плечи только после свадьбы… А разве найдет Ольга жениха, если ей даже не дают себя показать мужчинам? Как-то матушка пришла на урок танцев и увидела, что Оля в вальсе слишком круто поворачивается, даже юбка выше колен взвивается. Ох, что тут было! Оля думала, матушка ее немедля в монастырь отошлет или на колени в домовой церкви поставит грех замаливать. Но обошлось только криком. Зато каким!
– Вы вся в отца! – кричала Александра Иосифовна. – Вы распутны!
Оля рыдала в три ручья, наутро глаза пальцами открывать пришлось, так опухли. Эдит выпросила на кухне капустного листа и положила на веки великой княжне. Да мало помогло – красные пятна от слез потом весь день держались.
Отец Олю увидел и даже испугался. Стал спрашивать, что с ней такое. Она молчала, но он, наверное, догадался, потому что отправился к матушке в спальню и заявил ей, что она дура. В это время у нее как раз была Верочка – она Оле и рассказала.
– Вы, – говорил отец, – совершенно на Николе помешались! – Так в семье звали старшего сына Николая, чтобы отличить его от тезки – старшего сына императора (наследника близкие называли Никсой). – С чего вы взяли, что Никола честью семьи станет? Он уже сейчас на уроках неприличные картинки рисует и даже не стыдится прятать, так и сдает тетрадку учителю. Брульон французский, а посреди девица в черных чулочках с задранной юбчонкой и ноги врозь! В такие-то годы… Помяните мое слово, этот мальчик вас еще заставит слезы лить! А вот девочек удастся, может статься, за королей замуж пристроить. Так занимайтесь ими! Не держите в черном теле, не лишайте своей ласки, не заставляйте ночами напролет рыдать! Красоту проплачут. Или вы нарочно Ольгу мучаете? Потому что я ее люблю, а она меня? Потому что она на меня похожа? Счеты сводите? Ну так смотрите мне, я теперь с нее глаз не спущу! Извольте быть ей матерью, а не мачехой!
Оля и Верочка после этой ссоры родительской очень удивились. Они и прежде знали, что для матушки Никола – свет в окне, любимец, рядом с которым никто и стоять не может, а девочек она недолюбливает. Оля помнила, как приходил фотограф и посадил ее подле матушкиных пышных белых юбок, так матушка все ворчала, чтобы Оля сильно не наваливалась на кринолин, и даже втихомолку тыкала ее в бок. Оля думала, так и надо, чтобы матушка строга была, но вот отец уверяет, что она должна быть ласкова…
Ах, сколь много в жизни того, что быть должно, но чего нет и быть не может! И столь же много того, что есть, но быть не должно… Вот взять хотя бы эти неприличные картинки, которые Никола рисовал. Оля про это с прошлого года знала. Да разве только в картинках дело? До сих пор она не могла забыть разговор брата с Алексеем, который как раз приехал в гости в Павловск. Разговор этот услышала она случайно, можно сказать, подслушала. Нет, Оля, конечно, знала, что подслушивать нехорошо, но деться было просто некуда: мальчики внезапно вошли в комнату в ту минуту, когда она доставала из-под стола упавшую книжку. Сразу выпрямиться Оля не могла – зацепилась бантом за какой-то сучок под столешницей да так и осталась сидеть, словно бабочка, пришпиленная булавкой в альбом, когда Никола с досадой сказал, продолжая, очевидно, раньше начатый разговор:
– Да, это дело ведь такое: сестру юбку задрать не попросишь! Когда-то я за Верочкой подглядывал, но что интересного? Малявка! К Оле подойти стесняюсь, да она и не покажет. Вот и придумываю на картинках сам, да что видел в альбомах, да краем глаза подсмотрел в конюшне, когда жеребчик кобылку обхаживал. Но у них же это не так, как у нас? Не как у людей? У кого спросить? У Терентьева, моего воспитателя? Да он зануда, нажалуется матери как пить дать. Ладно бы матери, она меня простит, а если скажет отцу, тот меня живо в полк упечет!
– А чем плохо в полку? – сказал Алеша. – Полк небось где-нибудь да стоит, где люди живут, и женщины там есть. Некоторым только заплати, они тебе все сразу позволят. Хотя, конечно, для этого необязательно в полк идти, ну, чтобы попробовать.
– А где еще? – насторожился Никола.
– Разве не знаешь? Разве тебя еще ни к кому не водили?
– К кому? – не понял Никола.
– Дурак! К женщине! У нас в Царском есть Матреша, она какая-то родня Тимофею Хренову, ну дядьке Сашиному, вроде как двоюродная. Так ей домик отдельный выстроили – вроде как ферма в лесу. Коров она и впрямь держит, но на самом деле она для другого нужна. У нее братья оба побывали – и Саша, и Никса. Саше понравилось, а Никса отказался. Отец тогда рассердился… Я сам слышал, как он матери говорил про это: мол, говорит, наследник престола пусть лучше бабником будет, чем немощным или, того горше, педерастом.
– С мальчишками… – с отвращением проговорил Никола. – Вот гадость!
– Конечно, гадость! – горячо поддержал Алеша. – С женщинами приятнее.
– Ты что, пробовал? – изумился Никола. – Неужто тебя водили к этой Матреше?!
– А ты думаешь! – гордо заявил Алеша.
– Брось, тебе только тринадцать, как и мне… Нам еще нельзя, нам еще рано…
– Кому рано, а кому самое время, – засмеялся Алеша. – Мой воспитатель, Павловский, сказал папа, что мне женщина нужна, иначе я грехом Онана слишком увлекусь. Я рано созрел, вот как он сказал. Это наследственность… Что-то еще он говорил, я больше слушать не мог, меня у двери застали.
– Ты, я смотрю, вечно подслушиваешь? – засмеялся Никола.
– Иначе нельзя, – гордо заявил Алеша. – Если не знать, о чем взрослые между собой говорят, вечно в младенцах сидеть будешь. То есть ружейные приемы знать, без седла скакать и брульоны писать – это ты уже взрослый, о-го-го, а как с женщиной спать – это пожалуйте в детскую, ваше высочество. Вообще я тебе, Никола, советую хоть иногда подслушивать. Очень помогает жить! Одно только трудно: потом не выдать, что ты знаешь, что тебе знать не полагалось. Ох, я однажды влип, как оса в мед… Года два назад, что ли… Папа тогда с мама говорил, что мне надо на рожденье подарить модель Колумбова корабля в восьмую долю натуральной величины и в Царском в саду поставить, чтобы я мог в нем играть, а я хотел ялик собственный с командой. Ну возьми да и ляпни за столом: дескать, не хочу сухопутную модель, а хочу ялик. Папа тогда ну браниться, что непременно это Павловский разболтал, и Павловский, который тут ни сном ни духом, начал оправдываться, но отец не поверил…
– А ты что?
– А я что? Пришлось сознаться. Нельзя же было, чтобы Павловского наказали.