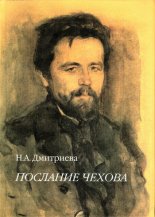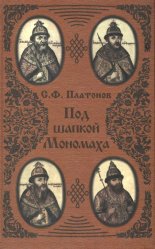Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия Филимонов Виктор

Мертвых надо хоронить, а не пытаться рвать у них больные зубы. Такова, как помним, была одна из центральных мыслей критической статьи Н.А. Добролюбова о романе И.С. Тургенева «Накануне». Другим же, скрытым от цензуры, но имманентно присутствующим в тексте, был тезис о необходимости для России собственных русских Инсаровых-революционеров. Но что принесут они в российское мировоззренческое поле, каковы будут их собственные идеи, ценности и воззрения? Будут ли они согласовываться или расходиться с наличным самосознанием узкого мыслящего слоя России, в первую очередь дворян-помещиков, либералов прежде всего? На эти вопросы в то время еще не было ответов. Их формулирование, содержательное раскрытие и рассмотрение возможных вариантов ответа, по нашему мнению, и взял на себя труд показать Тургенев своим знаменитым – не в последнюю очередь благодаря советской пропаганде – романом «Отцы и дети». Произведение это, как мы полагаем, стало первым в русской философско-литературной мысли публичным мировоззренческим диспутом между русскими либералами и революционными демократами и даже, по своим выводам, романом-прогнозом.
В связи с анализируемыми романами Тургенева, в особенности с последними двумя, гипотеза, которую мы намерены рассмотреть, состоит в следующем. Роман «Отцы и дети» (написанный в 1861 году), действие которого разворачивается в 1859 году, – органичное продолжение идейно-философского содержания романа «Накануне» (год написания – 1860-й, время действия – 1853 год). В романе, образ главного героя которого, как считают некоторые исследователи, списан с Добролюбова и Чернышевского[92], в философско-художественной форме рассматривается предложенная Добролюбовым и, на наш взгляд, очень точная и выразительная концепция-вопрос: «Можно ли повернуть ящик – общество, находясь не снаружи, а сидя внутри него?» То есть в герое Базарове нам предложен один из возможных вариантов «русского Инсарова», но уже после выполнения его болгарским двойником национальной задачи – изгнания турок, и вплотную столкнувшегося с проблемой позитивного преобразования общества, в котором он живет сам и несвобода которого является результатом не внешней силы, а его, общества, собственной природы.
Попробуем представить, как выглядела задача, заочно предлагавшаяся для решения Добролюбовым Тургеневу (пусть не явно, но в добролюбовском критическом выступлении и в контексте неизбежной мысленной полемики), если исходить из принципиальных, сформулированных критиком условий для деятельности «русского Инсарова»? Очевидно, она виделась примерно так. Российское общество – мертвец. Лечить его невозможно. «Либералы-постепеновцы» вроде Рудина, Лаврецкого, Шубина и Берсенева переделать ничего не могут. Да к тому же ни сил, ни представлений, ни плана возможной переделки у них нет. Нужны решительные личности-герои, которые изменят среду – «расчистят место», как выражается Базаров, а уж в ней-то и появятся «новые люди» {8}.
Тургенев, что видно из содержания романа, принял эти предлагаемые Добролюбовым условия. И надо признать, что созданный им Базаров как тип революционера-преобразователя, находящегося внутри общества, но еще в силу своего определенного исторического времени не прибегающий ни к бомбам, ни к револьверу (идея террора, насильственного преобразования действительности придет в российское самосознание пятнадцать – двадцать лет спустя, вслед за идеологией «нигилизма» и отчасти будучи подготовлена именно ей. – С.Н., В.Ф.), не имел иного способа революционного преобразования современного ему общества, кроме как посредством уничтожения (отрицания) части его основополагающих, но, как он полагал, «отживших» норм, принципов, ценностей, идей. То есть, по существу, Базаров прибегает к своеобразному идеологическому террору как предтечи террора физического[93]. И только таким способом, согласимся, он мог обозначить свою конфронтационную позицию и заявить о начале идейной борьбы. Равно как и облегчить себе задачу сдвинуть «ящик – общество» с места, находясь внутри него, тем, что попытался выбросить из него часть его идейно-нравственного содержимого.
По каким же основаниям, что именно, каким образом и насколько последовательно Базаров-Инсаров пытается выбрасывать «ненужное» содержимое из «ящика» – русского общества? Вопросы эти тем более важны, что, как следует из даваемого определения, «нигилизм» – это вовсе не свод отвергаемых «сообществом нигилистов» понятий, отношений, ценностей, принципов и норм, отвергать которые нигилисты, так сказать, договорились. Нет, это нечто субъективно-аморфное. Это – произвольно избираемая каждым субъектом-нигилистом совокупность составных элементов общественного самосознания, по отношению к которым он самочинно решает – отвергать или не отвергать, принимать или не принимать в качестве руководства для самого себя. Согласно приводимому Аркадием определению «нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип»[94]. Этот субъективизм, в дальнейшей истории последовательно превращающийся в авторитаризм, диктатуру и деспотизм, – важнейший элемент феномена «революционности», на основе которого каждый большой и маленький «вождь-нигилист» получает возможность определять, что считать благом, а что – злом, кого назначить другом, а кого – врагом, равно как и какую меру возмездия для каждого врага определить. Итак, очевидно, что основание для определения, что в «ящике» бесполезно, революционером-нигилистом принимается субъективно-произвольно {9}.
Следующий вопрос: каким образом совершается само выбрасывание «лишнего»? То, что предпринимает Базаров при реализации своей задачи «облегчения содержания ящика-общества» перед тем как его «повернуть», есть намеренное упрощение, опошление, редукция до примитивного, едва ли не до дикарского естественно-физиологического уровня. Заметим, что, будучи человеком не глупым и, очевидно, в глубине души сознающим, что что-то в его «вере» не так, он психологически старается подавить это чувство и потому постоянно – завуалированно или открыто – хамит, снижает сложное до простейшего, эмоционально и поведенчески демонстрируя небрежение: зевая, обрывая разговор или даже бесцеремонно покидая собеседника, как, например, это было, когда Базаров и Аркадий, допив у Кукшиной шампанское, встают и, не прощаясь, уходят, а на состоявшемся затем балу демонстративно не замечают недавно радушно принимавшую их хозяйку.
Такое поведение Базаров обнаруживает постоянно, начиная с первого появления в гостях у Кирсановых, при том, что он понимает, что для хозяев в силу закона гостеприимства непозволительно одернуть наглеца. То есть поступает он бесчестно и не может этого не сознавать. Когда же Аркадий, будучи по-родственному задет в ходе одной из «сцен», вяло пеняет ему, что это-де «несправедливо», Базаров беззастенчиво осаживает его вопросом: «Что такое справедливость?», очевидно, подразумевая, что у этого явления нет физиологического (материалистического) основания. Вместе с тем он продолжает считать для себя возможным пользоваться комфортом, который предоставляют ему братья Кирсановы.
Разбирать в подробностях проявления базаровского так называемого «нигилизма», на наш взгляд, малоинтересный и к тому же уже много раз выполненный труд. А вот остановиться на некоторых вопросах, связанных с существом его воззрений, следует. В этой связи прежде всего обратимся к статье М.А. Антоновича – последователя Н.А. Добролюбова по журналу «Современник», жестко-критически оценившего роман в статье, иронически озаглавленной «Асмодей нашего времени» {10}. По мнению революционного критика, взгляды, приписанные Тургеневым Базарову – всего лишь «карикатура, утрировка, происшедшие вследствие непонимания, и больше ничего. Автор направляет стрелы своего таланта против того, в сущность чего он не проник. …Художественно разбирать современный образ мыслей и характеризовать направления ему не следовало бы; он или вовсе не понимает их, или понимает по-своему, по-художнически, поверхностно и неверно; и из олицетворения их составляет роман»[95].
Высказываясь и далее примерно в таком же духе, Антонович заключает: «Извините, г. Тургенев, вы не умели определить своей задачи; вместо изображения отношений между «отцами» и «детьми» вы написали панегирик «отцам» и обличение «детям»; да и «детей» вы не поняли, и вместо обличения у вас вышла клевета. Распространителей здравых понятий между молодым поколением вы хотели представить развратителями юношества, сеятелями раздора и зла, ненавидящими добро, – одним словом, асмодеями»[96].
Спорить с критиком напрасно. Его «аргументация» лишена содержания, а общие негативные выводы выводятся исключительно из его, Антоновича, революционной ориентированности, вступающей в конфликт с либеральной позицией Тургенева[97].
Столь же непродуктивна и полемика с более серьезным оппонентом либералов – революционером П.А. Кропоткиным. Упоминаем же его имя рядом с Антоновичем мы лишь по одной причине: не находя явных аргументов в поддержку Базарова, он, как и литературный критик, опускается до уровня фраз условно-обобщенного характера. Так, например, он утверждает, что Базаров «отрицательно относится ко всем учреждениям настоящего времени и выбрасывает за борт (устоявшаяся идиома, похожая на добролюбовский поворот ящика. – С.Н., В.Ф.) все условности и мелочные притворства жизни обыденного общества»[98].
Следующая часть из поставленного нами вопроса относительно содержимого выбрасываемого из «ящика-общества», или, в формулировке Кропоткина, что должно лететь «за борт», – чему же именно назначается такая судьба? Напомним, что Кропоткин называет это обобщенно: «условностями и мелочными притворствами жизни». Сам же Базаров дает следующий ответ: выбрасывается бесполезное, а оставляется только то, что полезно. Но полезно кому? И тут снова оказывается, что решение целиком зависит от индивидуального революционного, в данном случае – базаровского, произвола. Приведем на этот счет некоторые характерные примеры.
Полезна ли «эмансипированная особа» Кукшина? Вообще-то, нет, но если она готова выставить голодным друзьям завтрак, да еще и шампанское, то она признается Базаровым «полезной», и друзья идут к ней в гости.
Полезен ли, как полагает Базаров, «предмет забавы» Николая Петровича – Фенечка? Если для Николая Петровича, у которого, по определению нигилиста, «губа не дура», то суждение Базарова отрицательное. Да и на Аркадия он готов свое отрицательное, не лишенное оттенка подлости суждение распространить: «Видно, лишний наследничек нам не по нутру?»[99] А вот для собственного удовольствия Евгения Васильевича Фенечка очень даже полезна. И хотя ничего, кроме добра от дома Кирсановых, он не видел, «демократ» не может отказать себе в маленькой плотской утехе – насильственном поцелуе.
Полезен ли базаровский знакомец Ситников? Казалось бы, человек пустой и никчемный. Более того, Базаров постоянно шпыняет его за отца – винного откупщика, то есть постоянно напоминает сыну, что его отец спаивает народ. Кажется, очевидно – вреден. Но с точки зрения утверждения в обществе самого Базарова (а он, оказывается, несмотря на свои намеренно-горделивые и одновременно уничижительные самохарактеристики – «мой дед землю пахал», «лекарь я и лекарский сын» – и об этом думает) – нет: «Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..»[100]
О полезности для народа «демократ Базаров» судит решительно: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.
– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте – логика истории требует…
– Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся»[101].
При этом сам Тургенев дает нам понять, что, вообще-то, «в народе» Базаров разбирается не слишком хорошо, да и народ к нему в основном относится как к непонимающему «барину». Так, накануне дуэли встреченный Базаровым мужик не снял перед ним шапки, но затем, когда Базаров был вместе с Павлом Петровичем, не только снял шапку, но и «забочил» лошадь. И еще, когда Базаров уже в отцовской деревне пытался говорить с мужиком, то за этим следует ремарка Тургенева, что Базарова мужики считали за «шута горохового»[102].
Так может ли говорить от имени народа такой «демократ», признанный за демократа лишь революционными критиками? Думаем, что и у самого Тургенева есть отчетливые указания на то, что демократизм базаровых – вещь конъюнктурно-показная и всего лишь средство для того, чтобы перевернуть общественную пирамиду с ног на голову, чтоб самим оказаться на вершине. И дело не только в «откровениях» по поводу Ситникова, услышав которые Аркадий справедливо подумал, что и ему Базаров также отводит роль обжигателя горшков при дворе нового разночинного царя.
Нецивилизованность Базарова к демократизму, о котором он якобы печется, привести не может. Демократическое общество складывается не у дикарей, не у «обжигателей горшков», а у экономически независимых, культурных личностей. Для появления же личностей, кроме экономической самостоятельности, важна та самая культура и ее преемственность, которую и олицетворяют собой братья Кирсановы, Аркадий, Одинцова. Поэтому Базаров, учитывая его мировоззрение, привычки, склад ума, агрессивную нецивилизованность, будь на то его воля, смог бы построить лишь очередную дикарскую деспотию с собой во главе.
Вопросы о демократии, свободе, культуре, постепенно делавшиеся главными в размышлениях русских мыслителей, в дальнейшем будут нами постоянно рассматриваться. Пока же отметим, что революционные персонажи в классической русской литературе и XIX, и XX столетия были не в ладах с культурой и, кроме ее разрушения, иных рецептов ее изменения не предлагали. В результате, отчасти и по этой причине, они не только не освобождали народ от деспотизма, но, когда им случалось побеждать, неизменно заменяли «просвещенный деспотизм» «деспотизмом варварским», еще более страшным.
Суждение это будет раскрываться по мере нашего дальнейшего исследования. А пока зафиксируем, что, на наш взгляд, именно с Тургенева, с его образа разночинца Базарова, начинается отсчет длинной вереницы отечественных революционных переустроителей российского мира и многие черты, замеченные автором романа в этом персонаже, в дальнейшем вновь дадут о себе знать[103].
Роман Тургенева, при том, что изначально был посвящен имевшейся в тогдашнем российском обществе действительной проблеме конфликта «отцов и детей», на самом деле оказался первым русским исследованием возможности утверждения в обществе деспотии революционной разночинной посредственности через уничтожение деспотии монархической, отчасти поддерживаемой либеральным дворянством. К счастью, тотальное российское раздолбайство (например, у уездного лекаря ланцеты тупы и «адского камня», даже при работе в зоне тифозной эпидемии, при себе нет!) в данном случае выполняет роль защитной реакции: самоназванный «демократический» вождь гибнет от яда мужицкого трупа. Этот сюжетный ход, на наш взгляд, обнажает перед нами не игрушечный, базаровский, а настоящий великий исконный российский нигилизм как отрицание культуры во всех ее проявлениях, в том числе и в форме культуры профессиональной. Вы, господин Базаров, хотели торжества нигилизма, так извольте получить. Вот потому-то нам и жалко этого несимпатичного грубияна, что гибнет он не от своего, наполовину показного, наполовину потешного «нигилизма», а от столкновения с чудовищным реальным явлением – отсталостью и дикостью российского бытия, чуждого культуре, построенного и продолжающего существовать на фундаменте небрежения человеческой жизнью. Символический финал, в особенности если смотреть на столкновение Базарова и Кирсановых не как на личностный или даже сословный конфликт, а как на модель конфликта реальной просвещенно-монархической деспотии и примеряющейся к реальному бытию деспотии варварско-разночинной {11}.
На наш взгляд, именно это существо конфликта, может быть, безотчетно, но все-таки понимали и потому страшились обозначаемой им очевидной для себя бесперспективности реальные революционные сторонники героя романа, поскольку бессознательно игнорировали явные авторские указания и свидетельства. Так, цитировавшийся нами Кропоткин честно «не видит» того, что изображение базаровского отношения к «подпевале» Ситникову, да и к своему «идейному товарищу» Аркадию, как к полезным ему рабам, «обжигателям горшков» никак не согласуется с его, Кропоткина, утверждением, что Базарова всегда отличает решение вопросов в демократическом духе, «без всякой примеси старых предрассудков».
Кропоткин также честно не замечает, что суждение о Николае Петровиче Кирсанове как о человеке, живущем «ленивой жизнью помещика», – только часть из сказанного Тургеневым. Другая же часть тургеневского свидетельства о Кирсановых состоит в том, что и сам Николай Петрович не просто ленивец, да и сын его, Аркадий, хозяйственные дела в отцовском имении поправил, «сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход»[104]. Не в выводах ли подобного рода и заключается один из вариантов авторского ответа на проблему «отцов и детей»?
Кстати сказать, в этом же позитивном ключе, ключе преемственности и культуры, решен в романе и вопрос о самом Базарове. Ведь он – лекарский сын, который честно продолжал дело своего отца и делал это столь не по-российски научно, аккуратно и педантично, что начал не по обязанности, а только ради поддержания профессионального уровня вскрывать труп умершего, хотя это было дело уездного лекаря! То есть в главном, профессиональном деле Базаров, как и Аркадий, дает ясный ответ на пресловутую проблему «отцов и детей»: дети продолжают дела отцов, и это продолжение возможно только в традиции созидания и культуры, а не разрушения и нигилизма.
Вопреки известным нам критико-литературоведческим заключениям о герое романа возьмем на себя смелость утверждать, что Базаров не столько жил, сколько болел нигилизмом и погиб именно от этого разнесенного по всей стране микроба. Потому что на самом деле настоящий нигилизм, которым, к сожалению, переполнено наше общество, есть не столько псевдореволюционная болтовня, сколько наше родное и давно ставшее привычным российское раздолбайство. Именно уездный лекарь Сидор Сидорыч, вначале ставший причиной заражения Базарова, а затем призванный лечить его и постоянно просящий для себя то трубочки, то «укрепляюще-согревающего», и есть одно из многочисленных проявлений подлинного нигилизма, реального отрицания культуры, варварства.
Сам же Базаров, заболев и будучи поставлен на грань жизни и смерти, как нам представляется, в силу имеющихся у него рациональных оснований, а также природного здравого смысла от псевдо радикальных, но тем не менее опасных революционных игрушек отказывается, от нигилизма излечивается. В последних сценах мы не узнаем его – ни в отношениях с родителями (прежде: «Ну, подождут, что за важность!), ни в отношениях с Одинцовой (прежде, в русле «нигилистического взгляда»: «богатое тело!»).
Также перед приближающимся «гамбургским счетом» разрешается и еще одна болезненно-бредовая нигилистическая установка Базарова – его отношение ко времени. Как помним, декларируя идеологическую «могущественность» нигилизма, в отношении времени разночинец заявлял: «Отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня»[105]. Теперь, оказавшись на пороге смерти, Базаров перерождается, и мы видим совершенно иного человека – хочется верить, продолжателя лучших традиций культуры человечества. Во всяком случае, в последние часы жизни Базаров заботливо-охранителен по отношению к своим бедным родителям, нежно-великодушен с любимой женщиной, по-сократовски стоически-героичен перед лицом смерти. И наверное, не только, чтобы угодить матери, он соглашается на совершение над ним христианского обряда. Думаем, окажись в этот момент рядом братья Кирсановы, он и с ними попытался бы заменить прежние конфронтационно-разрушительные отношения на иные, дружески-примирительные. Это, конечно, надежда. Но во всяком случае то, каким мы наблюдаем Базарова на пороге смерти, радикально отлично от его прежнего образа «нигилиста».
Похоже, с приближением смерти для Базарова заканчивается время, при котором, как он утверждал ранее, «полезнее всего отрицание – мы отрицаем»[106]. Напротив, начинается время, когда надо строить, по крайней мере, то, что в данный момент доступно – изменять отношение к родителям, к Одинцовой, к религии. И оказывается, что строительство есть продолжение того лучшего, что раньше подвергалось Базаровым огульному отрицанию[107]. Таким образом, один из «детей» решил пресловутую проблему тем, что принял ценности отцов.
В этом контексте становится понятным и парадокс, отмечавшийся исследователями тургеневского творчества. С одной стороны, в отношении писателя к Базарову мы не наблюдаем ни поэтического ореола, ни нежной любви, которыми Тургенев традиционно окружает своих главных героев, а с другой – в одном из тургеневских писем есть такие строки: «Я сделал из него (Базарова. – С.Н., В.Ф.) лицо трагическое – тут было не до нежностей. …Если читатель не полюбит Базарова со всею его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью – если он его не полюбит, повторяю я, – я виноват и не достиг своей цели»[108]. Полюбить же Базарова нам позволяет не его ум и сила, которая «ломит и уже потому права», но его преображение, встраивание в контекст человечности и культуры, когда дети становятся улучшенным продолжением своих отцов и, в свою очередь, открывают пути своим детям {12}.
Безусловно прав Н.Н. Страхов в своем заключении о романе Тургенева: «Итак, вот оно, вот то таинственное нравоучение, которое вложил Тургенев в свое произведение. Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви; не порочит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате. Базаров отрицает тесные связи между родителями и детьми; не упрекает его за это автор, а только развертывает перед нами картину родительской любви. Базаров чуждается жизни; не выставляет его автор за это злодеем, а только показывает нам жизнь во всей ее красоте. Базаров отвергает поэзию; Тургенев не делает его за это дураком, а только изображает его самого со всею роскошью и проницательностью поэзии.
Одним словом, Тургенев стоит за вечные начала человеческой жизни, за те основные элементы, которые могут бесконечно изменять свои формы, но в сущности всегда остаются неизменными.
…Общие силы жизни – вот на что устремлено все его внимание. Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, который их отрицает; он показал нам если не все более могущественное, то более открытое, более явственное воплощение их в тех простых людях, которые окружают Базарова. Базаров – это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою.
Как бы то ни было, Базаров все-таки побежден; побежден не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни. Такая идеальная победа над ним возможна была только при условии, чтобы ему была отдана всевозможная справедливость, чтобы он был возвеличен настолько, насколько ему свойственно величие. Иначе в самой победе не было бы силы и значения.
Гоголь о своем „Ревизоре“ говорил, что в нем есть одно честное лицо – смех; так точно об „Отцах и детях“ можно сказать, что в них есть лицо, стоящее выше всех лиц и даже выше Базарова, – жизнь»[109].
Хотя роман И.С. Тургенева «Дым» появился после «Отцов и детей» только спустя шесть лет, в 1867 году, одна из ведущих линий, намеченная в «Отцах», – линия творческого усвоения русским обществом западных ценностей или признания их «негодными» и, следовательно, поиска иных, в том числе исконно-самобытных, начал, – линия эта в романе была продолжена. Объяснение необходимости поддержания давнего спора, начатого Чаадаевым и Хомяковым еще в конце 30-х годов, в существенной мере заключалось в том, что сам отказ от феодализма в России в виде отмены системы крепостной зависимости произошел лишь отчасти. Не только крестьянство, получившее всего лишь личное освобождение и вынужденное выкупать у помещиков свое средство существования – землю, оставалось зависимым сословием. Юридически несвободными по-прежнему были и дворяне, помещики в том числе.
Важно отметить, что освобождение от крепостничества в России не было результатом имманентного развития общества. То есть в обществе, в его земледельческих слоях прежде всего, к началу 60-х годов еще не сформировались те силы, которые бы своим влиянием привели к уничтожению крепостного права, а в дальнейшем инициировали установление новых капиталистических отношений. Освобождение было даровано монархом, было милостью «сверху» и, значит, в земледельческих слоях не рассматривалось как «свое», как выстраданный этими слоями хозяйственный и общественный результат, к которому они стремились, на который длительное время работали, в процессе этой работы преобразовывая себя. Напротив, будучи привнесено извне, освобождение многими помещиками и крестьянами рассматривалось лишь как новая, навеянная подражанием Западу мода, как жизненная сложность, ломающая привычный уклад, и даже как «несчастье».
Естественно, что свойственная капитализму экономическая и политическая свобода в системе российских хозяйственных и общественных ценностей по-прежнему не занимала сколько-нибудь видного места. Многие видели в ней лишь обузу, которую монарх неизвестно для чего велел поставить на место веками складывавшейся системы тотального «господства – подчинения» с упованием, при особо тяжких обстоятельствах, на помощь милостивого к своим подданным его, царя-батюшки.
Содержательная логика отмены крепостничества для крестьян и помещиков была такова. Со стороны крестьян она заключалась в дележе свалившейся сверху и давно желаемой божеской справедливости, подарком от власти, а не логическим итогом их собственной экономической и политической борьбы, за который нужно было все-таки платить. Со стороны помещиков аграрная революция сверху виделась в форме инициированной царем незаслуженной и оскорбительной для сельских дворян материальной потери, с которой им приходилось мириться. В этой содержательной логике и происходил реальный раздел, при котором были недовольны обе стороны.
Сколько-нибудь улучшить эту ситуацию не удавалось даже такому либеральному помещику, каковым на деле был, например, сам Тургенев. В общении с крестьянами он сталкивается не только с равнодушием, но и с открытой ненавистью. В отношении него – «доброго барина» – у мужиков прорывались презрение и злоба. В этой связи в одном из писем Полонскому он сообщал: «С моими крестьянами дело идет – пока – хорошо, потому что я им сделал все возможные уступки, – но затруднения предвидятся впереди». И далее: «Будем мы сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай и вдруг увидим, что к балкону из церкви по саду приблизится толпа Спасских мужичков. Все, по обыкновению, снимают шапки, кланяются и на мой вопрос: «Ну, братцы, что вам нужно?» – отвечают: «Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй… Барин ты добрый, и оченно мы тобой довольны, а все-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж кстати вот и их (указывая на гостей) повесить». А в письме А. Анненкову признавался: «Мои уступки доходят до подлости. Но Вы знаете сами, что за птица русский мужик: надеяться на него в деле выкупа – безумие. Всякие доводы теперь бессильны»[110].
Надо отметить, что увиденный Тургеневым в деле освобождения русский крестьянин часто коренным образом отличается от земледельцев – героев рассказов 40–50-х годов. Ю. Лебедев в этой связи пишет: «Знакомясь с письмами Тургенева 60-х годов, невольно замечаешь, как постепенно ослабевает вера автора «Записок охотника» в высокие нравственные качества русского мужика. В одном из писем срываются горькие слова: «Странное дело!.. Честности, простоты, свободы и силы нет в народе – а в языке они есть… Значит, будут и в народе»[111].
Год от года общественно-политическая ситуация в стране накалялась. Однако понимания выхода из кризисного состояния не было ни в либеральном, ни в революционно-демократическом лагере. При этом назревавший в конце 50-х годов и в особенности в связи с опубликованием романа «Отцы и дети» раскол между видными представителями двух литературных лагерей – Добролюбовым и Чернышевским, с одной стороны, и Тургеневым – с другой, вплоть до смерти Добролюбова в конце 1861 года усугублялся. Позиция революционных демократов все более склонялась к тому, чтобы любыми средствами вызвать в стране крестьянскую революцию. По этому поводу, кстати, произошел разрыв между Чернышевским и жившим в эмиграции Герценом. Так, специально приехавший в Лондон для беседы с Герценом Чернышевский не смог убедить издателя «Колокола» в том, что в России действительно назревает революция. В свою очередь Герцен не смог доказать революционному демократу, что загодя подталкивать крестьянство к бунту не только преждевременно, но и вредно и что освистывание либералов объективно играет на руку реакции.
Среди либералов одним из главных объектов нападок со стороны революционных демократов стал автор «Записок охотника». Взглядов своих на счет либеральной будущности России писатель никогда не скрывал и, в частности, открыто заявлял, что видит в русском дворянстве не только реакционность, но и его позитивную миссию и конструктивный вклад в историю России. Например, еще осенью 1859 года в своих спорах с Л. Толстым он говорил о роли дворянства в предстоящих реформах следующее: «Русский дворянин служил и служит – и в этом его сила. Владение крестьянами – явление случайное, вызванное не столько необходимостью, сколько неуменьем и недоразуменьем… Русский дворянин служит земле… Но есть разные службы. Было время, когда дворяне служили земле, умирая под стенами Казани, в степях Азовских; но не всегда одной крови требует от нас наше отечество; есть и другие жертвы, другие труды и другие службы – и наше дворянство не отказывается от них. Дворянство на Западе стояло впереди народа, но не шло впереди его; не оно его двигало, не оно его влекло за собою по пути развития. Оно, напротив, упиралось, коснело, отставало… У нас мы видим явление противоположное… дворянство наше, оно служило делу просвещения и образования. Наши лучшие имена записаны на его скрижалях. И сейчас, когда сам царь сливается с земским делом, призвание дворянства – следовать за царем»[112].
В таком идейно-психологическом климате 60-х годов и продолжались давние споры русских западников и славянофилов. И если первые не уставали настаивать на необходимости утверждения в России развивавшейся на Западе общественно-политической системы, основанной на собственности, экономической эффективности, свободе и правах человека и гражданина, то славянофилы, обуреваемые чувством ложно понятой национальной гордости, старались измыслить некий особый русский путь. Впрочем, время требовало конкретных ответов на конкретные проблемы дня – например, на вопрос об отмене крепостного права. И здесь сторонникам славянской идеи приходилось измысливать нечто почти невероятное.
Так, несмотря на признававшуюся славянофилами порочность системы крепостного права, представления о «милостивом господстве отцов-помещиков и сыновьем подчинении общинников-крестьян», они продолжали помещать в основу своей идеологии. Наряду с аграрным сервилизмом идеология эта включала обоснования принципиально отличной от западной Европы русской «особости», содержала веру во всемирно-историческую миссию русского народа, якобы предопределенную ему самим Богом[113]. Эта примитивная казуистика не на шутку раздражала убежденного западника Тургенева, что и нашло свое отражение, в частности, в его новом романе «Дым» – романе наиболее полемичном и идеологически заостренном.
В отличие от прошлых романов, в которых герои делаются настоящими рациональными хозяевами лишь в финале (Лаврецкий – в «Дворянском гнезде», Аркадий Кирсанов – в «Отцах и детях»), главный герой «Дыма» – помещик Григорий Иванович Литвинов предстает перед читателем хозяином уже сформированным – в конце своей четырехлетней заграничной командировки, в ходе которой он прилежно изучал в Германии, Бельгии и Англии агрономию и технологии сельскохозяйственного производства. Следует отметить, что решение «учиться с азбуки» на Западе к нему пришло не от скуки, а от желания действительно поставить в России эффективное хозяйство, принести пользу своим землякам, а может быть, и всему краю. При этом, что также значимо для понимания мировоззренческой направленности тургеневского романа, этот «рациональный хозяин» – не чистокровный дворянин. Отец его происходил из мелких чиновников и под влиянием европейски образованной, но плохо управлявшейся с хозяйством помещицы-жены часто при общении с крестьянами принужден был сдерживать свои старозаветные порывы. Так, обычно первой его внутренней реакцией на какую-либо хозяйственную оплошность было: «Эх! Взял бы, да выпорол!» Но, будучи уже до некоторой степени хозяином цивилизованным, вслух только произносил: «Да, да, это… конечно; это вопрос»[114].
То, что Литвинов, по тургеневской классификации, «строитель» и в нем в известной степени заключена надежда писателя на конструктивное развитие России, верно отмечается в отечественном литературоведении. «В конце 60-х годов, по Тургеневу, на первый план как раз и вышла задача терпеливого и скромного практического труда. Но этот труд имел мало общего с типичным буржуазным предпринимательством, с жаждой только личного обогащения», – отмечает, например, Ю. Лебедев[115].
Вот как встраивает свои взгляды Тургенев в строй романного повествования. С первых глав он вводит своего героя-помещика в круг отдыхающих в Бадене русских славянофилов, занятых спорами о будущей судьбе родины. Что же представляют собой эти люди? Каков круг их интересов? О чем они говорят?
Как и положено кружку, члены которого претендуют на вселенскую миссию, одна из их ведущих содержательных интенций – возвеличивание своего лидера-гуру. Вот как говорит о нем встретившийся Литвинову один из адептов кружка, не преминувший пообедать за его, Литвинова, счет, некто Бамбаев: «Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о… о… о!..
– О чем это сочинение? – спросил Литвинов.
– Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бекля… только поглубже, поглубже… Все там будет разрешено и приведено в ясность.
– А ты сам читал это сочинение?
– Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать, всего! Да! – Бамбаев вздохнул и сложил руки. – Что, если бы еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой!»[116]
Далее следует встреча с «гуру». Поднявшись в гостиничный номер, Литвинов увидел Губарева – господина небольшого роста, помещичьей наружности – «почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкой шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом». Речей он не произносил, отделываясь ничего не значащими междометиями или словами типа: «мм… это… это заметить надо» или «тут… нужна другая мера». Зато за него говорили последователи и ученики. В этот вечер в салоне солировала некто Матрена Семеновна Суханчикова, которая пересказывала всяческие сплетни касательно особ как известных, так и малозначительных. Так, она говорила «о Гарибальди, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, о Наполеоне III, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать работниц и получившем за это медаль с надписью «за полезное», о пролетариате, о грузинском князе Чукчеулидзове, застрелившем жену из пушки, и о будущности России»[117].
Однако у нее был и общественно полезный проект: «Надо всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Болеслав Стадницким. Болеслав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Все смеется… Дурак!»[118]
Впрочем, в один из моментов общего разговора Губарев неожиданно вставляет несколько фраз. «Ммм… А община? – глубокомысленно произнес Губарев и, прикусив клок бороды, уставился на ножку стола. – Община… Понимаете ли вы? Это великое слово! Потом, что значат эти пожары… эти… эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? И, наконец, то, что происходит в Польше? Разве вы не видите, к чему это все ведет? Разве вы не видите, что… мм… что нам… Нам нужно теперь слиться с народом, узнать… узнать его мнение? – Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение; он даже побурел в лице и усиленно дышал, но все же не поднимал глаз и продолжал жевать бороду. – Разве вы не видите…
– Евсеев подлец! – брякнула вдруг Суханчикова…»[119]
Впрочем, такой странный разговорный контекст ничуть не мешает посетителям салона адресоваться к Губареву с высочайшим почтением. «Замечательно, поистине замечательно было то уважение, с которым все посетители обращались к Губареву как наставнику или главе; они излагали ему свои сомнения, повергали их на его суд; а он отвечал… мычанием, подергиванием головы, вращением глаз или отрывочными, незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости. Сам Губарев редко вмешивался в прения; зато другие усердно надсаживали грудь. Случалось не раз, что трое, четверо кричали вместе в течение десяти минут, и все были довольны и понимали»[120]. Такова атмосфера салона, таково «содержание» произносимых в нем речей. Что же представители другого лагеря – западников?
Верный своему художническому приему – не осуждать, но демонстрировать, Тургенев уже в следующей главе знакомит читателя с представителем другой оппонирующей стороны – западником, отставным надворным советником Созонтом Ивановичем Потугиным.
Поскольку Потугин, так же как и Литвинов, был свидетелем «Вавилонского столпотворения» с Губаревым во главе, то первый естественный вопрос, который задал ему герой: отчего эти господа так хлопочут? «В том-то и штука, что они и сами этого не ведают-с», – последовал ответ. По мнению Потугина, вопрос о будущности и мировом значении России, причем «от яиц Леды, бездоказательно, безвыходно», – это какой-то типично русский пунктик национального сознания, как у англичан – экономический разговор, а у французов – разговор мужчин о «клубничке».
Что же в таких идейных междусобойчиках говорится о Западе? Он конечно же «гнилой». Но хоть бы действительно его презирали! А то – все фраза и ложь. «Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть в сущности мнением парижских лоботрясов»[121].
«Отчего же столь влиятелен Губарев, не имеющий ни дарований, ни способностей?» – интересуется Литвинов. «А у него много воли», – следует ответ. «Мы, славяне, вообще, как известно, этим добром не богаты и перед ним пасуем. Господин Губарев захотел быть начальником, и все его начальником признали. Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь направление над нами власть возьмет… теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались… Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтобы у нас был барин. Ну, вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все остальное нам наплевать! Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился – старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде у нас происходили проделки! …А народ мы тоже мягкий; в руки нас взять не мудрено. Вот таким-то образом и господин Губарев попал в барья; долбил-долбил в одну точку и продолбился. Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает – главное, приказывает; стало быть, он прав и слушаться его надо. …Кто палку взял, тот и капрал»[122]. Далее Потугин останавливается на идеологии славянофильского движения.
«Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надежды и чуть что, так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, к которым господин Губарев себя причисляет: прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и задора, тоже живут буквой «буки». Все, мол, будет, будет. В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле… Но постойте, потерпите: все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому, что мы, мол, образованные люди, – дрянь; но народ… о, это великий народ! Видите этот армяк? Вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены; будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не выдаст… А стоило бы только действительно смириться – не на одних словах – да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас и прежде нас!»[123]
На возражение Литвинова, что перенимаемое должно соответствовать местным российским традиция, климату, почве, Потугин резонно возражает, что по-иному и отбирать не имеет смысла: ведь перенимать-то станут не потому, что оно чужое. А по тому, что оно русским подходит. И вообще «бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы; точно так же как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, – способны одни праздные люди»[124].
Конечно, теперь, после отмены крепостного права много найдется пройдох и тупиц, которые с торжеством указывают на бедность крестьян после освобождения. Да ведь кто сказал, что к хорошему переходят через лучшее? Нет, через худшее – «через худшее к хорошему!».
В разговоре Потугин излагает свое кредо: «…я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, – цивилизации, – да, да, это слово еще лучше, – и люблю ее всем сердцем. И верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци…ви…ли…зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог) – и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут… бог с ними!
– Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?
Потугин провел рукой по лицу.
– Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.
Литвинов пожал плечами.
– Это старо, Созонт Иваныч, это общее место.
– Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например: свобода и порядок – известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас: чиноначалие и безурядица? И притом разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: презренная буржуазия, souverainitе du peuple (главенство народа), право на работу, – разве они тоже не общие места?»[125]
По свидетельству историков литературы, до известной степени Тургенев отождествлял себя со своим героем и потому излагаемые им мысли важны для понимания мировоззрения самого писателя. В чем же главный пафос его позиции?
Если попытаться взглянуть на спор западников и славянофилов беспристрастно, то приводимые западниками доводы не заслуживают того тотального неприятия, которое имело место в действительности. В самом деле, сомнительны постоянные славянофильские упования на некий природный ум россиян, который столь могуч, что не требует учения, их осанна так называемым «самородкам». По оценке Потугина, как правило, это «какое-то лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка», не более. По меньшей мере странно и методично повторяющееся при каждом мало-мальском случае желание любое действительное достижение или открытие тут же произвести в ранг высшего мирового достижения, поставить в пример другим народам. Насколько это правомерно и соответствует ли реальному вкладу в общую сокровищницу человечества?
«Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно (продолжает разговор с Литвиновым Потугин. – С.Н., В.Ф.), нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность – энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну-с, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, – наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут – эти наши знаменитые продукты – не нами выдуманы. Подобного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошние жители какие-то лодки да копья изобрели: посетители бы заметили их отсутствие. Это клевета! Это слишком резко – скажете вы, пожалуй… А я скажу: во-первых, что я не умею порицать, воркуя, а во-вторых, что, видно, не одному черту, а и самому себе прямо в глаза смотреть никто не решается, и не одни дети у нас любят, чтоб их баюкали»[126]. И так далее в том же духе.
То, что у другой стороны спора – славянофилов – не нашлось резонных возражений, свидетельствует прежде всего тот факт, что, не оппонируя по существу, все свое несогласие с Потугиным – Тургеневым они заключили в возражение, что Тургенев-де смотрит на Россию издалека, почти как иностранец, не знает и не понимает ее. В художественной форме этот довод воспроизвел Ф.М. Достоевский, посоветовавший Тургеневу приобрести телескоп, чтобы из французского прекрасного далека лучше разглядывать своих современников в России. Более того. Тургеневский обличитель даже дошел до фраз: «…нельзя же слушать такие ругательства на Россию от русского изменника, который мог бы быть полезен. Его ползанье перед немцами и ненависть к русским я заметил давно»[127].
Сказано язвительно и злобно. Но какое это имеет отношение к существу сформулированных тезисов? Получается, что аргументированно ответить нечего и правота в споре остается на стороне западника-Тургенева.
Нарисованная автором «Дыма» картина общественной жизни России, представленная двумя ее ведущими идеологическими силами, была бы неполной без обозначения точки зрения власть имущих. В романе она дается следующей за главами о славянофилах и западниках – сценой так называемого генеральского пикника. Причем лица, его составляющие, по всей видимости, близко стоят к тем, кто принимал решения об отмене крепостного состояния, о реформах судебной и местного самоуправления. Генералы – из числа влиятельного властного, «вышесреднего» слоя, который, с одной стороны, вынужден был подчиняться монаршьему своеволию, но, с другой стороны, не считал себя обязанным принимать царскую волю вплоть до изменения собственного образа мыслей. Тем более что царские решения чувствительно ударили по его благосостоянию.
Разговор сразу же касается существа реформы. «Мы разорены – прекрасно; мы унижены – об этом спорить нельзя; но, крупные владельцы, мы все-таки представляем начало… un principe (принцип). Поддерживать этот принцип – наш долг. …Когда некоторое, так сказать, омрачение овладевает даже высшими умами, мы должны указывать – с покорностью указывать (генерал протянул палец), – указывать перстом гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны предостерегать; мы должны говорить с почтительною твердостию: «Воротитесь, воротитесь назад…» Вот что мы должны говорить.
…Генерал опять вежливо взглянул на Литвинова. Тот не вытерпел.
– Уж не до семибоярщины ли нам вернуться, ваше превосходительство?
– А хоть бы и так! …надо переделать… да… переделать все сделанное.
– И девятнадцатое февраля?
– И девятнадцатое февраля, – насколько это возможно. …А воля? – скажут мне. Вы думаете, сладка народу эта воля? Спросите-ка его…»[128]
Откровенная речь генерала постепенно доходит до главной проблемы российской общественной жизни – ее развития толчком извне, в данном случае – монаршьей волей ограничения средневековых порядков, а не присущими ей процессами внутреннего развития.
«Я сейчас сказал, что надобно совсем назад вернуться. Поймите меня. Я не враг так называемого прогресса; но все эти университеты да семинарии там, да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, tout ce fond du sac, la petite propriete, pire que le proletariat (все эти подонки, мелкие собственники, хуже пролетариата)… – voila ce qui meffrae… (вот что меня пугает)… вот где нужно остановиться… и остановить. …Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например, – разве кто его просит? Вы его разве просите? Или ты? Или вы, mesdames? …Друзья мои любезные, зачем же зайцем-то забегать? (Выделено нами. – С.Н., В.Ф.) Демократия вам рада, она кадит вам, она готова служить вашим целям… да ведь это меч обоюдоострый. Уж лучше по-старому, по-прежнему… верней гораздо. Не позволяйте умничать черни да ввертесь аристократии, в которой одной и есть сила… Право, лучше будет. А прогресс… я собственно не имею ничего против прогресса. Не давайте нам только адвокатов, да присяжных, да земских каких-то чиновников, да дисциплины, – дисциплины пуще всего не трогайте, а мосты, набережные, и гошпитали вы можете строить, и улиц газом отчего не освещать?
…– De la poigne et des formes! (Сильная власть и обхождение!) – воскликнул тучный генерал, – de la poigne surtout! (сильная власть в особенности!). А сие по-русски можно перевести тако: вежливо, но в зубы!»[129]
Изложенная в этой формуле позиция реальной российской власти – не фигура речи. Например, в истории центрального персонажа генеральского кружка – мужа Ирины генерала Ратмирова – автор приводит конкретный случай материализации этой позиции. Несмотря на свойственную Ратмирову «легкую как пух примесь либерализма», это не помешало ему перепороть пятьдесят человек крестьян во взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения.
Пребывание Литвинова за границей, в том числе и его учеба после краха отношений с Ириной, завершается возвращением в Россию. Едет он в деревню, где вплотную начинает заниматься устройством аграрных дел. В отцовском имении он застает расстроенное хозяйство и «без надежды, без рвения и без денег» начинает хозяйничать. Естественно, что применение приобретенных за границей знаний и навыков было отложено на неопределенное время. «Нужда заставляла перебиваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки – и вещественные, и нравственные. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый сталкивался с недобросовестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово «свобода» носилось как божий дух над водами. Терпение требовалось прежде всего, и терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас…
…Но минул год, за ним другой, начинался третий. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть: выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам – ни явным, ни тайным. Сам Литвинов хотя и кончил тем, что отдал большую часть земли крестьянам исполу, т. е. обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако кой в чем успел: возобновил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными работниками, – а перебывало их у него целых сорок, – расплатился с главными частными долгами… И дух в нем окреп…»[130]
Завершив этим, хотя и без детализации, «хозяйственную линию» романа, Тургенев не преминул дать свое видение и некоторой перспективы материализации в реальности идеологии славянофильства. Делается это эскизно, но главная мысль – полное ее совпадение с мировоззрением противников отмены крепостного права, проявленное, в частности, на «генеральском пикнике», очевидно. По ходу развития сюжета произведения случается так, что на одной из станций Литвинов встречает господина Губарева, возмущенного тем, что ему с братом не дают лошадей.
«– Па-адлецы, па-адлецы! – твердил он медленно и злобно, широко разевая свой волчий рот. – Мужичье поганое… Вот она… хваленая свобода-то… и лошадей не достанешь… па-адлецы!
– …Бить их надо, вот что, по мордам бить; вот им какую свободу – в зубы…»[131]
Романом «Дым», который многие исследователи считают одним из лучших тургеневских произведений, после его выхода были недовольны все. Консерваторы – недоброжелательным изображением высшего общества, революционеры – невниманием к зарождающейся, по их мнению, народной революции, славянофилы – культурной «дискредитацией» России, ее «уничижительным» изображением в сравнении с Западом. И почти никто не заметил того конструктивного, «строительного» элемента, который вновь, как и в предыдущих романах, дал о себе знать в данном случае в истории жизненного дела Литвинова – хозяйствования в России. Впрочем, само дело было пока еще слишком незаметно, только зарождалось, а заложенное свободой семя только «давало росток». Но росток креп и в следующем, финальном произведении тургеневской романной эпопеи (а именно так, на наш взгляд, следует рассматривать эти шесть крупных произведений, концентрированно выражающих мировоззрение писателя) получил дальнейшее развитие.
После отмены крепостного права некоторые общественные слои России начали пробовать свои силы в форматах низовой организационной работы, прежде всего с крестьянством. Так, в среде народников в конце 60-х – начале 70-х годов возникло так называемое хождение в народ. Общей для сторонников этой формы революционной организации в то время, как известно, была уверенность в некапиталистическом пути развития России, в неизбежности революционных преобразований в стране и в особой роли в этом процессе крестьян и общины. При этом если М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин высказывались за немедленное провоцирование бунта в крестьянской среде, за насильственный слом государственной машины, то сторонники П.Н. Ткачева в «подъем масс» не верили и отстаивали идеи заговора «революционного меньшинства». Что же до П.Л. Лаврова и его последователей, то свою цель они видели прежде всего в длительной пропагандистской работе в крестьянских массах.
Отдавая должное несомненной самоотверженности и идейному пафосу, присущему революционерам, Тургенев тем не менее стоял на более умеренных и, как показала дальнейшая российская история, более верных позициях. Предварив роман эпиграфом о том, что целина, «новь» требует от земледельца не работы сохой, которая лишь «царапает» землю, а глубоко забирающего плуга, в письме М.М. Стасюлевичу от 7 августа 1876 года он разъяснял: «…плуг в моем эпиграфе не значит революция – а просвещение; и самая мысль романа самая благонамеренная – хотя глупой цензуре может показаться, что я потакаю молодежи»[132]. В более раннем, сентябрьском письме 1874 года А.П. Философовой автор «Нови» высказывался еще более четко: «Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего здорового развития, разложения и сложения», теперь «Базаровы не нужны», и, напротив, «нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою без всякого блеску и треску – нужно уметь смиряться и не гнушаться мелкой и темной, и даже низменной работы… Что может быть, например, низменнее – учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д. …Нужно одно сердце, способное жертвовать своим эгоизмом…»[133].
Впрочем, забегая несколько вперед, скажем, что путь постепенной выработки в народе – как в его низших, так и в высших слоях – устойчивой привычки к каждодневному спокойному, методичному, аккуратному, то, что у нас, русских, называется «занудному» труду, путь этот в то время не имел в российском сознании какой-либо серьезной ценности. И потому Соломин, герой, олицетворяющий это постепеновское, труженическое начало в тургеневском романе, оказался не только не популярен среди читателей, сколь, например, среди разночинцев и революционеров был популярен Базаров, но даже критикуем. Сам же роман, сводивший счеты с идеологией революционного нетерпения, исповедуемой народниками, с одной стороны, и изоляционистско-патриархальными интенциями реакционных славянофилов и правительственных адептов – с другой, подавляющим большинством российской читающей публики был дружно отвергнут. Все, как выразился Тургенев, принялись «бить его палками». И делалось это столь согласованно, что писатель даже засомневался в своей правоте. «Нет никакого сомнения, что, как ты пишешь, «Новь» провалилась, – высказывается он в письме к брату в марте 1877 года. – И я начинаю думать, что эта участь ее – заслуженная. Нельзя же предположить, чтобы все журналы вступили в некоторый заговор против меня; скорее должно сознаться, что я ошибся: взял труд не по силам и упал под его тяжестью. Действительно, нельзя писать о России, не живя в ней»[134].
Впрочем, дело, как нам представляется, было не в десятилетней тургеневской отлучке. Россия – не та страна, в которой способы и привычки хозяйствования, устойчивые формы поведения социальных слоев и национальное самосознание меняются быстро и радикально. Причина отвержения одного из центральных персонажей «Нови», впрочем, как и всего романа в целом, заключалась в том, что «герой» этот для России вовсе не героичен и уж тем более не централен. Действительно, выведенный писателем тип труженика был широко распространен в капиталистической Европе, для нее он был нормальным и обычным, а потому и центральным. И если Тургенева можно упрекнуть в его «незнании» России, так это только в том отношении, что, будучи убежденным сторонником рационального прогрессивного пути развития своей родины, он, может быть, мало это сознавая, к увиденному в России «зародышу» в лице Соломина-хозяина прибавил некоторую степень обычности и «центральности», имеющей место в Европе и вовсе не свойственной почве русской.
Также надо отметить, что Соломин как персонаж получает иную трактовку, если смотреть на него не в рамках одного романа, а в череде всех шести произведений, в том числе и с точки зрения развития в каждом из них фигуры центрального героя с присущей ему своей собственной мерой «позитивного начала». Однако, подчеркнем еще раз, такой ракурс предлагается только нами, и он вовсе не принят в традиционном литературоведческом анализе. Так, такой тонкий знаток художественной прозы, как писатель Владимир Набоков, придерживался иного мнения на счет тургеневских героев. По его мнению, как мы отмечали, тургеневским персонажам не были свойственны такие качества, как «сила воли» и «неистовое хладнокровие», без которых надеяться на доведение до конца какого-либо благого дела в условиях российской действительности было нельзя.
Однако для России, в контексте имевшегося в ней в то время идеологического спектра, Соломин был персонаж чуждый и даже опасный. Народникам он не подходил, поскольку смысл их политического будущего состоял либо в мирно-постепенной, либо в насильственно-быстрой, но тем не менее радикализации крестьянства, в его доведении до революционного выступления. Со славянофильской идеологией Соломин – западник, рационалист и индивидуалист – не согласовывался по исходным определениям. Для правительственных же кругов, все более тяготевших к новым отечественным формам «либерализма» («вежливо, но в зубы»), он был опасен своим демократизмом и несомненной приверженностью принципу правового ограничения самовластия. Естественно, что в таком идейно-мировоззренческом контексте Тургенев оказывался писателем лишним и вредным, а потому и «чуждым», по приведенной оценке, например, Ф. Достоевского, российской жизни 70-х годов XIX столетия. Сделав эти предварительные замечания, перейдем к содержательно-мировоззренческому рассмотрению романа.
Так кто же эти люди, «хожденцы в народ», с которыми знакомит нас Тургенев уже в первой главе романа, – «поверхностно скользящая соха», «глубоко забирающий плуг» либо ни то, ни другое? Познакомившись с ними, мы сразу же вынуждены признать, что писатель представил нам своеобразных социальных мутантов, что видно не только по их происхождению и теперешнему бытию, но даже по поведению и самой внешности. Машурина – из небогатой южнорусской дворянской семьи, оставившая родителей и полуторагодичным безустанным трудом добившаяся в Петербурге родовспомогательного аттестата. Внешность ее более напоминает мужчину, нежели женщину. Паклин, как чертик из табакерки, не входящий, а впрыгивающий в романное пространство через отверстие приоткрытой двери, и вовсе по своим физическим свойствам заслуживает сочувствия: он мал ростом, хил, хром, с короткими ручками и кривыми ножками. В дополнение, как бы в насмешку, он назван Силой Самсонычем и страстно, но безответно любит женщин. Сам же центральный герой – Алексей Дмитриевич Нежданов – полукровка-аристократ, живущий на подачке-«пансионе», рожденный от матери-дворовой и ее возлюбленного – хозяина-помещика.
Надо отметить, что и отношения между этими людьми складываются довольно странные. Они, например, не упускают случая по пустяку выказать друг перед другом свою «оригинальность» и на вопрос «как поживаете?» следует манерное и выспреннее объяснение, смысл которого – «видите же, что живу». Они также считают нормальным открыто высказывать друг другу свою неприязнь, держатся негативного мнения о нормальных общественных ценностях – например, о дружбе. Окружающий мир видится ими как неприятный и враждебный: «нельзя носа на улицу высунуть в этом гадком городе, в Петербурге, чтоб не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здесь больше невозможно»[135]. Объединяет же их одно: готовность действовать, «если выйдет распоряжение» от их революционного начальства. И начальство незамедлительно дает о себе знать в виде письма, представленного обществу революционеров их товарищем и начальником Остродумовым. При этом, когда послание было прочитано, его торжественно сжигают и зажженная спичка распространяет сильный запах серы, чем читателю дается ассоциативный намек на отнюдь не божеское, но дьявольское происхождение послания. То, что послание именно такого свойства, несколько позднее подтверждается словами Паклина: «…хотим целый мир кверху дном перевернуть…»[136]
Впрочем, обычно сопутствующий появлению нечистого запах серы вполне может быть отнесен не только к письму, но и к неожиданно возникающему на пороге квартиры Нежданова новому персонажу – его дальнему родственнику, высокому сановнику Борису Андреевичу Сипягину. Этот персонаж, наряду с его приятелем – помещиком-ростовщиком Семеном Петровичем Калломейцевым, представляет в романе новейшую правительственно-охранительную идеологию, смысл которой – в обосновании правомерности извлечения максимально возможной прибыли из бедственного пореформенного положения российской деревни.
В романе продолжается заявленная Тургеневым еще в «Рудине» линия противостояния двух враждебных друг другу идеологических лагерей российского общества. Только если в «Рудине» и «Дворянском гнезде» она развивалась в любовно-личностном ключе, а в «Накануне» и в «Отцах и детях» к этой линии добавилась тема противостояния славянофильства и западничества в их преломлении через столкновение «старого» и «нового», то в «Дыме» и в особенности в «Нови» в полном диапазоне начинает звучать идея «материализации» идеологических постулатов в реальных, организационно оформляющихся общественных силах. На наш взгляд, в «Нови» Тургенев первым в русской классической литературе, использовав тему хождения революционеров в народ, ставит вопрос не только о содержании самой народнической идеологии, но и о правомочности и, что еще важнее, о нравственных основаниях такого рода действий. В дальнейшем, как будет показано, эта тема была глубоко разработана в творчестве ряда крупных русских литераторов, в том числе И.А. Гончаровым в «Обрыве» в образе Марка Волохова и в особенности в творчестве Н.С. Лескова (романы «На ножах» и «Некуда»).
У Тургенева, первым гениально и полно прозревшим нравственную ущербность того, что в XX столетии в развитом виде получило название «экспорта революции», не важно – из страны в страну или из города в деревню, глубокое неприятие вызывает сам лежащий в основании такого рода революционных действий принцип «цель оправдывает средства». Именно им руководствуется тайный вождь народовольцев – Василий Николаевич, письма и инструкции которого время от времени получают «герои-хожденцы». Именно к этому принципу время от времени прибегают в своих поступках Паклин и Маркелов. Вместе с тем справедливости ради следует отметить, что столь же нравственно беспринципны и их родовитые оппоненты, помещики Сипягин и Калломейцев.
Современного читателя, знакомящегося с описанными в романе эпизодами хождения в народ, как нам представляется, не должно покидать чувство глубокой алогичности происходящего. В самом деле, глубина непонимания народом произносимых «хожденцами» речей доходит до абсурда: так, в ответ на страстные лозунги, выкрикиваемые в толпе мужиков Неждановым, крестьяне, ничего не поняв, лишь замечают: сердитый барин. Впрочем, и сами романные герои-народовольцы (за исключением, может быть, Остродумова, о подробностях хождения которого Тургенев не сообщает, и Маркелова, который старался делать дело не за страх, а за совесть) в возможность донести до народа свои революционные идеи не верят. Паклин, например, прямо говорит: «…мы уходим теперь в тот же лес, сиречь в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса!»[137] В этой связи закономерен вопрос: для чего же народники делали свое дело? В чем могли видеть смысл самопожертвования?
На наш взгляд, на эти вопросы в тургеневском романе намечается три ответа. Первый, наиболее полный, вытекает из шеститомного цикла романной эпопеи. Так, продвигаясь от романа к роману, читатель постепенно осознает, что вековой конфликт между русскими земледельцами – крестьянами и помещиками в принципе может быть разрешен конструктивным образом. Только для этого необходим переход на новый, более высокий уровень хозяйствования, который бы отменял имевшуюся до 1861 года и во многом сохранившуюся в пореформенный период систему господства – подчинения. Только-только возникшая в системе российских общественных отношений свобода как принцип общественного и хозяйственного устройства и как фундаментальная норма социальной жизни для своего закрепления нуждалась во множестве конкретных реальных воплощений. К сожалению, за исключением отдельных указаний в романах Тургенева на то, что на основе этого принципа у русского помещика начинает складываться рациональное хозяйство, развернутых картин этого явления мы, к сожалению, не наблюдаем. Надо думать, что дело здесь не в том, что Тургенев не нашел для него подходящей формы художественного воплощения, а в том, что оно едва начало появляться и давало о себе знать лишь в неразвитом виде. Русские земледельцы-помещики – образованные в том числе – не слишком торопились материализовать идеи свободного производства в единственно возможной тогда форме капиталистического аграрного предприятия. Естественно, что говорить о каком-либо движении в этом направлении со стороны крестьян и вовсе не приходилось. Так вот, интуитивно сознавая возможность появления новых хозяйственных форм, но не наблюдая их примеров в действительности, народники отождествляли их с собственными умозрительными представлениями и, желая их скорейшей материализации, сами шли в народ.
Второй ответ на вопрос о смысле хождения в народ, также намеченный у Тургенева, заключается, на наш взгляд, в следующем. Достигать цели «будоражить народ», постепенно приучая его к возможности новых, ранее немыслимых форм поведения, «долбить», с тем чтобы когда-нибудь, пусть в отдаленном будущем, «продолбиться», – на эту заведомо безнадежную деятельность могли подвигнуться лишь люди особого склада и типа – своеобразные «мутанты-маргиналы», которым в нормальной жизни, как они понимали, все равно не удалось бы жить нормально. И берутся они за заведомо безнадежное дело, во-первых, потому, что понимают невозможность для себя обычной жизни (вспомним тоскливую безответную влюбленность в Нежданова Машуриной, откровения уродца-Паклина или недалекость и хроническую человеческую неудачливость и безответную влюбленность в Марианну Маркелова – «существа тупого, но, несомненно, честного и сильного» {13}). И во-вторых, потому, что в заведомо авантюристическом деле для них хоть в виде лучика, но все же есть надежда на успех или на будущую благодарность от общества за то, что они были первопроходцами. Эти мысли могли наполнить и придать их жизни сколько-нибудь конструктивный смысл. Таким образом, следующий ответ на вопрос о смысле хождения в народ состоит в том, что хождение было результатом наличия особого типа людей. (В биологии этому явлению может соответствовать случай, когда появившийся в результате генетической мутации орган определяет возникновение новой для организма функции.)
И наконец, третий ответ отличается от первых двух тем, что он существует лишь в благородном порыве, исключительном индивидуально-нравственном намерении, но не в массовом виде. В романе «Новь» носитель его – Марианна, сестра мужа Сипягиной. Персонаж этот – традиционный тургеневский тип чистой русской девушки, которая, узнав о задаче, за решение которой взялся Нежданов, тут же решает жертвенно помогать ему: «…я в вашем распоряжении …я хочу быть тоже полезной вашему делу …я готова сделать все, что будет нужно, пойти, куда прикажут …я всегда, всею душою желала того же, что и вы…
…Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной – вот чем она томилась»[138].
Примечательно, что мотив жертвенности, труда на благо народа, впервые зазвучавший в классической прозе Тургенева в середине 70-х годов, не исчез и в начале XX века. Вспомним рефрены чеховских героинь в его рассказах и повестях, в пьесах «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Их продолжительное, более трех десятилетий длящееся звучание – лучшее доказательство замедленности процессов течения русской хозяйственной и общественной жизни, малости предпринимаемых нацией усилий для выхода на дорогу рационального хозяйствования, еще одно доказательство неправоты Достоевского, упрекнувшего Тургенева в незнании России. И предпринимавшиеся народниками попытки революционного ускорения этих процессов делу рационального хозяйственного развития пользы не принесли. Эффект от них, к сожалению, был иной.
Безнадежность дела со стороны народников еще более укрепляется и качеством тех персонажей, представленных в романе прежде всего в среде крестьян, с которыми они встречаются и на которых всерьез прежде всего рассчитывают. Найти сочувствующих или склонных внять революционной агитации, оказывается, довольно сложно. Так, прибыв в имение Сипягина и осмотревшись, Нежданов заключает, что мужики, отделенные от бывшего барина, недоступны, а у находящихся рядом дворовых людей «уж очень пристойные физиономии». Не обнадеживает в этом отношении Нежданова и Маркелов. «Народ здесь довольно пустой, – продолжал он, – темный народ. Поучать надо. Бедность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бедность происходит»[139]. Задержавшись у Маркелова, Нежданов стал невольным свидетелем и собственного бестолкового общения с крестьянами новоиспеченного народника, а также его раздражения. Нежданову он сетует на мужиков: «Как ты с этими людьми ни толкуй, сообразить они ничего не могут – и приказаний не исполняют… Даже по-русски не понимают. Слова «участок» им хорошо известно… а «участие»… Что такое участие? Не понимают! А ведь тоже русское слово, черт возьми! Воображают, что я хочу им участок дать! (Маркелов вздумал разъяснить крестьянам принцип ассоциации и ввести ее у себя, а они упирались. Один из них даже сказал по этому поводу: «Была яма глубока… а теперь и дна не видать…», а все прочие крестьяне испустили глубокий, дружный вздох, что совсем уничтожило Маркелова.)»[140]
Впрочем, некоторые кадровые наметки для пропагандистской деятельности у Маркелова, как он сам считает, есть. Это «дельный малый» буфетчик Кирилл (в этом месте следует авторская ремарка: «Кирилл этот был известен как горький пьяница»), а также Еремей из деревни Голоплек. Впоследствии окажется, что именно этот Еремей, коего Маркелов считал «олицетворением русского народа», был в числе первых, кто выдал его властям. Впрочем, в своей неудаче Маркелов винит прежде всего самого себя: «…это я виноват, я не сумел; не то я сказал, не так принялся! Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться – пулю ему в лоб! Тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет… Убивают же шпионов, как собак, хуже, чем собак!»[141]
Свой опыт общения с крестьянами с целью привить им революционные взгляды вскоре появляется и у Нежданова. Однако между ним и земледельцами – наполовину дворянин это явственно чувствует – был своеобразный ров, через который он никак не мог перескочить. В разговорах он вроде бы даже робел и перед пьяницей Кириллом, и перед Менделем Дутиком и кроме очень общей и короткой ругани от них ничего не услышал. Еще один крестьянин – Фитюев, также рассматривавшийся в качестве потенциального народного революционера, просто поставил Нежданова в тупик: оказалось, что у него мир отобрал надел, потому что Фитюев, здоровый мужик, оказывается, «не мог работать» и кончил тем, что днями бродил по деревне и просил «грошика на хлебушко». Фабричный народ тоже «не дался» Нежданову. Все эти люди были либо «ужасно бойкие», либо «ужасно мрачные», и с ними тоже ничего не вышло.
Неутешительный диагноз о готовности крестьянства к революционным действиям подтверждает Соломин. И говорит он об этом в разговоре с Маркеловым мягко и с усмешкой – как о деле заведомо пустом: «Мужики? Кулаков меж ними уже и теперь завелось довольно и с каждым годом больше будет, а кулаки только свою выгоду знают; остальные – овцы, темнота». Но тут же он обнаруживает и серьезное негодование и даже ударяет кулаком по столу, когда слышит о какой-то несправедливости на суде, о притеснении рабочей артели[142]. В этом эпизоде Тургенев, в частности, проявляет и свою убежденность в эффективности и общественной полезности исключительно легитимных способов улучшения действительности, свое категорическое неприятие революционного авантюризма.
Также важно получить ответ на вопрос о том, что представляет собой та общественная среда, которая отчасти и составляет российское общество? Ответу на этот закономерный вопрос автор «Нови», в частности, посвящает главу, которая представляет собой почти что продолжение гоголевских «Старосветских помещиков», чуть ли не с восемнадцатого века сохранившихся в России в совершенно неизменном виде. С другой стороны, логично предположить, что эти образы также нарисованы западником-Тургеневым в контексте его продолжающейся явной и скрытой полемики со славянофилами. В подтверждение этого приведем кажущееся нам верным небольшое лингвистическое доказательство.
Одним из ключевых славянофильских понятий 30–40-х годов, как известно, было понятие «русская старина», которое в разных контекстах, но неизменно как идеал, к которому следует стремиться России, обнаруживалось в текстах Хомякова, Киреевского, Аксакова[143]. Так вот, описывая быт своих «старосветских помещиков» – Фимушку и Фомушку Субочевых, Тургенев на трех страницах текста более десяти раз (!) употребляет слово «старый» и производные от него эпитеты: «старинные обитатели», «старость», «старик», «старинный быт», «старенький альбом», «старинные кушанья», «старинные романсы», «старые времена», «старенький дом». К этому можно добавить и близкие синонимы – «древний», «стертый от времени» и др. Обратив внимание на эту лингвистическую особенность романа, мы пришли к выводу, что сделано это вовсе не случайно. Было бы странно полагать, что непревзойденный мастер слова, каким, по общему мнению, без сомнения, был Тургенев, этот чародей русской речи, намеренно стандартизировал и обеднял свой язык без какой-то специальной цели. Тем более что ни в одном из прочих своих произведений к этому приему Тургенев более не прибегал. На наш взгляд, в этой нарочитой речевой стандартизации слышится отголосок полемики со славянофилами, с их слепой любовью к русской старине.
Итак, что же за персонажи дворяне Субочевы и чем важны для рассматриваемых нами проблем? Примечательно, что в повествование они вводятся Паклиным и, как представляется, потому, что для него, человека убогого, именно этот мир является наиболее благоприятным и добрым. «Оазис» Субочевых (термин, придуманный Паклиным) – своего рода богадельня, в которой хорошо именно обиженным жизнью людям. И именно такие люди и населяют этот мир. Кроме уродца Паклина, это его горбатая сестра Снандулия, а также карлица Пифка.
Способ жизнепроживания помещиков Фимушки и Фомушки Субочевых – не исключение, а довольно типичное явление русской действительности, к которому, как отмечает Тургенев и что важно для характеристики тогдашнего русского миросознания, другие жители городка относятся с уважением. Для чего же Паклин знакомит начинающих революционеров с этим явлением? На наш взгляд, ответ состоит в том, что своим поступком маргинал Паклин дает народникам один из немногих дельных советов, которые им не давались ранее: до того как затевать ломку общественной жизни, нужно оглядеться вокруг себя, попытаться понять, из кого состоит современное общество, что представляет собой российский мир. И хотя совет напрасный, но он звучит. «…Представь: оазис! Ни политика, ни литература, ни что современное туда и не заглядывает. Домик какой-то пузатенький, каких теперь и не видать нигде; запах в нем – антик; люди – антик; воздух – антик… за что ни возьмись – антик, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, восемнадцатый век! Хозяева… добры до глупости, до святости, бесконечно! …Блаженные!
…Вот вы, господа, собираетесь теперь на великое дело, быть может, на страшную борьбу… Что бы вам, прежде чем броситься в эти бурные волны, окунуться…
– В стоячую воду? – перебил Маркелов.
– А хоть бы и так? Стоячая она, точно; только не гнилая. Такие есть степные прудики; они хоть и не проточные, а никогда не зацветают, потому что на дне у них есть ключи. И у моих старичков есть ключи – там, на дне сердца, чистые-пречистые… Уж одно то: хотите вы узнать, как жили сто, полтораста лет тому назад? Так спешите, идите за мною»[144].
Примечательно, что наиболее активное желание познакомиться с этим явлением российской действительности изъявляет не «революционер» Маркелов, а «демократ-постепеновец», каким обнаруживает себя деловой человек Соломин. И это естественно, ведь Соломину жизнь интересна потому, что для продуктивной деятельности, в контексте этой жизни, ее надо знать. Маркелову же, собирающемуся жизнь ломать, ее знание не только не нужно, но, кто знает, может даже и навредить. Вдруг в ней обнаружится то, что не согласуется с его представлениями о «должном» и это обнаруженное будет столь сильно и так овладеет им, что понадобится свои революционные представления переосмысливать или даже менять? А ведь они – часть принятой «товарищами» революционной идеологии, реализация которой контролируется революционным начальством, и любое отступление от нее будет рассматриваться как ренегатство.
Итак, что же паклинские знакомцы? Муж и жена (Фимушка и Фомушка) происходили из «коренного», подчеркивает Тургенев, дворянского рода, всю жизнь прожили на одном месте и никогда не изменяли ни своего образа жизни, ни привычек. Их ближайший круг – дворовые люди – за прошедшие десятилетия также нисколько не изменились, и в ответ на то, что «для всех крепостных вышла воля», их старый слуга Каллионыч, например, отвечал, «что мало ли кто какие мелет враки; это, мол, у турков бывает воля, а его, слава богу, она миновала»[145].
Сами Фимушка-Фомушка живут примерно в таком же ими самими сотворенном, не имеющем отношения к реальности мире. В этом мире у них есть даже свои собственные слова. Так, жалуясь, Фомушка сообщает гостям, что «зашибил курпей». То, что курпей – это кисть на казачьей или черкесской шашке и ее он никак не мог «зашибить», ему не важно: слово это он вставил в свой собственный жизненный контекст, приспособил для собственной системы понятий, и оно ему и его ближнему кругу исправно служит. Со «своими» понятиями и Фимушка. Так, вспоминая о французе, который был у них в доме, когда она была ребенком, она говорит, что их француз был хороший, а теперь французы, «должно быть, все презлые стали». И такого «представления» ей для ее жизни вполне достаточно.
Мирок Фимушки-Фомушки только на первый взгляд может показаться неустойчивым или незащищенным по причине своей древности. На самом деле это не так. Как только Маркелов со свойственной ему туповатой прямотой вдруг берется обличать бесцельное и недобродетельное существование хозяев «оазиса», он тут же получает отпор прежде всего от пригретых Субочевыми приживалок. Да и сам Фомушка вдруг находит слова для защиты себя и жены.
Завершается глава о посещении восемнадцатого века описанием того, каково с позиций этого века может быть отношение к затеваемому революционному делу и даже некоторого исторического суда над ним. Паклин просит Фимушку погадать, но она, начав, вдруг бросила карты и без них определила, кто есть кто из навестивших их гостей и какова будет их дальнейшая судьба. При этом о Маркелове она сказала, что он «горячий, погубительный человек», о Соломине – «прохладный, постоянный», о Паклине – «вертопрах», а что касается центрального героя романа – Нежданова, то его она назвала человеком «жалким». Согласимся, что оценки оказались точны и полностью подтвердились. Финал же этому пророчеству кладет полоумная карлица, рьяная защитница хозяев, кричащая вслед уходящим гостям: «Дураки, дураки!» Не поняли, дескать, они восемнадцатого века и тем самым века нынешнего, в коем многое присутствует из старых времен. И обе мысли, надо признать, – правда.
Посетив век восемнадцатый, начинающие революционеры отправляются в век двадцатый, который для Паклина олицетворяется купцом Голушкиным. Знакомство с этим персонажем особенно интересно потому, что герои из торговой буржуазии в романах Тургенева довольно редки, и его мнение об этой еще одной «революционной надежде» народников вдвойне интересно. Итак, Голушкин происходил из среды староверов, но с их традиционными трудовыми качествами ничего общего не имел. Это, напротив, был тип русского эпикурейца, то есть он много и без разбора ел, отчаянно пил, а пуще всего бахвалился. «Жажда популярности была его главной страстью: греми, мол, Голушкин, по всему свету! То Суворов или Потемкин – а то Капитон Голушкин! Эта же самая страсть, победившая в нем прирожденную скупость, бросила его, как он не без самодовольства выражался, в оппозицию (прежде он говорил просто «в позицию», но потом его научили) – свела его с нигилистами: он высказывал самые крайние мнения, трунил над собственным староверством, ел в пост скоромное, играл в карты, а шампанское пил, как воду»[146].
Знакомясь с посетившими его «передовыми молодыми людьми», он не преминул сообщить, что даже губернатор перед ним заискивает. Меж тем, будучи взят под стражу одновременно с Маркеловым, он, в отличие от отставного офицера, сразу стал «валяться в ногах». Столь же «надежен» и рекомендуемый им для общего дела «прозелит» – прилизанный чахоточный человечек с кувшинным рыльцем, оказавшийся голушкинским приказчиком Васей.
В довольно бессвязной (из-за количества выпитого) застольной беседе гостей и хозяина неожиданно возник довольно существенный для тактики народнического движения вопрос о степени решительности планируемых действий. При этом даже обычно молчавший Соломин считает важным заявить, что их акции должны иметь постепенный характер, но если раньше постепенные меры вводились сверху, то теперь настает время инициировать их снизу. Мысль эта поддержки не нашла, и на нее последовало замечание Маркелова, что нам постепеновцев не нужно. Голушкин тут же поддержал его: «Не нужно, к черту! Не нужно… надо разом, разом!»[147]
Этим визитом и заканчивается «пропащий», как выразился Соломин, день будущих «хожденцев» в народ. Прощаясь и направляясь в «оазис» к Фомушке и Фимушке, Паклин итожит: «И там чепуха – и здесь чепуха… Только та чепуха восемнадцатого века ближе к русской сути, чем этот двадцатый век»[148]. Этим финалом и завершается знакомство читателя с той общественной средой, в которой завтрашние революционеры намерены возбуждать антиправительственные настроения и даже антимонархические действия.
К этой теме, однако, Тургенев счел необходимым добавить некоторые собственные мысли о русском народе, поместив их в финальный, подводящий итог всем событиям диалог Паклина и Машуриной {14}. «…Мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь – и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!! Это все – леность, вялость, недомыслие!»[149]
Все это верно. Но есть ли этому альтернатива? Есть. И она, согласно Тургеневу, в Соломине, который из описанной в романе народовольческой истории сумел вывернуться и построил в Перми на артельных началах собственный завод. И верно о нем говорит Паклин: «Такие, как он – они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусишь, а они – настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это – не герои; …теперь только таких и нужно! Вы смотрите на Соломина: умен – как день, и здоров – как рыба… Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием – так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше, – и ненавидит он то же, что мы ненавидим, да нервы у него молчат и все тело повинуется как следует… значит: молодец! Помилуйте: человек с идеалом – и без фразы; образованный – и из народа; простой – и себе на уме… Какого вам еще надо? …Знайте, что настоящая, исконная наша дорога – там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины!»[150]
Итак, в последнем, шестом романе Тургенев, похоже, все-таки дает развернутый содержательный ответ на сформулированные в первых романах вопросы: «как возможно позитивное преобразование российской действительности?» и «когда в России появятся настоящие люди?» Имя этому ответу – Соломин[151].
Однако, прежде чем приступить к рассмотрению этого персонажа и связанных с ним идей, обратимся к редкому и потому вдвойне ценному писательскому признанию, в котором содержится формулировка романа в целом: «Молодое поколение было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников – что, во-первых, несправедливо, – а во-вторых, могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо – и сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу – стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных – и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и не жизненно (выделено нами. – С.Н., В.Ф.), что не может не привести их к полному фиаско. Насколько мне это удалось – не мне судить; но вот моя мысль… Во всяком случае, молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне – если не к их целям, то к их личностям. И только таким образом может роман, написанный для них и о них, принести им пользу.
Я предвижу, что на меня посыплются упреки из обоих лагерей; но ведь то же самое случилось и с «Отцами и детьми»; а между тем изо всего моего литературного прошлого я имею причины быть довольным именно этой повестью…»[152] Действительно, упреки посыпались и справа, и слева, и от правительственных кругов. И относились они не только к видению писателем стоящих перед страной проблем или к изображению народников, но и к позитивному персонажу романа – Соломину.
Из всех героев шести романов Тургенева считать именно Соломина несомненно позитивным персонажем, с которым автор связывал свои представления о будущем России, – общепризнанная среди исследователей точка зрения. Некоторые даже, как, например. Т.Г. Масарик, полагают, что этим образом писатель представил как бы «второе, исправленное, издание Базарова»[153]. Такое суждение нам не кажется верным, поскольку оно предполагает, что следующим персонажем автор как бы отвергал или – пусть даже в гегелевском смысле – «снимал» предыдущий. Более правильным мы считаем следующее представление. Посредством каждого созданного образа, тем более претендующего на позитивность, Тургенев старался рассмотреть систему всех общественных связей, которые с этим образом сопрягались. Этим путем он, во-первых, намеревался показать все многообразие общественной реальности и, во-вторых, на этом фоне позволить читателю решать вопрос о жизненности или нежизненности тех смыслов и ценностей, которые этот образ нес в себе. Так, возвращаясь к личности Базарова, мы позволим себе еще раз повторить одну из наших мыслей о том, что в деловом отношении Базаров никакой не нигилист, а, напротив, трудоголик и профессионал, и его трагедия как раз и состоит в том, что в системе российской практической жизни для него нет места. Система его отвергает, и отвергает именно своим феодальным, примитивным, с позиций капитализма – варварским, антикультурным содержанием. Согласимся, что в деловых проявлениях Соломину «улучшать» или «исправлять» Базарова нечего. Базарову, в отличие от Соломина, просто не хватило жизненного времени, чтобы стать «строителем», каким изображен позитивный герой «Нови». И потому Соломина в его практической деятельности можно считать базаровским содержательным продолжением.
Итак, управляющий фабрикой Василий Федотыч Соломин – сын дьячка, сменивший возможный учительский или священнический путь на математику и механику и достигший на нем такого успеха, что получает возможность в течение двух лет пополнять свое техническое и коммерческое образование в Манчестере. Возвратившись из капиталистической Англии в феодальную Россию, Соломин как вполне сформировавшийся западник отчетливо видит ошибочность не только предлагающихся славянофилами возможных путей дальнейшего развития страны, но и конкретных заблуждений народников, желающих «ускорить» процесс российской общественной эволюции посредством революционизирования крестьян.
Для практика и прагматика Соломина очевидна бессмысленность «хождения» в народ в народнической интерпретации. Его путь – постепенная легальная работа с «низами» – через школу, больницу, судебную защиту прав трудящихся. При этом не факт, что такого рода деятельность приведет Соломина к социализму, как полагает, например, в своем исследовании Т.Г. Масарик. И уж тем более не является Соломин социалистом в период, изображаемый в романе[154]. Да и Тургенев, чьи взгляды в «Нови» в существенной мере передаются через Соломина, не только не проповедует социалистические начала, но и выступает даже против куда менее революционного славянофильского проекта. Так, автор косвенно полемизирует, например, с А.И. Герценом о славянофильской «троеручице» (земство – артель – община). В одном из писем он, в частности, особенно критически отзывается о русской артели: «Что до артели – я никогда не забуду выражения лица, с которым мне сказал в нынешнем году один мещанин: «Кто артели не знавал, не знает петли». Не дай бог, чтобы бесчеловечно эксплуататорские начала, на которых действуют наши «артели», когда-нибудь применялись в более широких размерах! «Нам в артель его не надыть: человек он хоша не вор – да безденежный и поручителев за себя не имеет, да и здоровьем ненадежен – на кой он ляд!» Эти слова можно слышать сплошь и рядом…»[155]
В принципиально важном для идейного содержания романа разговоре Соломина с Марианной о труде Тургенев подает труд как универсальное средство не только против воспитанных иноземным владычеством и крепостничеством традиционных русских «болячек» – лени, вялости, скуки, но и против нового недуга – революционного зуда: «Как же вы себе это представляете: начать? Не баррикады же строить со знаменем наверху – да: ура! За республику! Это же и не женское дело. А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучаетесь; а пока – ребеночка ее помоете или азбуку ему покажите, или больному лекарство дадите… вот вам и начало…По-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать – жертва, и большая жертва, на которую немногие способны.
…Я бы хотела оправдать ваши ожидания, Соломин… а там – хоть умереть!
…– Нет, живите… живите! Это главное»[156].
Соломину, в отличие от народников, нет нужды ходить в народ, «опрощаться», стараться «слиться с ним». Все эти теоретические умствования и любительские спектакли с переодеваниями в «народное», изобретенные любителями «конструирования» действительности вне зависимости от того, кто они – славянофилы или западники, излишни для нормального труда, в котором и у низового «народа», и у управляющих, у каждого есть свое, определенное логикой общего дела собственное место. Вот, например, эпизод, который приводит Тургенев в начале второй части романа – о посещении мануфактуры англичанином: «Хорошие, хотя и не совсем обыкновенные, отношения существовали между Соломиным и фабричными: они уважали его как старшего и обходились с ним как с ровным, как со своим; только уж очень он был знающ в их глазах! «Что Василий Федотов сказал, – толковали они, – уж это свято! Потому он всяку мудрость превзошел – и нет такого агличанина, которого он бы за пояс не заткнул!» Действительно: какой-то важный английский мануфактурист посетил однажды фабрику; и от того ли, что Соломин с ним по-английски говорил, или он точно был поражен его сведениями – только он все его по плечу хлопал, и смеялся, и звал с собою в Ливерпуль; а фабричным твердил на своем ломаном языке: „Караша оу вас эта! Оу! Караша!“ – чему фабричные в свою очередь много смеялись не без гордости: „Вот, мол, наш-то каков! Наш-то!“»[157]
Вместе с тем это народное расположение не подвигает Соломина к каким бы то ни было ответным реверансам в его, народа, сторону. Напротив, он трезво судит о народе и не призывает его искать искусственных путей избежать дальнейшей трудной судьбы, хотя бы в вопросе о земельной собственности. Он понимает, что у всякого исторического явления есть свое время и место, и ничто не может возникнуть неизвестно откуда, не вовремя или из ничего. Так, в ходе застольной беседы у Сипягиных Соломин трезво оценивает перспективы коммерческого земельного передела в России в недалеком будущем: земля перейдет от дворян к скупающим ее купцам. Будет ли от этого народу лучше? Вряд ли. Народ в России все еще «соня», и, пока он не проснется и сам не осознает своих прав, говорить о движении низов нельзя. Кроме того, есть и еще одна немаловажная особенность российского народа, о которой говорит Тургенев и за что его должны были сильно не любить славянофилы: «…русские люди – самые изолгавшиеся в целом свете, а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей»[158].
Жаль, добавим мы, что это уважение и сочувствие часто возникает постфактум, остается лишь в сфере эмоций, редко осмысливается и почти никогда не воплощается в практические дела. Ведь чтобы переводить уважение и сочувствие в практические дела, требуется «занудная» работа, а нам, как правило, хочется всего и сразу. И в этом нам от купца Голушкина привет.
Глава 3. Русский человек в деле и недеянии: опыт исследования И.А. Гончарова
Рассмотренный нами ранее материал в его преломлении через тексты русской классической литературы первой половины XIX века позволил выделить значимые сферы, в которых обнаруживает себя русское мировоззрение вообще и мировоззрение земледельца в частности. Таковыми, напомним, были отношения земледельцев с природой и природа (страсти), которыми обуреваемы сами земледельцы; отношения крестьян и помещиков между собой; отношения с городом и властью, религией и культурой; представления о собственности, праве и нравственности. При этом исследованный литературный материал показал, что начиная с Пушкина и Гоголя, а также в последующих произведениях русских классиков их герои все полнее проявляют себя как индивидуальности, выделяясь из общей массы персонажей, в их образах начинают проглядывать лица конкретных личностей с собственным языком, жизненной историей и характерным поведением. Так, у Тургенева герои с их неповторимым и глубоким мировоззрением, будь то немой крестьянин Герасим в одном из лучших, по мнению М.М. Бахтина, произведений Тургенева[159] или помещик Лаврецкий, обретают такую силу художественного выражения, что сами, без вмешательства автора, акцентированно передают основное содержание его замысла. Богатство чувственного и духовного мира личности оттесняет на второй план внешний событийный ряд, становится главным содержанием литературного произведения, делает его философичным, предоставляет материал для постановки мировоззренческих вопросов[160].
Параллельно с духовными поисками литературы шла и философская работа, сфокусировавшаяся в двух исследовательских направлениях – западничестве и славянофильстве. Здесь, однако, большее внимание уделялось не мировоззренческому содержанию становящейся личности русского земледельца – помещика и крестьянина, но глобальным вопросам общественного развития, историческим судьбам и положению России в мире. К этим темам, начиная с 50-х годов, по мере развертывания в Европе революционных событий, стала все активнее добавляться социально-философская и общественно-политическая проблематика.
Проделанная нами работа по исследованию содержания русского мировоззрения, включая романную эпопею И.С. Тургенева, также позволила сформулировать представление о его основных характеристиках, которые обнаружила отечественная художественная проза 50–60-х годов XIX столетия. Среди них мы в первую очередь выделили расколотость мировоззрения на два типа – патриархально-национальное и европеизированное, подпитывавшиеся соответственно славянофильской и западнической философскими традициями.
Другой важной характеристикой мировоззрения русского земледельца была названа его природная ориентированность. Невозможность мыслить себя вне пределов природного тела и, напротив, конституировать себя как продолжение органического мира, а органический, природный мир – как продолжение собственного тела – это чувство и взгляд на действительность и самих себя прослеживается у всех героев-земледельцев литературных произведений этого исторического периода.
Чуткость русского земледельческого мировоззрения к проявлениям природности органично смыкается с его, мировоззрения, открытостью к «переходу» в иное «бытие», готовностью к смерти. В русском самосознании этого исторического периода понимание смерти отнюдь не материалистическое, в котором смерть представляется всего лишь в виде механической остановки деятельности органов и функций человека, как полагал, например, своеобразный антипод земледельческого мировоззрения «нигилист» Евгений Базаров. Смерть – естественный переход души в иное, неземное существование, ее метафизическое бытие. И там-то, вне земли, в стране, «куда кулички летят», начинается жизнь вечная – праведная и счастливая.
И наконец, еще одной, столь же важной, как природность или рассмотрение смерти как формы инобытия души, чертой русского земледельческого мировоззрения, как нам видится, нужно считать содержащееся в нем представление, по крайней мере, о равной ценности (если не о преобладании) в человеческой жизни интуитивно-эмоционального начала над началом научно-рациональным. Важно отметить, что представление о «равноценности» эмоций и разума, ума и сердца, а тем более примате разума над душой и сердцем не считалось правильным многими отечественными философами, литераторами и соответственно созданными ими персонажами. Для «русского» взгляда на мир и русского человека на самого себя характерным, «правильным» и национально-особенным признавалось доминирование «сердца» и «чувственности», равно как и души, над умом, разумом, «расчетом». И уж точно «грех» доминирования рациональности, равно как и ее сколько-нибудь существенные проявления, «ставились в минус» европейскому взгляду на мир и его выразителям в России – западническому крылу русских мыслителей и деятелей культуры.
Приблизившись к этой новой и важной черте мировоззрения русского земледельца, до настоящего момента не рассматривавшейся подробно, перейдем к ее всестороннему исследованию. Обширные возможности для этого предоставляются творчеством И.А. Гончарова, в котором эта мировоззренческая характеристика, в сравнении с творчеством других отечественных авторов, рассмотрена наиболее подробно, всесторонне и детально.
Иван Александрович Гончаров (1812–1891), широко известный читателям XIX и XX столетия как автор романов «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», обладавший, как отмечал П.А. Кропоткин, «чрезвычайно объективным талантом»[161], справедливо зачисляется исследователями в один ряд с такими мастерами реалистического романа, как Тургенев, Герцен, Писемский[162].
Уже первое его сочинение – «Обыкновенная история», опубликованное в 1847 году в журнале «Современник», имело, по оценке В.Г. Белинского «успех неслыханный» и сразу принесло автору широкое признание. Та же, если не еще более завидная судьба сопутствовала и появившемуся спустя 12 лет роману «Обломов», произведению еще более философичному.
Говоря об этих романах, все литературные критики – радикально-революционного, либерального и славянофильского направлений – по-разному, порой диаметрально противоположно объясняя причины жизненных перипетий и драматических поворотов судеб их героев, тем не менее сходились в признании их значительной общественно-художественной ценности. Так, например, сильно различавшиеся в своих социально-философских воззрениях И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой, оба столь высоко ценили «Обломова», что называли роман «капитальнейшей вещью», имеющей «невременный» интерес.
Вместе с тем имеющиеся в литературной и философской мысли трактовки романов и их главных героев, на наш взгляд, все еще далеки от полной разгадки замысла, который, присутствуя в обоих романах, все же не вполне осознавался, в том числе, хотя это и звучит парадоксально, самим автором. Говоря так, мы имеем в виду то объективное содержание, которое вместили в себя оба произведения, которое было разлито в тогдашней реальности и, кажется, проникало в тексты из самой российской действительности. Это объективное содержание копилось и в продолжавшем формироваться российском самосознании, и в складывающемся русском мировоззрении. Но для того чтобы это новое содержание лучше увидеть и понять, мы прежде всего хотели бы предложить принять к рассмотрению две важные исследовательские гипотезы – о внутренней связи между двумя романами, во-первых, и о трактовке в «Обыкновенной истории» образа дяди Петра Ивановича Адуева, во-вторых.
Что же мы полагаем тем объективным содержанием, которое накапливалось в российской действительности и подспудно влияло на становящееся русское мировоззрение?
Как нам представляется, при работе над своими произведениями и Гончаров, и Тургенев, интуитивно ощущали один и тот же созревший в самой российской действительности вопрос: возможно ли в России позитивное дело, и если «да», то каким образом? В иной трактовке вопрос этот звучал так: каковы должны быть требуемые жизнью новые люди?
Накопление новых смыслов русского мировоззрения было связано со следующим. Во-первых, в середине XIX века Россия стояла накануне отмены крепостного права и, следовательно, ждала появления нового социально-экономического общественного уклада, в основании которого лежала прежде незнаемая страной свобода. Еще раз отметим важную особенность: свобода эта не «вырастала» из логики развития социальных групп российского общества, не «вытекала» из какого-либо переживаемого страной события, а привносилась в него извне русскими и иноземными просвещенными головами из Европы и освящалась волей российского императора. И во-вторых, после не только петровского насильственного включения России в Европу, но еще более после войны 1812 года в стране было сильно ощущение ее «европейскости», в том числе и в качестве сильной державы-победительницы, которая осознавала право и способность в известных отношениях демонстрировать европейским странам свои жизненные ценности и стандарты.
Но какие положительные образцы русские могли предложить европейцам? Выдерживали ли русские ценности конкуренцию с ценностями европейскими? Без уяснения ответа на этот вопрос самим себе думать о европейском пути России было пустым занятием. (Вот, кстати, почему герои всех тургеневских романов в той или иной форме постоянно ориентируются на Европу, тем или иным способом связаны с ней, что, наряду с прочим, дает им силы продолжать искать ответ на вопрос о возможности позитивного дела в их собственной стране.)
Решением загадки новой исторической судьбы нашего отечества были заняты и герои Гончарова. И в той же мере, как между романами Тургенева имелась внутренняя содержательная связь, она же, на наш взгляд, обнаруживается и между двумя основными произведениями Гончарова – «Обыкновенной историей» и «Обломовым»[163]. Вот только лежит она не столько в сфере внешних культурно-духовных поисков героев, как это имеет место в романах Тургенева, сколько во внутреннем мире гончаровских персонажей, в пространстве непрекращающейся борьбы между интеллектом и чувствами, «разумом» и «сердцем». И не беда, что в «Обыкновенной истории» эта схема опробована в первом, так сказать, приближении, а многие движения души и ума героев передаются посредством авторских пересказов и довольно динамичного течения событий. (Так, между первым приездом Александра в столицу и вторичным возвращением, изображенным в финальной части романа, проходит более восьми лет.) Зато в «Обломове» автор неспешен и щепетилен в изображении всех деталей: едва ли не каждое движение героев исследуется с точки зрения его, движения, анатомического, физиологического, а подчас и генетического содержания. Автор не только не пропускает ни одного реального душевного порыва, но даже и самого намерения какое-либо душевное движение совершить.
В этой связи сформулированный у Тургенева вопрос о возможности позитивного дела в России претерпевает у Гончарова известную коррекцию и звучит так: как возможен и каким должен быть русский герой, ставящий цель совершить позитивное дело? Есть ли в России такие герои, а если их нет, то почему?
Говоря о романах Тургенева и Гончарова, отметим и имеющуюся между ними, как мы полагаем, содержательную преемственную связь. Заключается она в том, что если герои Тургенева живут в состоянии большей частью неудачных, но непрекращающихся попыток начать и что еще важнее – продолжать свое собственное позитивное дело, то у Гончарова эта проблема представлена в своих крайних вариантах. С одной стороны, в романе рельефно изображен действительно позитивный персонаж, состоявшийся профессионал и деятель Андрей Иванович Штольц, сама жизнь которого ни им самим, ни читателями не может быть представлена вне и помимо реального и результативного позитивного дела. С другой стороны, мы наблюдаем центрального героя произведения – Илью Ильича Обломова, конкретное проявление и высший смысл существования которого – философическое недеяние.
Это состояние недеяния, как мы убедимся далее, имеет под собой массу всевозможных обоснований: от детской запрограммированности на блаженное и почти бездвижное «ничегонеделание», впитанное чуть ли не с молоком матери и идеализируемое, до концептуальных его обоснований. Последние объясняют нежелание «Обломова-философа» участвовать в жизни, само содержание которой недостойно не только практического дела или хотя бы движения, но и обсуждения. Отметим, что эта трактовка оправдания обломовского недеяния заслужила в нашем литературоведении чуть ли не поддержку, будто и в самом деле Обломов прав и может служить нам примером в том, что не желает участвовать в этой недостойной участия жизни. За этим, на наш взгляд, стоит молчаливо допускаемая мысль, что когда эта недостойная участия жизнь претерпит позитивные изменения, то тогда и Илья Ильич обратит на нее внимание. И будто сделаться это – изменение жизни – должно как бы само собой, а до той поры Обломов, не желающий о «такую» жизнь «руки марать», достоин, пожалуй, что и похвалы. В этой связи отметим, что в истории литературы имеется авторитетное свидетельство современника Гончарова, Д.В. Григоровича, о том, как трактовал своего героя сам автор. «Обломову он придавал тот смысл, – сообщает Григорович, – что в нем хотел изобразить тяжеловесную сонливость русской натуры и недостаток в ней внутреннего подъема»[164]. Думаем, что именно эту оценку и следует принимать во внимание при анализе изображенного в романе образа.
Вторая наша исследовательская гипотеза, позволяющая глубже понять то новое содержание, которым наполнялось российское самосознание и которое все ощутимее влияло на формирование русского мировоззрения, целиком относится к роману «Обыкновенная история». Состоит же она в трактовке образа дяди Александра – Петра Ивановича Адуева. Но вначале о том, каким этот персонаж видится исследователям, интерпретируется и, в известном смысле, предлагается для восприятия читателю.
Современные Гончарову критики, например те, которые придерживались славянофильского и самодержавно-охранительного направлений в прогнозировании экономического и культурного развития страны, в большинстве склонны были трактовать Адуева-старшего как разновидность ненавидимой ими, но неумолимо надвигающейся на Россию буржуазности. Так, например, один из журналистов булгаринской «Северной пчелы» писал: «Автор не привлек нас к этому характеру ни одним великодушным поступком его. Повсюду виден в нем если не отвратительный, то сухой и холодный эгоист, человек почти бесчувственный, измеряющий счастие человеческое одними лишь денежными приобретениями или потерями»[165]. Солидаризировался с этой позицией в журнале «Москвитянин» и известный литературный критик и философ Аполлон Григорьев.
Примерно в этой же тональности звучит и голос современного нам исследователя, автора предисловия к четырехтомному собранию сочинений писателя 1981 года – К. Тюнькина: «Деловой Адуев-старший – воплощение «адуевщины», прямой антитезы будущей «обломовщины» – …полностью устраняет любовь из своей жизненной «практики» (и не может не устранить по существу своей деятельности и своей философии), ограничивает ее утилитарной сферой семейной жизни»[166]. (Почему это вдруг семейная жизнь принижается до уровня всего лишь «утилитарной сферы» – непонятно, но не наша забота разбирать воззрения господина Тюнькина. – С.Н., В.Ф.)
Более изощренна, но от этого не более приближена к истине трактовка, предлагаемая в обширном исследовании Ю.М. Лощица. Согласно критику к имеющимся в тексте мифологическим образам и мотивам, к образу дяди автор добавляет пушкинский мотив демона-искусителя, чьи «язвительные речи» вливают в душу юного героя «хладный яд».
Впрочем, в самом пушкинском стихотворении демон являет такие свойства, которые даже при большом желании убедить читателя в прямом подобии нечистой силы и Петра Ивановича вряд ли получится. Припомним строфы Пушкина о демоне:
- Неистощимый клеветою,
- Он провиденье искушал;
- Он звал прекрасною мечтою;
- Он вдохновенье презирал;
- Не верил он любви, свободе;
- На жизнь насмешливо глядел —
- И ничего во всей природе
- Благословить он не хотел[167].
По этому поводу Ю.М. Лощиц вопрошает: «Действительно, чем не портрет Петра Адуева? Может быть, лишь две-три детали из романтического лексикона молодого Пушкина не совсем подходят («злобный гений», «чудный взгляд»), все же остальное – прямо по адресу. Осмеяние «возвышенных чувств», развенчание «любви», насмешливое отношение к «вдохновению», вообще ко всему «прекрасному», «хладный яд» скептицизма и рационализма (в полном соответствии со славянофильской традицией и разумность оказалась пороком. – С.Н., В.Ф.), постоянная насмешливость, враждебность к любому проблеску «надежды» и «мечты» – арсенал демонических средств…»[168]
Спросим в свою очередь и мы: действительно ли демон Петр Иванович? Когда же это он клевещет, если, конечно, не считать клеветой его постоянную иронию, часто довольно трезвую, но которую нельзя назвать ни злобной, ни низкой? В каких случаях Адуев-старший не верит действительной любви, а тем более свободе? И если он и в самом деле не «благословляет» деревенское безделье и сонный паразитизм жизни обитателей Грачей, то разве он не превозносит и не освящает подлинный труд в разных его формах – в присутствии, на заводе, в журнале? Да и в отношении «чувствований и сердечных проявлений» дядя иногда может дать фору племяннику. Мы имеем в виду его отношения к грачевской помещице – матери Александра. Размышлять-то он размышлял, но поступил ведь действительно благородно: в ответ на ее доброту (с перерывом в семнадцать лет!) принял на себя заботы о ее сыне. Чего не скажешь о воплощении «сердечности» – племяннике Александре: другу и Софье он по прошествии месяца жизни в Петербурге письма написал, а вот послать весточку матери, на что ему пеняет дядя, все никак не соберется.
А разве дядя не радуется успехам Александра в чиновничьих и журналистских делах, когда таковые имеются? Кем, как не старшим другом и благородным покровителем был он Александру все время пребывания того в Петербурге? И если бы его отношение к Александру не было хотя и иронично-критическим, но в то же время и любовно-заботливым, то разве не созрел бы у него серьезный конфликт с женой – теткой Александра, человеком не только мудрым, но и чувственным, которая чисто по-женски тоже покровительствовала племяннику? Однако же, не считая некоторых «тактических» разногласий, таковой конфликт не только не возник, но даже не обозначился и намеком. Стало быть, действовали «злодей» дядя и воплощение доброты тетка не слишком розно. Разве нет?
Сомнительным нам кажется и «открытие» Лощица, согласно которому оказывается, что Петр Иванович «исповедует зло», более того, является «его носителем», подобно гетевскому Мефистофелю[169]. Сказано сильно. Но на какой почве вырастает такой вывод? А всего лишь из фразы Адуева-старшего, что он «верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и в прескверное». И из этого критик почему-то заключает: «Но ведь «верить в зло» – значит исповедовать зло, быть его носителем. Предназначение искусителя, то есть лица, прекрасно знающего ресурсы зла и умеющего при случае ими пользоваться, в Петре Адуеве просматривается невооруженным глазом»[170].
Странный вывод. Да и аналогия с Мефистофелем не убедительна. Ведь у Гете демон искушает доктора Фауста с целью отказаться от деятельности. В то время как все усилия Адуева-дяди направлены на то, чтобы Адуева-племянника к реальной деятельности – физической и духовной – пробудить. Впрочем, сравнение относительно знания добра и зла можно принять как возможное в одном контексте – мысли Мефистофеля о всеобщей связи вещей:
- Захотеть, и из досок
- Хлынет виноградный сок.
- Это чудо, ткань жива.
- Все кругом полно родства[171].
Но ведь в этом случае любой, кто не закрывает глаз и видит в жизни реально присутствующее в ней зло, кто уверен, что оно – не фантазия, а в действительности наряду с «прекрасным» существует и «прескверное», тот зачисляется в адепты и даже в акторы зла, причем в высшую его иерархию – в демоны.
На самом же деле в романе есть только одна, признаем, практически оправданная, но несколько сомнительная с моральной точки зрения, ситуация, инициатором которой был дядя. Это случай, когда Петр Иванович просит племянника приударить за вдовой Юлией Павловной Тафаевой, с тем чтобы отвадить своего любвеобильного компаньона Суркова, нещадно транжирящего на флирты с разными особами общие с Адуевым-дядей деньги. Но такая ситуация только одна, и больше в упрек дяде, в перечень «творимых» им «злых дел», нам поставить нечего. Да и в случае с Тафаевой дядя просил «приударить» не за девушкой-несмышленышем, которая сама вряд ли сумеет разобраться в происходящем и сделается жертвой обмана, а за взрослой женщиной, до того жившей пять лет в браке по расчету.
Что же еще скверного кроме этого наделал дядюшка? Когда же еще Петр Иванович использует в своих целях «ресурсы зла»? Ведь если таковые примеры есть, то их следовало бы назвать, потому что приводимые критиком резкие и многозначительные, но ничем не подкрепленные заключения о «темной» стороне природы Петра Ивановича не убеждают[172].
Наверное, неоправданно завышено с нашей стороны притязание ожидать от литературоведческого анализа глубокого содержательно-смыслового исследования, тем более учитывающего контекст социально-экономического и культурного развития России тех лет. Впрочем, корректно работающее в своем предметном поле литературоведение на это и не претендует. Вот как, например, трактуется конфликт между дядей и племянником в типичном современном литературоведческом тексте. Оценивая в одном из разговоров жизненные мерки Александра, дядя говорит: «Точно двести лет назад родился… жить бы тебе при царе Горохе». На что следует литературоведческий комментарий: «В александровском „взгляде на жизнь“ романтически преломлены безусловность и абсолютность героических в своих истоках требований и мерок, не приемлющих обыкновенных, повседневных проявлений и обязанностей бытия, всю прозу жизни вообще.
Для Гончарова, однако, прозаический характер новой эпохи – историческая непреложность, с которой обязан считаться каждый современник»[173].
В этом же ключе – перехода романной формы литературы от романтизма к реализму – трактовал столкновение характеров племянника и дяди, как это утверждает Ю.М. Лощиц, и В.Г. Белинский: «Антиромантическая» установка позволяет критику решительно сдвинуть Адуева-старшего в сторону «положительности»[174].
Что же стоит за «александровским взглядом на жизнь», «прозаическим характером новой эпохи» и объяснениями идейных конфликтов племянника и дяди писательскими «антиромантическими установками»? На наш взгляд, за явлениями, увиденными посредством «литературного зрения» и высказанными при помощи литературоведческих понятий, скрывается тектоническое общественное преобразование – уже произошедшая в Европе и начинающая совершаться в России смена социально-экономических укладов бытия. В это время западные соседи России, в основном очистившиеся от средневековой коросты разных форм рабства, уже прошли через горнило гуманизма Возрождения, религиозной реформации и, завершая просвещенческое преобразование умов, вступали на путь буржуазных революций. При этом конечный социальный смысл европейских трансформаций состоял в замене главного действующего лица старого общества – родовитого и высокопоставленного человека-паразита – главной фигурой нового общества – человека дела, выходца редко – из высших, часто – из средних и низовых слоев.
В разных странах Европы этот трансформационный процесс шел с разной скоростью и имел свои особенности. Общим же знаменателем для него был назревающий и уже начавший реализовываться социально-сословный раскол, определявшийся прежде всего базовыми представлениями о том, как, зачем и за счет чего (и кого) жить. Так, например, крупный немецкий социолог XX столетия Норберт Элиас сообщает о событии, имевшем место еще в 1772 году с великим немецким поэтом Иоганном Вольфгангом Гете. Случилось так, что Гете оказался в гостях у одного графа в обществе «мерзких людишек», которые были озабочены лишь тем, «как бы обскакать друг друга» в борьбе мелких честолюбий. После обеда, пишет Элиас, Гете «остается у графа, и вот прибывает знать. Дамы начинают перешептываться, среди мужчин тоже заметно волнение. Наконец граф, несколько смущаясь, просит его уйти, поскольку высокородные господа оскорблены присутствием в их обществе буржуа: «Ведь вам известны наши дикие нравы, – сказал он. – Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием…» «Я, – сообщает далее Гете, – незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал…»[175]
Процесс столкновения разных систем ценностей и взаимоисключающих друг друга способов отношения к миру в романе разворачивается постоянно. И каждый раз за ним угадывается конфликт между трудовой деятельностью буржуа и паразитическим существованием помещичьего сословия (вспомним, что Илья Ильич Обломов, например, искренне гордился тем, что за всю жизнь ни разу сам не натянул себе чулок на ноги!).
Конфликт этот присутствует и в столкновении разных способов жизни племянника и дяди Адуевых. В «Обыкновенной истории», при том что, в разговорах героев постоянно фигурируют понятия и ценности любви, дружбы, чувств, разума, сердца и т. д., тем не менее как бы вторым планом неизбежно возникает вопрос: участвует ли человек своим трудом в добывании средств к своей собственной жизни или средства эти достаются ему исключительно в силу исторически сложившегося «порядка вещей»? Иными словами, явилось ли любое из желаемого им продуктом собственных, упорных и настойчивых усилий либо произвелось на свет как бы само собой, в том числе и в результате молчаливого труда множества крепостных Евсеев или, например, подобно малине и «белому меду чистейшей воды» из Грачей. Один-единственный раз к этой мысли, хотя и в отвлеченной форме соперничества вдохновения юности и опыта зрелости, приходит и сам Александр: «…он дал себе слово… при первом случае уничтожить дядю: доказать ему, что никакая опытность не заменит того, что вложено свыше»[176].
К исследованиям творчества Гончарова вообще и его романа «Обыкновенная история» в частности в последнее время добавилось исследование В.И. Мельника, примечательное прежде всего тем, что трактовку гончаровского творчества предлагается рассматривать с позиций православия. Согласно автору романы Гончарова – свидетельство непрекращающегося всю жизнь поиска писателем религиозно-нравственного христианского идеала. «Идеал Гончарова как писателя … – это Евангелие. Его задача как художника – распространять и утверждать в современных людях христианский взгляд на жизнь, христианские идеалы и даже «христианскую цивилизацию» (это словосочетание – ключевое для романиста!). Именно под углом евангельского взгляда на жизнь и раскрывают свой смысл романы Гончарова»[177]. Каковы же доказательства, предлагаемые исследователем для подтверждения столь серьезного в своей однозначности тезиса?
По мнению В. Мельника, для всех гончаровских героев характерна не развитая религия – религия острых вопросов жизни и смерти, а «религия обытовленная». Тем не менее, начиная с «Обыкновенной истории», проблематика всей романной прозы писателя «восходит к Библии», это «мифологемная и всеопределяющая, универсальная оппозиция «ада» и «рая»[178]. Так, дядя Адуев (фамилия эта, по мнению Мельника, вообще сконструирована на основе слова «ад». – С.Н., В.Ф.) носит имя Петра (по-гречески – камень). И это якобы сделано Гончаровым для того, чтобы подчеркнуть «каменность его сердца», которым он слушал и не исполнял заповедей Христа. И вот это-то антихристианское «подсознательное» мировоззрение дяди и является причиной его падения.
По тем же причинам – отпадения от православия – происходит крах и племянника Александра Адуева, отошедшего от «простоты и наивности «младенческой веры» и не обретшего веру иную – мужественную, сознательную, когда преданность Божьей воле сочетается в человеке с мужеством исторического деятеля»[179].
Слов нет, предложенная В. Мельником трактовка возможна как исследовательская гипотеза. Но вот то, что она объявляет себя единственно верной, представляется сомнительным. Мнение, что все гончаровские герои обнаруживают «обытовленную» религиозность, может быть применено почти ко всем героям русской прозы XIX столетия. Таково было преимущественное состояние умов огромного большинства населения страны. «Евангелие» потому и является одной из культурных первооснов человеческой цивилизации, что содержит в себе универсальные и трансвременные человеческие коллизии, наполнено вневременными смыслами и ценностями. Именно в силу этой своей природы оно – наряду с иными основоположениями культуры, в том числе такими, как обыденное правосознание или альтруистические внутрисемейные отношения, – может быть применено и к романам Гончарова. Но вот то, что роман «Обыкновенная история» сводим исключительно или главным образом к коллизиям «Евангелия», представляется сомнительным. В своей конкретности он, несомненно, значительно более широк. А его герои, как мы старались показать, вовсе не столь одномерны, как это предлагается исследователем[180].
Завершая обзор мнений о трактовке образа Петра Ивановича Адуева, о природе столкновений племянника и дяди, отметим следующее. Постоянно разговаривая о соотношении разума и чувства, ума и сердца, герои романа на самом деле отстаивают собственные способы жизни, свои трактовки того, чем является в действительности и каким следует быть человеку, должен ли он быть деятелем или действительно удел достойного человека – недеяние, а также каковы должны быть его представления, в том числе и о себе самом. То есть речь идет о столкновении разных типов (не проявляется ли в этом еще одна форма расколотости?) российского мировоззрения и самосознания. И здесь, продолжая начатую линию рассмотрения изобретенных критиками «пороков и темных сторон» Петра Ивановича Адуева, попробуем и мы совершить, по возможности беспристрастный, анализ этой непростой фигуры. Сделать это тем более важно, что и Белинский справедливо видел в этом образе один из немногих примеров «делового человека», встречающихся в современной ему отечественной прозе.
Возможность максимально полного и непредвзятого анализа, на наш взгляд, дает прежде всего метод последовательного рассмотрения содержания бесед Александра с Петром Ивановичем, равно как и анализ совершаемых дядей поступков.
Итак, в эпизоде первом Петру Ивановичу предстоит сделать принципиальный выбор – принимать или не принимать на себя заботу о свалившемся ему на голову деревенском племяннике. Фон для этого непростого решения создают привезенные Александром письма – от жены брата Петра Ивановича и от ее сестры, за которой Петр Иванович в молодости, как мы узнаем из ее письма, немного ухаживал. Надо отметить, что предмет воздыханий молодого Петра Ивановича в своем теперешнем виде являет феномен, спокойное отношение к которому требует немалых сил. «Остающаяся по гроб ваша», как она завершает письмо, Марья Горбатова, оказывается, после знакомства с Петром Ивановичем не просто осталась старой девой, но чуть не сознательно «обрекла себя на незамужнюю жизнь»(!), что, оказывается, теперь дает ей возможность счастливо «воспоминать блаженные времена», не будучи подвергнутой вездесущей цензуре мужа. Что же из «времен»? Например, сюжет о том, как молодой Петр Иванович лазал для девушки в пруд, дабы сорвать желтый цветок, а поскольку последний обильно источал сок и перепачкал юноше и девушке руки, то он, Петр Иванович, пожертвовал и картузом, чтоб зачерпнуть в оном пруде воды для омовения дланей своих и юной особы.
Петру Ивановичу, следовало далее из письма, ежели он оказывался женатым, надлежало «открыть эту тайну» Марье Горбатовой, коя обещала хранить ее вечно. Расстаться же с ней она допускала возможность лишь в том случае, если неизвестные злоумышленники «вырвут ее у нее из груди вместе с сердцем». Мысль же, что Петр Иванович вдруг обнаружил себя «извергом, как все мужчины», то есть забыл Марью, вовсе не допускалась. Напротив, высказывалась уверенность, что он «сохранил к ней все прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы». Попутно отметим, что весь этот дурно состряпанный винегрет эмоций несколько в иных терминах будет воспроизводить и Александр, говоря о своей деревенской пассии и о сердечном друге.
Во втором письме – от жены брата, Петра Ивановича – просили принять Сашеньку «на свое попечение», спать с ним в одной комнате, дабы переворачивать с боку на бок при проявлениях беспокойства во сне и вовремя закрывать платком рот, чтобы в него под утро, не дай бог, не набились мухи. Предлагалось также остерегать юношу от карт, вина, дурных друзей и содействовать благорасположению к нему начальства.
Что же этот исключительно прагматичный с «чертами демона» столичный господин? Он – какой грех! – не бросается опрометью встречать племянника, а предварительно размышляет. При этом заключает, что Александра он не знает и, стало быть, не любит. Что прошлое и, не дай бог, воспоминания о Марье не налагают на него никаких обязательств. Вместе с тем он вспоминает, как тепло семнадцать лет назад мать Саши провожала в северную столицу его самого и как просила, когда подрастет Сашенька, помочь ему также обустроиться в Петербурге. К тому же, справедливо рассудив, что племянник вряд ли ровня ему даже прежнему, каким он сам был семнадцать лет назад, Петр Иванович подумал, что в столице с Сашей может случиться что-нибудь недоброе и ему, его дяде, придется отвечать перед своей совестью. Обдумав все это, он дает распоряжение лакею – когда племянник придет, его принять, а заодно, чтоб было сподручнее в какой-то форме последнего призреть, снять для него помещение над дядюшкиной квартирой.
Второй эпизод происходит в комнате у Александра, куда Петр Иванович приходит, чтобы узнать о планах племянника на жизнь в столице. Напомним, что перед этим Александр прогулялся по городу и воротился домой, «считая себя гражданином нового мира…». Что же этот новый вершитель человеческих судеб собирается делать? На прямой вопрос дядюшки следует ответ: «Я приехал… жить. …Пользоваться жизнию, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – все одно и то же… Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить… Осуществить те надежды, которые толпились…»[181]
Как же реагирует на этот бессмысленный лепет дядя? Благородно. С пониманием и вполне терпимо: «…ты, кажется, хочешь сказать …что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну, – так ли?» Более того, он постепенно начинает, одновременно предостерегая, вводить племянника в круг реальных проблем: «…да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все… Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать. …Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают… как я отучу тебя от всего этого? – мудрено! …Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и прекрасным человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном»[182].
Разве не прав дядя? Разве не заботлив, хотя и не берется прикрывать платком племяннику рот от утренних мух? Разве по-хорошему, но не назойливо, а в меру, не нравоучителен? А вот и финал разговора: «Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь… Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать»[183]. Согласимся, что, оценив то, что продемонстрировал Александр, решение дяди – большой аванс и уж точно груз, возлагаемый на самого себя. Спрашивается: зачем? И кроме как на родственные чувства и благодарность за доброту к нему самому в далеком прошлом, указать не на что. Ну чем не демонический персонаж!