О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1 Рубинштейн Моисей
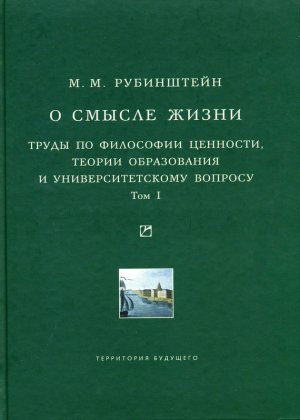
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МОИСЕЯ РУБИНШТЕЙНА
Казалось бы, в последние годы все «забытые» имена отечественной философии триумфально или пусть даже без лишнего шума вернулись к широкой публике, заняли свое место в философском обиходе и завершили череду открытий-воскрешений в российской интеллектуальной истории.
Вероятно, это благополучие иллюзорно – ведь признание обрели прежде всего труды представителей религиозно-философских направлений, удобных в качестве готовой альтернативы выхолощено официозной диалектике марксистского толка, но столь же глобальных в притязаниях на утверждение собственной картины мира. При этом нередко упускаются из вида концепции, лишенные грандиозности претензий на разрешение последних тайн бытия, но концентрирующие внимание на методологии и старающиеся не уходить в стилизованное богословие или упиваться спасительной метафорикой, которая вроде бы избавляет от необходимости строго придерживаться собственно философских средств.
Этим как раз отличается подход М. Рубинштейна – человека удивительной судьбы, философа и педагога, который неизменно пытался ограничить круг исследования соразмерно познавательным средствам используемой дисциплины. Его теоретико-познавательные установки подразумевают отказ от претензии достигнуть абсолютного знания в рамках философского анализа, основанного на законах логики и рассчитанного на человеческий масштаб восприятия. В подобном отказе от всеохватности познавательных устремлений сказывалось влияние неокантианства, а также школы прагматизма, прежде всего, главного ее представителя – Вильяма Джемса. В дискуссии о прагматизме на одном из философских собраний[1] М. Рубинштейн отмечал, что это направление, наряду с неокантианством, не рассматривает метафизику как объект научного или философского знания – такая познавательная установка не нарушает компетенции религии, но противостоит «средневековой тенденции» подчинять логику религиозному опыту[2].
При этом методологическая требовательность не означала этической безоценочности. Напротив, даже представители религиозной философии, преодолевшие увлечение неокантианством и настороженно относящиеся к прагматизму, например, С. Франк и Н. Бердяев подчеркивали своеобразную этизацию гносеологии школой «Виндельбанда – Риккерта»[3]. Также и Г. Шпет указывал на склонность Наторпа – одного из основоположников Марбургской школы неокантианства – рассматривать этику и эстетику как продолжение и развитие логики в иных модусах бытия[4].
Признание истины являлось в этой перспективе своеобразным долгом – отголоском категорического императива. Воля к истине – движущая сила любого познания, и логика возвеличивалась до уровня этики мышления. Если суждение основано на законах логики, отрицать его можно или вследствие недостаточной способности к логическому восприятию, или в силу желания обмануть. Отрицание логически очевидного оказывается безнравственно, если, конечно, оставаться в логической системе координат, не декларируя обращения к иным способам познания, которые не лишены права на существование, но не могут являться общеобязательными…
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Моисей Матвеевич Рубинштейн родился 28 июня (по новому стилю) 1878 года в селе Захарово Верхнеудинского уезда Забайкальской области в купеческой семье. После окончания Верхнеудинского (ныне Улан-Удэ) уездного училища он продолжил образование в Иркутской губернской гимназии. В 1899 году М. Рубинштейн поступил в Императорский Казанский университет, славный именами многих студентов, добившихся известности в самых различных областях науки. При университете была собрана богатая библиотека, налаживались связи с зарубежными центрами образования. Проведя год в Казани, М. Рубинштейн вместе с женой – Н. И. Зисман – уехал стажироваться в Германию – сначала, в мае 1900-го, в Берлин, потом во Фрейбург – изучать медицину. Увлеченный неокантианством (прежде всего в исполнении Виндельбанда и Риккерта), он в 1901-м решил оставить занятия естественными науками и перейти на философский факультет.
В 1905-м М. Рубинштейн успешно защитил у Риккерта диссертацию «Логические основы системы Гегеля и конец истории» и начал печататься в ряде немецких и российских изданий. Поработав в университетах Берлина, Дрездена и Гейдельберга, он в 1907-м возвращается с семьей в Россию – близость к народническим идеалам просвещения и предчувствие грядущих перемен заставили его покинуть – на тот момент – благополучную Германию.
В 1909-м вышла первая его монография «Идея личности как основа мировоззрения». М. Рубинштейн читает лекции на Высших женских курсах В. А. Полторацкой, сотрудничает с журналами «Вопросы философии и психологии», «Русская мысль» и «Вестник воспитания». В 1910-м занимает должность декана педагогического факультета Московских высших женских педагогических курсов Д. И. Тихомирова, одновременно преподавая на многочисленных курсах повышения квалификации. В 1912-м начинает преподавательскую деятельность при кафедре философии Императорского Московского университета. Здесь помогла его формальная принадлежность к лютеранству, поскольку еврей, исповедующий иудаизм, преподавать в университетах права не имел. (Так же и в случае С. Франка устройство на работу в Санкт-Петербургский университет было возможно лишь благодаря его переходу в православную конфессию.) М. Рубинштейн становится все более известен, как один из ведущих исследователей в области проблем педагогики, в 1913-м выходит его монография «Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой».
М. Рубинштейн отличался не только широтой научных интересов, но и организаторскими способностями. Являясь членом Московского психологического общества, возглавляемого Л. Лопатиным, он занимался организацией съездов и конференций, стоял у истоков студенческого научно-педагогического кружка при Императорском университете, вел неустанную просветительскую работу, участвуя в заседаниях Московского общества грамотности, Кружка по дошкольному воспитанию при Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского. Кроме того, пытался наладить издание серии «Великие педагоги», привлекая к сотрудничеству таких неординарных мыслителей и педагогов, как Г. Шпет и П. Блонский.
Конечно, М. Рубинштейн особенно болезненно воспринимал начало войны со страной, где проходило его становление как философа. Стремясь предельно отчетливо выразить свою гражданскую позицию, он не мог оставаться в стороне от полемики по поводу духовных истоков войны. Его точка зрения особенно ярко выражена в статье «Виноват ли Кант?». Прежде всего это был ответ на изобретенные В. Эрном и адресованные Канту упреки в апологии субъективизма, который будто бы обосновывает допустимость любого произвола во всех жизненных сферах[5].
М. Рубинштейн подчеркивает, что сущность кантовской философии заключается как раз в утверждении моральной ответственности субъекта – война не является неизбежным выражением особенностей немецкой культуры, напротив, представляет собой отпадение от ее основ, от заветов великих ее деятелей. Попытки В. Эрна сблизить «Канта и Круппа» он именует «вандальскими актами» и «чудовищной нелепостью»… Вообще, надо сказать, многие статьи М. Рубинштейна представляют собой образец качественной философской публицистики, достаточно редкой для социально-философского поля в предреволюционной России.
Как уже было отмечено, сочетание в человеке философского и организаторских талантов встречается нечасто, но это как раз случай М. Рубинштейна. Особенно показательна борьба за основание Иркутского университета. Вообще университетский вопрос – тема, к которой отечественные философы обращались довольно редко. Отчасти это было связано с традиционно непрочным положением философии в российских университетах, а также с подозрительным отношением со стороны представителей «вольной» философии к официальным учреждениям. Для М. Рубинштейна практический аспект процесса образования – прежде всего положение дел в высшей школе – уже в молодости являлся одним из приоритетов в научных интересах, отраженных в статьях «К вопросу о русских студентах в немецких университетах», «Пасынки университета (О подготовке молодых ученых)», «Университет и воспитание».
Планы организации Восточно-Сибирского университета зрели давно, но дореволюционные власти не были от этой идеи в восторге, поскольку, по удачному выражению одного из сыновей М. Рубинштейна – Александра[6], Иркутск был перевалочным пунктом для рассредоточения политических заключенных. Надежды на создание университета пробуждались и рушились вместе со сменой правительств – царского, временного, советского, «Всемирного сибирского», снова советского… Летом 1918-го М. Рубинштейн, заручившись поддержкой в Наркомпросе, очередной раз выехал в Иркутск, но пока находился в пути, (более месяца), советская власть в Сибири была свергнута – достигнутые с большевиками договоренности потеряли силу, и учреждение университета снова оказалось под угрозой. Лишь счастливый случай спас в дороге семью: командировка, оформленная Наркомпросом, являлась достаточным поводом для тюремного заключения. Но военным комендантом станции в городе Курган оказался офицер – бывший студент М. Рубинштейна, выдавший ему охранную грамоту…
Переговоры об обеспечении нового учебного заведения материально-технической базой пришлось начинать с нуля, велся напряженный поиск источников финансирования. В августе министр народного просвещения Временного сибирского правительства В. Сапожников подписал устав университета. М. Рубинштейн назначается исполняющим обязанности ректора, университету передается бывший дом генерал-губернатора Иркутска, именуемый горожанами Белым домом. В октябре, наконец, состоялось торжественное открытие, М. Рубинштейн был утвержден ректором[7].
Еще на стадии подготовки к открытию университета отчетливо ощущалась необходимость в поиске достойных преподавательских кадров. М. Рубинштейн старается привлечь к преподаванию в новом университете ряд известных столичных специалистов, знакомых коллег – философа Г. Шпета, востоковеда А. Крымского, занимавшегося историей античности Н. Куна, филологов и историков литературы А. Орлова, С. Радцига, Б. Ярхо[8].
Большинство ученых не смогли принять приглашение в силу экстремальных обстоятельств, характерных для послереволюционного времени. Тем не менее ректору удалось наладить работу историко-филологического и юридического факультетов, и, несмотря на экономическую разруху и угрозу продолжения гражданской войны, он борется за открытие медицинского и физико-математического. Активно формируется университетская библиотека. В Иркутск переехали несколько преподавателей из Казанского университета, среди них замечательный социолингвист А. Селищев, который возглавил кафедру русского языка.
Но возникают проблемы с местными военными властями, требующими разместить в Белом доме лазарет, а также провести поголовную мобилизацию студентов и преподавательского состава, включая профессоров. В результате этих конфликтов против ректора дважды возбуждались уголовные дела, которые, правда, удалось замять. Университет устоял – в октябре 1919-го благополучно отмечали его годовщину.
Все же очередная смена власти принесла новые неприятности: человек, оказавшийся способным в период правления белых сдвинуть с мертвой точки дело по организации университета, начал вызывать подозрения. В январе 1920-го М. Рубинштейн «по состоянию здоровья» складывает с себя полномочия ректора и сосредотачивается на подготовке книги «Платон-учитель» для продолжения серии «Великие педагоги». В то же время советская власть была заинтересована в открытии учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов для работы в новых условиях. М. Рубинштейн принимается за организацию Восточно-Сибирского педагогического института и вскоре становится его ректором. Впрочем, уже в следующем, 1921-м году институт был преобразован в педагогический факультет Иркутского университета, а М. Рубинштейн остался в должности декана.
В 1920-м в Москве выходит третье издание «Очерка педагогической психологии…», вызвавшее положительную реакцию в среде либеральных педагогов, – на тот момент еще продолжают издаваться несколько педагогических журналов, альтернативных официозу. Так, П. Каптерев дал небольшую рецензию в «Педагогической мысли», отмечая, что очерк написан «живо, просто, сердечно; во всем видится не казенная, обязательная работа, а труд, начатый по свободному изволению»[9]. Последнее, значительно сокращенное издание данной книги было осуществлено в 1927 году.
О творчестве М. Рубинштейна отзывался и В. Зеньковский, характеризуя «Очерк педагогической психологии…» как одну из лучших отечественных книг по общей педагогике[10]. Впрочем, непосредственно философские труды М. Рубинштейна остались В. Зеньковскому незнакомы. Об этом свидетельствует и замечание в «Истории русской философии», что книга «О смысле жизни» практически недоступна заграницей, и предположение, что М. Рубинштейн был до революции поклонником «метафизического», а не нормативного и теоретико-познавательного идеализма. (О необходимости тщательного разграничения различных видов идеализма он подробно толковал в статье, посвященной Риккерту)
Чтобы немного представить себе обаяние личности М. Рубинштейна, интересно обратиться к воспоминаниям Елены Боннэр, которая приходится ему внучатой племянницей. «В 1982 году, когда я еще ездила из Горького в Москву мне на маминой полке попалась на глаза книга в старом коричневом переплете издания 1913 года – М. М. Рубинштейн «Очерк педагогической психологии». Я видела ее всю жизнь, помнила, что там есть дарственная надпись от автора моей бабушке, но никогда раньше у меня не появлялось желания прочесть эту книгу. Я взяла ее в Горький. Теперь нашлись «время и место». При чтении книги меня не покидало то же ощущение доверительности и серьезности, которое возникало при каждом общении с дядей Мосей в реальной жизни. Доверительности и серьезности и по отношению к собеседнику – сейчас читателю, – и к ребенку, о котором вся книга. Детский поиск Бога, поиск доброты, попытки постигнуть понятия «жизнь» и «смерть». Ну, конечно же, он был идеалист, наш дядя Мося»[11].
В 1923-м он принимает приглашение со стороны нескольких московских вузов и остается в столице, работая в МВТУ, МГПИ, Центральном институте физкультуры и т. д. В конце двадцатых годов в полную силу развернулась безобразная травля педагогов, позволяющих себе мыслить не только в пределах партийных установок. М. Рубинштейна клеймят, как идеалиста и буржуазного реакционера[12]. Его также не допускают к работе над первой советской педагогической энциклопедией, составленной из тематических статей и вышедшей в 1927 – 1929 годах.
Следствием этой кампании явился арест, полгода, проведенные без предъявления обвинения в одиночной камере, и ссылка в Алма-Ату. Интересно, что помощь в этой ситуации оказала семье Рубинштейнов комиссия, возглавляемая Е. Пешковой. Летом 1933-го М. Рубинштейн вернулся в Москву и некоторое время не мог устроиться на работу – следствие ссылки. В наиболее страшный период 1936 – 1937 годов М. Рубинштейна не тронули, но горе не обошло семью: в Ленинграде по 58-й статье был арестован старший сын – Борис, приговоренный к десяти годам заключения без права переписки и расстрелянный в феврале 1938-го. В том же году в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины) была отправлена и его жена. М. Рубинштейн забрал к себе в Москву двух внуков – четырех и шести лет, – которые в дальнейшем у него и воспитывались.
Судьба других сыновей М. Рубинштейна сложилась более удачно: Александр стал одним из ведущих в стране специалистов в области органической химии, Владимир – известным музыкантом, а Виктор – писателем, занимающимся фольклором малых народов Сибири и Дальнего Востока, автором многочисленных книг для детей (псевдоним – В. Важдаев) …
С конца 1920-х годов М. Рубинштейну становилось все сложнее публиковать свои труды, к примеру, он вынужден заниматься вопросами «рационализации обучения шоферов с помощью тренажера»… После начала Великой Отечественной войны последовала эвакуация в Сибирь с «полагающимися» приключениями в пути – так, например, М. Рубинштейн отстал от поезда, пытаясь на одной из станций найти кипяток. Не только супруга с внуками, но и пиджак с паспортом, билетами и деньгами остался в купе… К счастью, ему удалось попасть на один из скорых поездов и нагнать свой состав.
Находясь в эвакуации, М. Рубинштейн работал на кафедре педагогики в Красноярском педагогическом институте. Это не спасало его от необходимости возделывать участок в двенадцати километрах от города, добираясь туда пешком. Положение дел на фронте позволило ему в 1943-м вернуться в Москву и возобновить работу в МГПИ. После окончания войны М. Рубинштейна ожидали новые испытания: его клеймят как космополита, «преклоняющегося перед иностранщиной», и приверженца фрейдизма, «принятого на идеологическое вооружение германским фашизмом»[13]. Он также обвиняется в апологии «эгоцентризма и эгоизма», выражающих сущность «современного американского агрессивного империализма»[14] и в проповеди ницшеанства, получившего развитие в «человеконенавистнических теориях»[15]. В упрек ставилось и то, что в своих лекциях он, к примеру, не дает ссылок на последнее выступление тов. Сталина перед туркменскими конниками[16]… В результате оголтелой травли в 1951-м М. Рубинштейну пришлось покинуть педагогический институт. Умер он 3 апреля 1953-го и был похоронен на Введенском кладбище в Москве, как пишет Е. Боннэр, так и не дождавшись посмертной реабилитации сына…
В последние годы появился ряд диссертаций, посвященных творчеству М. Рубинштейна (особый интерес представляет фундаментальная работа Д. В. Иванова[17]). В то же время труды М. Рубинштейна за последние полвека переизданы не были, за исключением сокращенного варианта книги «Проблема учителя», снабженной небрежным предисловием, в котором даже год рождения М. Рубинштейна указан неверно[18]…
ВОСПРИЯТИЕ НЕОКАНТИАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В исследовательской литературе, посвященной западному неокантианству, отмечается, что за бурным расцветом данного направления последовало столь же неожиданное исчезновение с философской сцены. Разумеется, на это можно возразить, что традиция с наступлением национал-социализма была прервана искусственно. Тем не менее некоторые причины, способствующие решительному завоеванию неокантианством популярности, предопределили и его быстрое забвение[19].
Одним из основных поводов к развитию нового философского направления в Германии, начиная с середины XIX века, была неприспособленность системы Гегеля к условиям стремительного развития естественных наук. Вероятно, теория Канта позволяла более удачно легитимировать специальные науки, основанные на изучении эмпирической действительности, признавая их значимость как «полноценного» содержания сознания. Кроме того, учение Канта могло противостоять притязаниям материалистических течений, захлестывающих в своем позитивистском теоретизировании и сферу этики. Кант же пытался обосновать несводимость основ морали и религии к понятиям и деятельности рассудка.
Помимо историко-философских поводов способствовали развитию неокантианства и некоторые социально-политические обстоятельства, прежде всего цензурные сложности с преподаванием философии в университетах, вызванные реакцией на революционные события 1848 года. Востребованной оказалась в первую очередь гносеология, вроде бы не стремящаяся непременно обращаться к особенно злободневным темам. (Довольно быстро такая ситуация изменилась, и в русле неокантианства начали зарождаться, например, концепции критического социализма или либерально-педагогические теории.)
Необходимо отметить и разочарование в сциентизме, сосредоточенном на выявлении общих закономерностей, но чуждом интереса к ценностным аспектам познания и к культурному развитию. Именно культурно-философская проблематика сделалась вскоре для неокантианства ведущей.
Надо сказать, что социально-политический оптимизм неокантианства, а также вера в неуклонность исторического прогресса и неисчерпаемость «запасов» идеальных ценностей в свете трагических событий первой половины XX века несколько «скомпрометировали» данное направление и заметно охладили к нему интерес. Так или иначе, возникает вопрос, существовали ли в России на рубеже XIX-XX веков какие-либо специфические условия для успешного продвижения данного направления?[20] Во многом именно социальные аспекты неокантианских концепций, создающихся в условиях «потепления» политического климата в Германии, привлекали внимание отечественных философов, ищущих альтернативы ортодоксальному марксизму[21]. Знаменитый сборник «Проблемы идеализма», в котором приняли участие Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк и другие наиболее известные представители отечественной философии того времени, отчасти был посвящен проблемам обоснования социальных теорий этическими предпосылками учения Канта. Интересно, что даже перейдя на позиции религиозной философии и отдалившись по своим глобальным мировоззренческим позициям от неокантианских стратегий, некоторые из участников этого сборника время от времени применяли аргументацию, заимствованную у неокантианцев[22].
Например, С. Булгаков, ведя полемику в «Философии хозяйства» с марксистскими социологическими притязаниями, приводит в качестве обоснования невозможности предсказать ход истории теории Баденской школы, разграничивающие естественные (обобщающие) и исторические (индивидуализирующие) науки[23]. Надо отметить, что это было скорее разграничение методов, которые в той или иной степени были призваны применяться в любом исследовании.
По мнению С. Булгакова, индивидуализация какого-либо явления неизбежно предполагает признание его нетипичности и невозможность полностью укоренить это явление в системе закономерностей, которые позволили бы делать достаточно определенные прогнозы или предсказания. В этом плане также показательно неокантианское разделение понятий закономерности и причинности – первое подразумевает подчиненность законам эмпирической действительности, второе – мотивы, выражающие свободное творческое начало…
Для неокантианства в целом характерно стремление утвердить философию в статусе верховной формы научной рациональности, способной определять методологию различных специальных наук. Так, в отечественной философской традиции особенно напряженные дебаты велись вокруг методологии исторического знания. В этом плане показательна дискуссия между «ранними» Струве и Бердяевым с одной стороны и сторонниками школы «субъективной социологии» с другой.
Некоторые российские историки или историософы обращались к неокантианским методологическим разработкам (прежде всего Виндельбанда и Риккерта), в частности, к концепции, разделяющей способы научного познания на номотетический, который ориентирован на выявление общих закономерностей, и на идеографический, призванный концентрировать внимание на индивидуальном и неповторимом. Значимость исторического события при этом зависела от степени его соотнесенности с миром идеальных ценностей. По мысли Риккерта, оба этих метода могли применяться в любой области знания, определяя лишь исследовательский угол зрения. Важность данного подхода, берущего исток в немецкой исторической школе, признавали Н. Кареев, А. Лаппо-Данилевский и В. Хвостов, но их историко– или социально-философские рассуждения в целом не укладываются в рамки неокантианства. Также и философы – правоведы (например, Б. Кистяковский) при известной симпатии к неокантианству по существу остаются в стороне от этого течения.
Ряд отечественных академических философов пытались развивать непосредственно учение Канта, не ориентируясь на традиции немецкой школы неокантианства, но уделяя особое внимание вопросам гносеологии, проблемам имманентности познания (ограниченности человека миром явлений и собственными представлениями, которые заменяют бытие «вещей в себе») и вытекающей отсюда опасности солипсизма или философского эгоцентризма (А. Введенский, И. Лапшин, Г. Челпанов).
Представители российского неокантианства, как правило, прошедшие философскую подготовку в университетах Германии, группировались вокруг международного журнала «Логос» (1910 – 1914, 1925), издаваемого на немецком и русском языках, – кроме М. Рубинштейна наиболее известны среди них С. Гессен, Б. Яковенко, Ф. Степун, В. Сеземан. Их интересовали прежде всего теория познания в духе кантовского критицизма и определение предмета философии. В этой связи характерно стремление М. Рубинштейна оградить философию от гнета социальных ожиданий – от наивно-позитивистских попыток сделать из нее инструмент общественных преобразований. В этом, кстати, по его мнению, заключалась одна из причин задержки исторического развития философии в России[24].
Опора на последние достижения теории познания сулила новые возможности противостоять методологическим «вольностям» религиозно-философских течений. При этом необходимо отметить, что впоследствии большинство близких неокантианству мыслителей из круга «Логоса» также стремились обогатить данную традицию онтологической проблематикой, разрабатывать теорию познания в синтезе с феноменологией (В. Сеземан) или с философией жизни (Ф. Степун, а также М. Рубинштейн в период работы над книгой «О смысле жизни»).
Не избежал увлечения философией, причем именно в неокантианском исполнении, и Б. Пастернак, отправившись на выучку в Марбург к Когену Данное направление подкупало тем, что «не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук»[25]. Не подчиненное терминологической инерции неокантианство, по его мнению, черпало вдохновение в первоисточниках, отчего философия «вновь молодела и умнела до неузнаваемости»[26].
Несмотря на то что ряд отечественных философов в начале XX века защитили под руководством неокантианцев диссертации в Германии[27], данное направление не завоевало в российской философской среде главенствующее положение. С одной стороны, строгость методологических установок не позволяла свободно развертывать излюбленные религиозно-философские сюжеты, с другой – представители марксистских направлений без разбора отметали все, что так или иначе связано с идеализмом, опасаясь распространения «реакционно-буржуазных» теорий, уводящих от насущных социальных проблем в туманно-метафизические сферы.
Среди проблем, исследуемых в русле отечественного неокантианства, особая актуальность в дискуссиях начала XX века придавалась спору «догматизма» и «критицизма» – спору, который выражал попытки осмыслить вопрос о природе философского знания на новом культурно-историческом этапе. Является ли методологическая рефлексия всегда лишь эхом уже свершившегося – непосредственного акта познания, можно сказать, жизненного впечатления, которое собственно и представляет собой материал для ретроспективно-критических изысканий? Или же стремление к построению отчетливой методологии может определять степень подлинности познания? Ясно, что однозначных ответов здесь быть не может…
Нельзя сказать, что «Логос» придерживался исключительно неокантианской направленности[28]: в журнале публиковались и культурологические труды, и работы представителей феноменологии или даже мыслителей, близких религиозной философии. Но также невозможно отрицать и то, что «изюминку» журнала редакция видела в отчаянно амбициозной задаче – в выработке системы философии, позволяющей глобально упорядочить способ мышления человека, исчерпывающе выявить условия возможности универсальной познавательной деятельности. При этом подчеркнутая претензия на научность, выраженная в гипертрофированном систематизме, исходила прежде всего от одного из немецких кураторов журнала – Риккерта, который, впрочем, лишь развивал тенденции, заложенные в учении самого Канта[29].
Интересно, что едва ли не наиболее позитивные отклики «Логос» вызывал в среде, близкой к набирающим силу, в ту пору относительно новым наукам – психологии, социологии и педагогике[30]. Кроме того, высказывались предположения, что на его страницах может происходить выработка своеобразного метаязыка, обеспечивающего коммуникацию между различными областями культуры[31]. Подобные надежды, правда, необходимо было еще согласовать с программными гносеологическими установками издания, призывающими к поиску критериев, которые должны определять «зоны ответственности» едва ли не каждой науки, будь то в естествознании или в гуманитарных сферах.
Со стороны ряда экзальтированно-религиозных философов (прежде всего В. Эрна) журнал «Логос» подвергался нападкам за утрату национально-философских традиций: избыточный рационализм и недостаточное внимание к онтологической проблематике. Н. Бердяев толковал даже о «полицейских» функциях неокантианства, подразумевая излишне критическое отношение этого направления к методологии философского познания, – данную метафору использовал изначально сам Кант в «Критике чистого разума». Вообще полемика между представителями направления, близкого «Логосу», и мыслителями, издающими журнал «Путь», – едва ли не наиболее значимый сюжет в развитии отечественной предреволюционной философии.
Как известно, Виндельбанд, узнав о выпуске содружеством молодых неокантианцев сборника «О мессии» и намерении Ф. Степуна, Н. Бубнова и С. Гессена назвать предполагавшийся журнал «Логос», отнесся к этому с оттенком иронии, высказав предположение, что они еще могут «причалить у монахов»[32]. Ф. Степун отмечает в этой связи, что на позициях чистого неокантианства впоследствии оставался лишь Н. Бубнов. Сам Ф. Степун отчасти сблизился с позициями религиозно-философского направления, – о состоявшемся сближении свидетельствовало сотрудничество бывших противников в эмигрантском журнале «Новый град», издаваемом в Париже…
В то же время критика неокантианства велась не только с религиозно-философских позиций. Так, Г. Шпет[33] достаточно резко отзывался о типологии наук, предложенной Риккертом, но это был бой уже на едином поле – в пределах философии как рационально-логического метода познания. А. Белый, посвятивший изучению неокантианства немало времени, именовал в своих мемуарах философские диспуты с участием представителей этого направления логическими сальто-мортале, понятийной гимнастикой или философскими шахматами. Показательно гротескно-кладбищенское стихотворение «Мой друг», написанное в 1908-м и посвященное некоему «философскому силуэту»:
- Жизнь, – шепчет он, остановясь
- Средь зеленеющих могилок, —
- Метафизическая связь
- Трансцендентальных предпосылок.[34]
Ироничность, правда, не мешала ему в то же время создавать эклектические трактаты, представляющие собой попытку символистского преодоления неокантианства на пути к теософии. Особенно показательна в этом отношении статья «Эмблематика смысла», написанная в 1909 году[35].
Неокантианство нередко вызывало упреки в оторванности от жизни, поскольку представители данного направления, как правило, утверждали, что методологически выверенная философия может работать лишь с содержанием сознания, так или иначе преобразованным особенностями человеческого восприятия. Отвечая на подобные выпады (например, со стороны Л. Лопатина), М. Рубинштейн отмечал, что реальность объективного мира при этом не отрицается, подчеркивается лишь невозможность толковать о трансцендентном, выдавая собственное философствование за глас вечности[36]. Ф. Степун, со своей стороны, называл сетования противников критицизма по поводу схоластичности неокантианства однообразными и навязчивыми, как мотив уличной шарманки[37]…
СИНТЕЗ НЕОКАНТИАНСТВА И ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ
Все же отвлеченность постановки проблем и сухость неокантианских построений заставляли М. Рубинштейна искать путей к созданию более жизненной концепции. Его призывы к современной философии отказаться от скитаний вдалеке от жизни иной раз напоминали навязчивое заклинание, повторяясь на первых страницах «О смысле жизни» десятки раз. Сверхзадачей этого труда являлось наполнение гносеологических конструктов «соками подлинной действительности» – это представлялось возможным за счет обращения к личностной проблематике. Надо сказать, что и Риккерт, несмотря на свою критику интуитивизма и биологизма, частично признавал правоту философии жизни, поскольку «мир представляет собой бесконечно большее, нежели то, что без остатка укладывается в рассудочные понятия»[38].
На протяжении всего своего творческого пути М. Рубинштейн развивает теорию Виндельбанда и Риккерта, утверждающую, что любое явление или предмет обретают смысл только благодаря связи с идеальными ценностями, которые представляют собой неисчерпаемую творческую задачу. Стремление к совершенству, приближение к идеальным ценностям М. Рубинштейн именовал «творчеством сущности» – освобождением от власти времени в мире культуры. При этом отмечалось, что задача для каждого всегда индивидуальна и неповторима и смысл может быть постигнут и реализован только целостной личностью, не расщепленной искусственными условиями познания на разум, чувство, волю и т. д. Вопрос об индивидуальном начале и в теории познания, и в историософии был близок неокантианцам Баденской школы, но у М. Рубинштейна он приобретает самодовлеющее значение – философия, по его мнению, в отличие от науки, не может быть безлична. Проблема смысла жизни решаема лишь как вопрос о «личности и ее чаяниях»[39]. Понятие личности было для М. Рубинштейна неразрывно связано с атрибутом жизненности: «живая личность вдохнет в факты душу»[40].
При этом в его наиболее значительном философском труде «О смысле жизни» главенствующее положение занимает собственно категория жизни. В этот период он оказался восприимчив влиянию, прежде всего Бергсона, и старался обогатить гносеологические установки неокантианства обращением к онтологии.
Концепция Бергсона, по мнению М. Рубинштейна, в своем стремлении к живой полноте действительности упускала из вида столь близкий неокантианству мир идеальных ценностей, лишаясь телеологии, поскольку отсутствие норм и ценностей означает утрату цели и критериев развития. В то же время избыточно систематическая кабинетная философия неокантианцев зачастую игнорировала многообразие эмпирической реальности и роль непосредственного ощущения – самоочевидности – в гносеологии.
Основной атрибут жизни в концепции М. Рубинштейна – возможность действия, а следовательно, изменения и развития (в данном положении отчетливо чувствуются также фихтеанские мотивы). Жизни необходимо наличие перспективы, и М. Рубинштейн парадоксальным образом постулировал необходимость вечного несовершенства человека, поскольку абсолютная гармония подразумевает отсутствие стремлений и превращается в мираж, отдаленностью своей сулящий лишь разочарование и опустошение. Подлинный человек немыслим без стремления к совершенству, в противном случае это лишь застылый безжизненный фантом схоластических изысканий и метафизических грез. Воплощение идеальных целей недосягаемо во всей полноте, но предполагает бесконечность степеней восхождения.
ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ И ОТКАЗ ОТ ЭСХАТОЛОГИИ
В книге «О смысле жизни» М. Рубинштейн стремится к построению системы мировоззрения, решающей чертой которого является оптимизм, основанный на непосредственном чувстве бытия, на доверии к жизни. Интересно, что собственно для неокантианской традиции подобное задание выглядело «подозрительным», поскольку мировоззренческая система может выходить за рамки критической философии, включая и метафизические моменты, и элементы веры, являясь неопровержимой и недоказуемой. Другое дело – исследование гносеологических условий возможности построения системы мировоззрения…
В то же время М. Рубинштейна отличает столь нехарактерная для большинства отечественных религиозных философов методологическая отчетливость – неокантианская закалка и искушенность в теории познания требовали устранения, на его взгляд, фантастических предпосылок и отправных точек философствования, таких как, например, идея об утраченном абсолюте, находящемся «позади мира», вне истории и естественных законов, но парадоксальным образом предстающем также конечной целью развития человека и мира.
М. Рубинштейн подчеркивал близость самообмана в попытках избавиться от изначального противоречия в концепциях, постулирующих идею абсолютного совершенства, оказавшегося почему-то вынужденным творить человека, способного отпасть от божественного плана бытия в царство хаоса и смерти. Абсолютная гармония, порождающая несовершенное существо и подразумевающая возможность вселенской катастрофы изгнания из рая, разоблачает себя как мнимость. Уловки религиозно-философского толка, «оправдывающие» абсолют, приписывая ему благородство дарующего свободу, не спасают от возникновения печального образа «бога, играющего с самим собой». Потребность в сотворении несовершенного человека приоткрывает глубинный надлом в самом абсолюте, который оказывается далеко не всемогущ и не всеблаг, допуская возможность иных планов бытия, наполненных горем и бессмыслицей. В конечном счете, человек расплавляется в сиянии абсолюта, представляет собой какой-то досадный срыв в космогонии, а миф о потерянном рае оборачивается развенчанием земного существования, жизнью «с наморщенным лбом и насупленными бровями»[41]. М. Рубинштейн подчеркивает наивность теодицеи, утверждающей странную иерархию степеней блага, поскольку зло оказывается необходимо абсолюту ради возможности преодоления и достижения тем самым «большего добра». Не лучше ли необъяснимое оставить необъяснимым и сосредоточиться на доступных человеку средствах познания?
Эмпирическая действительность достоверна, мир представляется творческой задачей – возможностью воплощения идеальных ценностей. Подобное мировоззрение М. Рубинштейн именует «идеал-реализмом», не вдаваясь, впрочем, в историю развития данного термина. Его использование выражает уверенность в отсутствии непреодолимого разрыва между различными планами бытия – окружающей реальностью, доступной непосредственному восприятию, и миром идеального, наделяющим эту реальность телеологией.
Основой для развития теорий идеал-реализма явилось еще учение Канта о трансцендентальном идеализме, утверждающее изначальное соответствие познавательных способностей человека (априорных форм сознания) и законов объективной действительности. Но в концепции Канта подобное соответствие предполагалось все же лишь по отношению к миру явлений – вещи в себе оставались непостижимыми, лишенная метафизической основы методология не позволяла наделять их какими-либо характеристиками.
Развернутые теории собственно идеал-реализма стремились преодолеть элементы критического агностицизма, несколько упрощая дело и концентрируя внимание на способности человека к непосредственному «до-теоретическому» восприятию не только эмпирического, но и идеального мира. Особенно отчетливо данная тенденция заметна в творчестве Н. Лосского, развивающего на основе причудливого сочетания платонизма и учения Лейбница свою концепцию интуитивного познания и иерархического персонализма – концепцию, не лишенную фантастических черт, которые временами переводят его изыскания в эзотерическое русло. Несмотря на некоторое терминологическое сходство, позиция М. Рубинштейна далека от гносеологических представлений Н. Лосского, позволяющих последнему толковать о субстанциальности идеальных или духовных сущностей и увлекаться теориями перевоплощения.
Отказ от попыток спрятаться от предстояния небытию за псевдорациональные конструкты или религиозные мифы требует мужественного смирения, основанного в то же время на здоровом чувстве жизни, на непосредственности живых впечатлений. Эсхатологический пафос был М. Рубинштейну всегда чужд, сотериологические идеи он рассматривал как оставляющие чувство неловкости попытки «вести речи за бога» – история первородного греха представлялась ему интересной разве что в метафорическом ключе.
Идея бессмертия души оказывается в этой перспективе также лишь рассудочным ухищрением и проявлением психологизма, раскалывающего духовное и естественное начала человека. Факт смерти неоспорим, дело лишь в нашем к этому отношении: преждевременная или насильственная смерть вызывает недоумение и протест, смерть же стареющего организма естественна и может представляться необременительным избавлением. Надо сказать, что концепция М. Рубинштейна выглядит в данном случае избыточно радужной и не лишенной поверхностного позитивизма – он не раз цитировал по этому поводу А. Мечникова, уподобляющего «нормальную» смерть спокойному засыпанию и чуть ли не блаженству в предвкушении долгожданного отдыха.
Попытка разобраться в вопросе о бессмертии вообще нередко подменяется стремлением избавиться от страха смерти… На данный аспект концепции М. Рубинштейна обращал внимание и Д. Чижевский, отмечая, что бессмертие человеческого бытия вряд ли удастся «равноценно» заменить вечностью творческих, культурных ценностей, воплощенных, например, в величии готических соборов[42]. Действительно, отрицая, что называется, бессмертие души, М. Рубинштейн не делает следующий шаг в стиле стоицизма, признавая трагизм неизбежного прекращения любого индивидуального существования, но предлагает некий малоутешительный эрзац – вечность мира культуры. Д. Чижевский оспаривает правомерность подобного подхода, полагая что в этом вопросе оправданна лишь религиозная постановка проблемы, которая, по его мнению, и может способствовать завершенности философской системы.
С одной стороны, отказ от метафизических предпосылок и тем более от религиозных установок, предопределяющих направление и исход познавательных устремлений, представлялся М. Рубинштейну основным условием чисто философского творчества. В то же время, показывая наивность концепций, которые пытались обосновать метафизическую необходимость зла и не умалить при этом благости абсолюта, он в свою очередь действительно впадает в сходное противоречие: смысл придается жизни благодаря возможности преодоления и сознанию противоположностей – красота проявляется в сопоставлении с безобразным. Окончательное достижение идеала означает в представлении М. Рубинштейна уничтожение жизненной силы[43], любой успех всегда относителен и не может лишить стремление цели. Но тем самым невольно оправдывается и вечное несовершенство мироздания, допускающего смерть и распад.
Так или иначе, согласно его концепции, преодоление времени возможно лишь благодаря творчеству и становлению мира культуры, в котором человеку отводится уникальная роль как носителю идеальных ценностей. При этом творческий антропоцентризм, развиваемый М. Рубинштейном, свободен от метафизических мотивов, свойственных широко известной философии творчества Н. Бердяева. Личность творца как жизненное явление представляется не менее значимой, чем само творческое произведение, в то же время подчеркивается ложь религиозно-философских проекций природно-материального существования на абсолютный план бытия.
ПСИХОЛОГИЗМ КАК УГРОЗА ЛИЧНОСТНОМУ ПОДХОДУ
М. Рубинштейн отмечает, что вековые философские вопросы по-прежнему взывают к своему решению. В конечном счете, все определяется мировоззренческой позицией того или иного мыслителя, не сводимой к безукоризненной системе философских построений. Недоумение перед смертью, неубедительность теодицеи, сомнение в свободе воли, реальность чужого «я», ощущающего себя центром мира, как и собственное «я» – все это остается источником того, что современным философским языком именуют экзистенциальной тревогой.
Собственно эти вопросы не решаемы при отсутствии изначального доверия к жизни и целостности восприятия. Одной из основных угроз для любой философской и педагогической концепции М. Рубинштейн считал своеобразно понимаемый им психологизм – расщепление целостной личности на какие-либо самостоятельные структуры – душу, рассудок, волю, будто способные действовать независимо друг от друга. Это не означало настороженности М. Рубинштейна по отношению к психологическим дисциплинам, он выступал лишь против смешения экспериментально-научных и мировоззренческих подходов.
Следуя Риккерту, М. Рубинштейн разграничивал чисто логический и психологический способы познания – последний больше концентрирует внимание на сфере фактов и наличной действительности, логика же призвана заниматься сферой должного, заботиться о критериях истинности и выработке общеобязательных норм. Представление факта не зависит от его истинности – оно есть или его нет. Суждение, напротив, ориентируется не на бытийный аспект, но стремится к истинности собственного содержания. Подобное разграничение лишь функционально и не нарушает целостности личностного восприятия – философия не должна возвеличивать «сепаратизм и самодержавие частей», будь то теория личности или гносеологические поиски определения границ субъекта и объекта.
Вообще анализ всех философских концепций в историко-критических очерках, составляющих первую часть «О смысле жизни», проводится М. Рубинштейном с точки зрения личностной проблематики. Интересно, что данные очерки были опубликованы за счет автора в 1927 году, когда идеологический пресс уже налился угрожающей тяжестью. Впрочем, основная работа над текстом велась еще в Иркутске. Об этом свидетельствует и упоминание М. Рубинштейном в издании «Очерка…» 1920 года о подготавливаемом им фундаментальном труде «Философия человека», и ссылка на данный труд в статье «Основная задача философии», опубликованной в 1921-м, и «обещание» в предисловии ко второму изданию монографии «История педагогических идей в ее основных четах», увидевшему свет в 1922-м, окончания большого труда по философии, занимающему большую часть его времени… В 1923-м также в Иркутске выходит очерк «Проблема «Я» как исходный пункт философии» – концептуальная основа «Смысла жизни»…
В условиях послереволюционной России изыскания на тему о смысле жизни представлялись небезопасной роскошью. Это не останавливало М. Рубинштейна от свободного философского творчества – он позволял себе самоубийственные высказывания по отношению к главенствующей тогда картине мира. Критикуя антиперсоналистические построения марксистов, М. Рубинштейн отмечал естественность перехода подчеркнуто объективистской концепции Гегеля к низводящим личность социальным теориям. Так же и религиозно-философские учения зачастую напоминают, по его мнению, «вывернутую наизнанку марксистскую теорию»[44] в намеренном или невольном развенчании роли личности и утверждении необходимости очистительной катастрофы, предваряющей воссоединение твари с божественным бытием.
В то же время позитивистские построения М. Рубинштейна иной раз выглядят довольно наивно – достоверность какого-либо ощущения возводится им порой в ранг полноценного философского аргумента. Особенно ярко это проявляется в рассуждениях о свободе, переходящих в несколько экзальтированную патетику. «Великая уверенность» в свободе человека, по мнению М. Рубинштейна, самодостаточна[45]. В то же время он пытается найти для нее дополнительные теоретические обоснования, в частности, следуя В. Соловьеву, говорит о чувстве вины как об отголоске внутренней ответственности, а значит, и свободы. Нет необходимости уточнять, сколь многообразно может быть толкование данного чувства…
Особую роль М. Рубинштейн отводит способности к сознательному суждению и оценке, возвышающей личность над причинными цепями. Но всякий раз, когда уместно повести речь о власти мотивов над мыслями и поступками человека, он отвергает такую возможность, как бесплодный психологизм, нарушающий целостность восприятия личности.
Мир свободы М. Рубинштейн трактует во многом с неокантианских позиций, как мир культуры или идеальных ценностей, являющихся задачей, творческим вызовом для человека. При этом, правда, не всегда убедительно представляется космическая роль личности, воплощающей смысл мироздания. Несмотря на строгость собственных гносеологических требований, он пытается рассуждать о мире, лишенном антропологического фактора, и приписывает ему нейтральность, безликость, даже бессмысленность, поскольку в таком – лишенном человеческих оценок – мире не существовало бы истины и лжи, добра и зла, красоты и безобразия и т. д. При этом с последовательно неокантианской точки зрения можно толковать скорее об отношениях человека и мира – причем в сознании самого человека, – но вовсе не о характеристиках «мира в себе», к тому же деформированного гипотетическим отсутствием познающего субъекта…
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ» МЕЖДУ ФИЛОСОФИЕЙ И ПСИХОЛОГИЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. РУБИНШТЕЙНА
Философское знание в отвлеченности своей зачастую стремится прочь от жизни, такая тенденция представлялась М. Рубинштейну пагубной и противоречащей исконному соблазну классической философии поучать, становиться действенной жизненной мудростью. Чистое знание разоблачает себя как мнимость, направление философского поиска и его исход неизбежно определяются ценностными предпочтениями самого философа. Полемизируя с Г. Шпетом (прежде всего с воззрениями, выраженными в известной статье «Мудрость или разум?»), М. Рубинштейн оспаривал возможность полного «очищения» философии от личностных предпочтений, от мировоззренческих элементов. Тяга к назидательности, по его мнению, неизбежно присуща философскому знанию, но она не может найти воплощение в отрыве от чувства реальности.
Уже в самом начале творческого пути М. Рубинштейн одновременно занимался как теорией познания в духе неокантианства, так и развивал свои педагогические воззрения. Педагогика представлялась ему прикладным аспектом философии, вбирающим в себя данные экспериментальных наук, – идея учительства позволяет философии не терять связь с жизнью. Интересно, что точка зрения Риккерта, столь почитаемого М. Рубинштейном, по этому вопросу заметно отличалась – он был далек от проблем педагогики, отказывал философии в праве на создание «наставлений к блаженной жизни» и утверждал своеобразный «пафос беспафосности» познания. В то же время педагогическая проблематика была особенно актуальна для Марбургской школы.
Необходимо отметить, что для концепций образования, развиваемых в русле неокантианства, зачастую была характерна неотчетливость собственно в определении наук – речь шла о «экспериментальной педагогике», «педагогической психологии», «практической педагогике» или даже о «прикладной философии». В любом случае подобные изыскания свидетельствовали о признании необходимости перехода от абстрактных предпосылок к исследованию возможности толковать об основаниях педагогической практики.
Фундаментальные философско-педагогические концепции развивались в России на рубеже XIX-XX веков или в рамках религиозной философии (прежде всего В. Розановым и В. Зеньковским), или в русле неокантианства (М. Рубинштейном и С. Гессеном). Оба направления ориентировались на поиск идеальных ценностей, призванных положить основу процесса образования. Однако у религиозных философов эти ценности часто исчерпывались апологией стилизованного православия и требованием строить учебный процесс в соответствии с конфессиональными предпочтениями. Педагогические концепции, близкие неокантианству, отличались большим демократизмом, отводили приоритет личностной проблематике и пытались использовать данные экспериментальной психологии, которая в то время получила особую популярность.
Надо сказать, что неокантианские концепции образования нередко получали упреки в избыточном систематизме. Например, Г. Шпет полагал, что подход Наторпа отличается перегруженностью философско-педагогическими конструктами, подавляющими живые истоки процесса образования. Так, знание грамматики еще не означает владения языком[46]… Насколько обоснован подобный упрек, можно судить, разумеется, только после знакомства с трудами самого Наторпа, посвятившего немало глав обоснованию творческого педагогического подхода, который учитывает изменчивость, а порой и неуловимость как «объекта» воспитания и образования, так и направляемых на него воздействий. П. Прокофьев (Д. Чижевский) адресовал сходный упрек С. Гессену, также развивающему идеи Наторпа[47]. Стройность архитектоники его труда «Основы педагогики» иной раз оказывалась, по мнению критика, самодовлеющей – концептуальные схемы могли превалировать над фактами живой действительности, в увлеченности построением систем временами проглядывала идеалистическая наивность.
Так или иначе, подходы, разрабатываемые М. Рубинштейном и С. Гессеном, объединяет стремление выявить два значимых уровня любой современной педагогической концепции – нормативно-ценностный (идеальный) и психофизиологический (экспериментальный). Подобное разделение позволяло толковать о разнообразных видах образования (научном, художественном, правовом, нравственном, религиозном и т. д.), не противопоставляя задачу формирования личности потребностям в технических и утилитарных навыках.
М. Рубинштейн много внимания уделял методическим вопросам, практической стороне дела, в то время как С. Гессен более фундаментально занимался теорией педагогики и разработкой глобальных культурно-философских категорий в педагогической перспективе. Обоим философам была близка идея бесконечности культурно-исторического прогресса и, следовательно, неисчерпаемости перспектив образования.
Как средства, так и цели педагогики должны эволюционировать вместе с жизнью – такая позиция именовалась М. Рубинштейном «плюрализмом целей». Он подчеркивал, что само содержание учебного плана находится в тесной зависимости от структуры общества. Так, в условиях открытого мира преподавание современных языков приобретает важнейшее значение, превращаясь из необязательной роскоши в жизненную необходимость. То же, согласно взглядам М. Рубинштейна, происходит и с географией (которую В. Розанов в «Сумерках просвещения» предлагал вовсе изъять из школьной программы). «Недоросль-Митрофанушка мог еще сомневаться в целесообразности изучения географии…», но современная жизнь повелительно требует расширения горизонтов познания[48].
Отсутствие склонности к жесткому фиксированию раз и навсегда установленных задач и методов образования объяснялось тем, что для М. Рубинштейна вообще была характерна уверенность в неисчерпаемости познавательных способностей человека. Это, в частности, выражалось в постоянном метафорическом противопоставлении некоего «клочка действительности» благодатной свободе творческого восприятия – «мир животного, как мы его себе представляем, это сравнительно ничтожный клочок действительности, мало вырастающий и обогащающийся, в то время как мысль человека заставляет его мир расти в бесконечность»[49]; «опираясь на непосредственно воспринимаемый клочок простой, как говорят, предметной действительности, человек своей мыслью поднимается над ней… расширяет таким путем в безграничность свой опыт»[50]; стремление к идеалу и совершенству призвано освободить человека от «прикрепления к данному клочку земли»[51] и т. д.
Именно романтически-позитивистская составляющая подхода М. Рубинштейна позволила ему до конца 1920-х годов более или менее свободно продолжать педагогические исследования и в послереволюционной России. Так, например, в серии «В помощь просвещенцу Профобра» в 1928 году вышел его труд «Юность по дневникам и автобиографическим записям», при этом анкеты, составленные для данной книги, предваряло позитивистское и не лишенное романтической патетики воззвание: «Ради молодежи, науки и жизни ответьте подробно и правдиво и пошлите этот лист проф. М. М. Рубинштейну».
Так же как и В. Розанов, он подчеркивал неординарность современной эпохи, отмеченной радикальными изменениями в педагогике и стремительным развитием естественнонаучного подхода во всех областях жизнедеятельности человека. Но, в отличие от В. Розанова, М. Рубинштейн отмечал, что теории образования были, как правило, излишне «нормативны» – увлечены прежде всего воспитательной стороной дела и лишены научного обоснования «эмпирическими, опытными исследованиями, обогащенными и укрепленными быстро выросшим экспериментальным методом»[52].
Вдохновляемая успехами точных наук, психология обретает новый статус, отказываясь от отвлеченно-метафизических толкований души, раскрывая всевозможные зависимости поведения человека от его физиологической основы, позволяя обнаружить динамику душевной деятельности и увлекая исследователей перспективой точного измерения этих процессов. В то же время М. Рубинштейн обращал внимание на опасность излишнего увлечения такими перспективами, способными незаметно переходить в утопические проекты.
Как раз на рубеже XIX-XX веков начали появляться надежды на возможность безошибочного определения степени одаренности человека и силы склонности к какой-либо профессии. Казалось, что беспристрастные показатели могут обнаруживать ведущие предрасположенности и соответственно указывать «путь истинный», избавляя от мучительных поисков и ошибок, – подобные надежды были сходны с ажиотажем, вызванным рядом достижений генной инженерии уже в конце XX века. «Это была уже головокружительная высота максимальных надежд, откуда открывались необъятные горизонты строительства новой жизни и осчастливливания человечества: море трагедий… было бы высушено»[53]. Безудержность надежд, подчеркивал М. Рубинштейн, нередко обращается в ничтожность достижений…
ЛИЧНОСТНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
М. Рубинштейн, как яркий представитель интеллигенции своего времени, не остался в стороне от социальной проблематики. В то же время его увлечение социальными теориями никогда не было безоглядным. Так, изданный в 1909 году критическо-философский очерк «Идея личности как основа мировоззрения» развивал социокультурный подход, основанный на личностных ценностных иерархиях: «Социализм подстригается под грубую гребенку материализма, который не способен ни охватить самой ценной области человеческого я, например, этики и истории, ни удовлетворить его самых насущных потребностей в деятельном миросозерцании, для которого нужны ценности, идеалы, нормы»[54]. М. Рубинштейн уже тогда предостерегал от проповедей классовой морали, упоения циничным материализмом и зацикливания исключительно на экономических потребностях человека. Цель общественного прогресса в его понимании – создание достойных условий для развития «целостной» личности. В этом М. Рубинштейн близок философско-публицистическим традициям, положенным еще П. Лавровым и Н. Михайловским во второй половине XIX века.
Вслед за Наторпом он рассматривал педагогику как основу общественного строительства. Близки ему и идеи воспитывающего обучения, берущие исток в творчестве Платона и развиваемые Гербартом. Любая педагогическая система основана на определенных ценностных предпочтениях, поэтому и немыслима лишь как способ передачи информации в отрыве от воспитательных побуждений. В то же время общественные установки и потребности государства не должны исключать возможность самостоятельного формирования личности. Положение о недопустимости узкоклассового подхода в деле образования представляется ныне элементарным, но не следует забывать, что защита подобных воззрений в послереволюционной России, как правило, приводила к трагическим последствиям для автора. М. Рубинштейна это не останавливало – в его трудах то и дело бросался упрек ограниченности партийных точек зрения, заостренных в «меч идеологии» и оправдывающих насилие общества над личностью.
Испытывая «слабость» к социальной проблематике, М. Рубинштейн неизменно ратовал за преобразование общества в соответствии с этическими идеалами, которые, по его мнению, составляют сущность социализма. При этом он указывал на опасность соскальзывания в сектанство и на обнищание философии в дробно классовых точках зрения, например, в «пролетарской правде»[55]. Подобные тенденции являлись «скверными симптомами философской захудалости»[56], ведь истина едина и возможна лишь в общечеловеческой перспективе.
Конечная цель социализма – освобождение от несправедливого бремени ради духовного совершенства и возвышения личности. Данная концепция М. Рубинштейна временами напоминает позднейшие изыскания в рамках гуманистической психологии Маслоу, утверждающей невозможность «перепрыгивать» уровни в иерархии потребностей человека, стремясь к достижению идеалов.
Необходимо отметить, что ряд положений в теории М. Рубинштейна оказывается все же довольно радикальным, особенно это касается требования отменить частную собственность на средства производства. Слог его при этом приобретает характерную романтическую пылкость. Речь идет о вековой борьбе за свободу масс, охотно цитируется М. Горький… Тем не менее недоверие к частной собственности парадоксально сочеталось в его воззрениях с апологией духовно-личностного начала и восторженным антропоцентризмом – с концепцией «культурно-творческой ценной индивидуальной личности»[57], утверждаемой в русле гносеологического идеализма.
Исходный пункт педагогики М. Рубинштейна – представление о существовании «сокровенного ядра личности»[58], которое раскрывается благодаря «искусственному, культурному развитию»[59], позволяющему сдерживать безграничность индивидуальных притязаний объективными ценностями. Основное отличие понятия индивидуальности от понятия личности заключается, согласно его концепции, в нормативно-ценностном аспекте – индивидуальность развивается в соответствии с природными закономерностями, личность является уже порождением мира культуры с его идеальными нормами и ценностями. Педагогика оказывается ответственной за воплощение «идеала цельной личности», следование которому предполагает воспитание человека как жизнеспособной, самодеятельной, культурно-нравственной силы[60].
Рассуждая об этапах формирования личности, М. Рубинштейн следовал за Наторпом, признавая правомерность периодизации личностного развития по стадиям «гетерономии» и «автономии», но не соглашаюсь с возможностью толковать о стадии «аномии», которую Наторп приписывал ребенку, подчеркивая его независимость от каких-либо воспитательных влияний. М. Рубинштейн полагал, что стадии «аномии» как таковой существовать не может, ребенок не способен к истинному произволу, потому что в силу своей «беспомощности и незрелости»[61] несамостоятелен. Поэтому «гетерономия» – подчиненность авторитету – состояние, наиболее приемлемое для ребенка. Стадия «автономии» свидетельствует уже о том уровне личностного развития, которое подразумевает способность к подлинному – деятельному и активному – самоопределению.
Несмотря на апологетическое отношение к личностному началу, М. Рубинштейн подчеркивал угрозу педагогического анархизма, отвергающего возможность целенаправленных воспитательных влияний и оставляющего ребенка на произвол стихийного развития. При этом коллективистические тенденции, набирающие после революции угрожающую силу, практически не влияли на основы его теории личности.
Официозная педагогика в послереволюционной России ратовала за неограниченность воспитательных воздействий на ребенка, призванного сделаться носителем новой идеологии на рефлексологическом уровне, концепция М. Рубинштейна выступала поразительным контрастом по отношению к данным установкам – он неизменно отстаивал требование постепенности личностного развития, формирующего способность к самоопределению, свободному от автоматизмов.
ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. Рубинштейн принимал активное участие в дискуссии по вопросу о религиозном воспитании и образовании, иной раз приобретающей на рубеже XIX-XX веков болезненный оттенок. Он признавал, что данная проблема порождена глубинными изменениями в мироощущении современного человека. «Крепкие духом и твердые своей верой люди устойчивых эпох не испытывали всего трагизма душевного смятения и мучительной нерешительности, которые тяготеют в вопросе о религиозном воспитании над нами, людьми переходного времени, отставшими от одного берега и не приставшими к другому, разбившими старых кумиров и не сотворившими себе новых богов»[62]. Особенно обострен этот вопрос был в среде интеллигенции, где ребенка или принуждали к соблюдению внешней религиозности, или вовсе отвергали какую-либо ценность религиозного опыта.
М. Рубинштейн, признавая за собой отсутствие религиозности, отмечал, что вопрос о религиозном воспитании и образовании подразумевает необходимость стремления к идеальному – стремления, которое в учебном процессе совершенно незаменимо. Именно представления об идеале способны освободить человека «от рабства фактам и животной тупости»[63]. В ребенке надо развивать преклонение перед высшим началом – в этом позиция М. Рубинштейна отчасти совпадала с воззрениями В. Розанова.
Подобное преклонение может препятствовать укорененности в бесплодном эгоцентризме и помогать обрести более гармоничное восприятие окружающего, в котором раскрывается единый изначальный замысел. Все противоречия и даже несообразности, присущие религиозному опыту, не должны на первых порах открываться детям – мир без творца им непонятен, а попытки заставить их отказаться от поисков объяснения истоков бытия приведут лишь к потере творческой активности. Не случайно религиозный импульс зачастую является источником художественного вдохновения. При этом, по мнению М. Рубинштейна, не следует упиваться исключительно эстетической стороной обрядовости, ведь эстетизм сам по себе чужд нравственного содержания.
Глобальной задачей педагогики он полагал воспитание «индивидуального творца культуры», способного следовать идеалам «добра, красоты, истины и т. д.»[64]. Интересно, что перечисление идеалов завершается у него, как правило, неопределенным «и т. д.», а сами идеалы расставляются в различном порядке, (возможно, чтобы избежать предположений о зависимости от концепций В. Соловьева). На первое место выходит то красота, то истина, в этом ряду иногда появляется идеал «святости» – отголосок воззрений прежде всего Лотце и Виндельбанда. Несмотря на сдержанное отношение М. Рубинштейна к попыткам религиозного обоснования этики, в его рассуждениях об основах личности проскальзывают элементы религиозно-метафорической патетики. Мир сам по себе находится во власти естественных законов, лежащих по ту сторону добра и зла, и только благодаря развитию личностного начала может раскрыть собственную идеальную ценность, «если личность своей творческой силой освятит его»[65]. М. Рубинштейн считал допустимым «внедрение» идеи бога в картину мира ребенка как вспомогательное средство для реализации ценностного подхода – ребенок должен воспринимать мир так, будто бог существует. В данном допущении чувствуется отзвук кантовских постулатов практического разума как целей нравственности[66]. Кант также утверждал, что пытаться толковать с детьми на языке рафинированных религиозных понятий – безнадежное дело. В то же время необходимо воспитать в ребенке преклонение перед высшим началом, ответственным за справедливое устройство бытия[67].
В отличие от В. Розанова, М. Рубинштейн не слишком высоко оценивал заслуги исторической церкви в деле воспитания и просвещения. В то же время детей необходимо оградить от скептицизма, и чтобы не подрывать их жизнеспособность, дать им «естественный положительный ответ о Боге»[68]. Здесь уместно вспомнить, что М. Рубинштейн с симпатией относился к биогенетической теории как к своеобразной метафоре, обозначающей стадиальность развития детской психики в соответствии с периодами филогенетического развития человека. Пока дети живут «примитивной жизнью», бог их будет антропоморфным и в первую очередь воплощающим образ отца, в то время как идеально-утонченное представление о боге детям чуждо и недоступно.
(Надо отметить, что благосклонное отношение к биогенетической теории вызывало ярость у радикальных идеологов образования, достигших руководящих должностей в послереволюционной России, и М. Рубинштейну впоследствии пришлось с крайней осторожностью толковать как о естественных законах развития детской психики, так и об идеальной составляющей учебного процесса.)
Религиозная жизнь по мере развития личности постепенно эволюционирует и одухотворяется, наполняясь нравственным содержанием. Задолго до событий 1917-го года М. Рубинштейн не раз повторял, что догматически религиозное обучение совершенно недопустимо, в крайнем случае, оно может являться лишь делом семьи и церкви, но не школы, олицетворяющей государство. Он призывал отдать преподавание всецело в руки светского учителя, а попытки религиозно-проповеднического воздействия заменить изучением истории религии, как одного из наиболее значимых факторов в социокультурном развитии человечества.
В любом случае, согласно его воззрениям, только благодаря уверенности в светлом изначальном замысле мироздания может рождаться «сильная, устойчивая, всеобъемлющая жизнерадостность»[69]. Свойственные серебряному веку декадентские тенденции настораживали – «мы своим пессимизмом по возможности не должны отравлять наших детей, а через них и будущее общество»[70]. Не меньше опасений вызывало у М. Рубинштейна и развитие массовой, низкопробной культуры, которая начала принимать особенно уродливые, «боевые» формы после октябрьской революции.
Так или иначе, независимо от революционных катастроф его подходу всегда была присуща рациональность, уравновешенная идеально-ценностными требованиями к воспитанию «цельной личности», способной согласовывать свои стремления с общественной пользой, не отказываясь при этом от собственного своеобразия и индивидуального призвания. В трудах М. Рубинштейна особенно привлекает оптимизм и стремление к независимому познанию в условиях, когда внешние обстоятельства к этому, мягко говоря, не располагали. Надо надеяться, настоящее издание будет способствовать появлению новых исследований, посвященных его творчеству.
К. В. Фараджев
Тексты настоящего собрания работ М. М. Рубинштейна печатаются по журнальным, газетным и книжным первопубликациям с сохранением авторской орфографии за исключением случаев, когда она противоречит современным нормам русского языка. В авторские примечания внесены библиографические уточнения без специальных указаний.
Поскольку в авторских примечаниях не всегда содержится полная библиографическая информация о цитируемых изданиях, редакторы прилагают список изданий, на которые ссылается М. М. Рубинштейн.[71]
ПРЕДИСЛОВИЕ[72]
Фихте: «Человек изначально ничто. Тем, чем он должен быть, он должен сделаться и… сделаться своими собственными силами».
Напутствуя мою книгу предисловием, я руковожусь мыслью, что читателю легче будет понять мои построения, если он будет знаком с тем, что привело к возникновению моего труда. Естественная сама по себе дума над жизнью и миром нашла себе решительное подкрепление в моем интересе к педагогике. Мой труд вызван и мотивирован в значительной степени теми логическими и жизненными обязательствами, которые я принял на себя во всех моих предыдущих педагогических работах. Постоянное раздумье над целями педагогики и ее системой, над ее философией неизбежно вело меня к убеждению, что стройную, вполне завершенную систему педагогики можно построить только тогда, когда удастся более или менее удачно решить вопрос о смысле мира и жизни, а этот вопрос стоит в прямой зависимости от ответа на вопрос о сущности мира и жизни. Мои педагогические труды сделали для меня совершенно необходимой попытку подвести под мою педагогическую теорию философский фундамент и этим укрепить ее. Таким образом я искал на том пути, на котором создалась моя книга, не только удовлетворения моих чисто теоретических запросов.
Поэтому, вполне понятно, меня увлекала в моем труде не новизна или оригинальность, я искал в своей философии не столько законченной, отточенной системы логических построений, сколько правдиво – жизненного мировоззрения, способного осветить действительную жизнь и углубить ее. При таких условиях понятно, что я не хотел писать книгу о книгах, а стремился написать, как ни многообязательно это звучит, книгу о жизни и насытить ее настоящими соками подлинной действительности и действенности. Отмечая, что моя книга в значительной степени связана с моей педагогикой, я подчеркну здесь мысль Гербарта, что не только педагогика зависит от философии, но и правильно разрабатываемая педагогика должна привести к истинной философии.
С внешней стороны отмечу, что работу свою я писал в отдаленной провинции, вдали от больших книгохранилищ, в крайне неблагоприятных условиях. Некоторые повторения, с которыми читатель встретится в книге, я считал излишним устранять, так как они не усложняют книги, но помогают ее пониманию.
По чисто издательским условиям выход в свет моего труда задержался на продолжительный срок. Современные условия моей работы лишают меня возможности внести все нужные дополнения, и потому я решаюсь выпустить мой труд без них, так как в основных чертах мне нечего менять в нем.
Особенно жалею я о том, что издательские затруднения вынуждают меня выпустить данную первую часть моего труда без завершающей всю работу второй части, хотя они составляют единое целое и первая подготовляет почву для второй: в этой последней части, озаглавленной «Философия человека», я изложил в основных чертах мое философское мировоззрение: на основе конкретного понимания субъекта и объекта я строю теорию монистического идеал-реализма и творческого антропоцентризма, совершенно свободную от трансцендентных моментов, – теорию творчества сущности, которая с моей точки зрения, удачно решает и проблему смысла. Я не теряю надежды, что эта основная часть моего труда, давно вполне готовая к печати, скоро также увидит свет. Во всяком случае основательное суждение о моем труде предполагает знакомство с моей работой в целом.
М. М. Рубинштейн
I. ВВЕДЕНИЕ
Есть вопросы, которые сильнее времени: к ним неприменим критерий новизны или устарелости; есть вопросы, которые становятся перед нашим сознанием с неустранимой необходимостью, пока течет сама жизнь. К числу таких вопросов принадлежит проблема смысла жизни. Конечно, нужно помнить, что у нормального, здорового человека жизнь несет свою ценность и свое оправдание в самой себе, или, лучше сказать, вопрос о них до поры до времени совершенно не возникает, потому что непосредственное здоровое чувство жизни гасит в корне какие бы то ни было сомнения. С другой стороны, в действительной, в особенности современной жизни, захватывающей наше внимание в самых разнообразных направлениях, люди мчатся в неудержимой сутолоке житейских забот и поверхностных впечатлений, не способствующих углубленному раздумью над смыслом всего этого. Но все это только до поры до времени: у каждого мыслящего человека приходит такой момент, когда он вдруг вырывается из власти неудержимого жизненного потока и житейской поверхностной суеты, и вот тогда неизбежно встает перед ним вечно новый, не умирающий – пока идет жизнь и работает мысль – вопрос о том, зачем все это, где смысл жизни, что действительно нужно и важно и что ненужно и иллюзорно. Ширясь и разрастаясь, этот вопрос неизбежно должен охватить всю большую полноту философских вопросов, потому что уже в обыденном понимании жизни он охватывает и личность, и ее среду, и мысль последовательно переходит, обобщая все дальше, к проблеме всего мира. Мы с нашей культурной мощью и разнообразными проявлениями, в которых мы вступаем в общение и взаимодействие с этой действительностью, выступаем с определенными и большей частью с очень большими требованиями к миру и жизни, но они нам на каждом шагу напоминают, что место наше ограничено, и мощь человеческого «я» не является неограниченным полновластным хозяином и его принуждают удовлетвориться более скромным местом. Личность и вещь ведут непримиримую борьбу друг с другом из века в век с определенной перспективой, что каждая пядь, отвоеванная одной, обозначает ограничение сферы другой. Борьба эта совершается не только в форме приспособления мира вещей к потребностям и желаниям человека, но ей сопутствует вопрос о смысле и ценности этого безличного мира, вопрос о том, исчерпывается ли значение вещественного мира сферой физического бытия. Встреча с этой мыслью неизбежно диктуется и сущностью человеческой нравственности, требованием определения сферы своих нравственных поступков. Нет нужды подчеркивать, как законны все эти думы с чисто теоретической точки зрения, с точки зрения желания знать. Мы хотели бы только указать здесь на практическую сторону вопроса, на важность человеку знать, с какими ожиданиями он в праве идти в жизнь и мир: прав ли он, когда он берет положительное на своем пути как то, что принадлежит ему по праву, а отрицательное будит в его душе горячий протест?
Все эти размышления особенно обостряются в великие катастрофические времена, какие переживали мы, – в пламени мировой войны и революции, когда напряжение борьбы за существование дошло до колоссальных размеров, когда будущее затянулось темными грозовыми тучами и навис грозный вопрос над всей культурой, над всеми лучшими чаяниями и завоеваниями человечества. Сомнения наши – оправдано или нет – это иной вопрос – идут очень далеко и заставляют в тревоге спрашивать себя о человеческом в человеке, о роли разума и знания, об их соотношении с нравственностью и человечностью.
Где мы окажемся в будущем, этого, конечно, никто не знает, но у каждого из нас живет ясное сознание, что мы проходим не только через великий политический и социальный переворот, но что мы переживаем огромный кризис всего нашего культурного сознания. Десятки лет нараставшее сомнение во многих основных ценностях дошло до своего предела. Блаженство верующего для большинства интеллигентных людей стало недоступным завидным состоянием. Та светлая уверенность и устойчивость, которые несла и несет с собой искренняя, непосредственная вера, оказались разъеденными разлагающей работой мысли и разума, и в итоге увеличились шатания и сомнения. Если и верующий отнюдь не отказывается от стремления осмыслить и понять, то тем выше потребность прозреть у колеблющихся и неверующих. Современный человек мечется между двумя крайностями, будучи не в силах остановиться ни на одной из них: в одной жизнь рисуется в чисто земном и часто животно-отвратительном виде, в другой – она вся устремлена в иной мир, вылита целиком в форму долга и от нее отдает холодом и безжизненностью могилы. Давно уже антитеза «животное довольство – мученичество» не ставилась в такой обостренной степени.
Душевная разодранность личности уже давно обращала на себя внимание наблюдателей: на нее указывал неоднократно Вл. Соловьев, Р. Ойкен и другие. Мы тем тяжелее ощущаем этот надрыв, что мы теперь со всей нашей душевной силой стремимся к раскрытию цельной личности. Чем дороже нам человек, тем больнее мы воспринимаем его современную приниженность и темноту в массе; чем дороже человечество и человечность, тем тягостнее нам мысль, что люди в наше время поделены на особи, способные вырезывать друг друга, подавлять и уничтожать и духовно, и материально; чем дороже идеи свободы, равенства и братства, тем ужаснее сознание, что культурный мир находится в атмосфере рабства и отчужденности. Можно без преувеличения сказать, что молох наживы, интересы живота заполонили огромные полосы жизни, и от этого молоха стон стоит по всему культурному миру. Жизненная аберрация нашла место и в нашем отношении к образованию, вызвавшему во многом справедливое негодование Л. Н. Толстого своей суженностью и обособленностью до пределов чисто головной культуры.
Материализовав принцип «знание – сила», люди в наше время стали стремиться в величайшей поспешности, в подлинной суете понахватать побольше знаний, приложимых к практической жизни, свидетельств, дипломов, чтобы потом мчаться дальше с той же суетливостью по поверхности жизни, не задумываясь и не углубляясь в смысл и ценность всей этой борьбы за существование, протекающей в очень тяжелых и жестоких условиях. Так называемых культурных людей в этом положении можно было бы сравнить с взрослыми и интеллигентными игроками в футбол, в омрачении принявших мяч за цель и смысл своей жизни и бешено мчащихся за ним из стороны в сторону, толпясь, нанося удары и сбивая друг друга с ног.
Фихте говорил[73], что по тому, что человек любит, к чему он стремится всей душой, можно составить себе яркое представление о его жизни и ее ценности. Но многие не живут, потому что не любят, а не любят потому, что не знают и не думают. Теперь, когда у нас понизилась энергия жизни, размах силы и жизнерадостности, бившие через край у античных греков, мысль о жизни и мире диктуется сама собой.
У нас вообще не было бы нужды оправдывать такое обращение к проблеме смысла жизни, если бы она не являлась в глазах большинства ученого мира заношенным вопросом, опошленным поверхностными гаданиями. Характерно, что история философии далеко не так богата прямыми исследованиями его, как этого можно было бы ожидать, но зато косвенно ни одна система не могла обойти его даже тогда, когда она его сознательно не называла.
Иначе и быть не могло. Человечество от пути в потемках в своем историческом развитии все больше переходило к осознанию хода жизни и своего участия в ней, пока, наконец, с широким раскрытием самосознания оно открыло возможность для себя попытаться сознательно воздействовать на свою судьбу, а для этого необходимо решить проблему смысла жизни.
Здесь во вступлении мы отметим только еще ту мысль, которая бегло была упомянута нами и которая напрашивается сама собой: в то время как одни видят в интересующем нас вопросе непреодолимые для человеческих сил трудности, другие твердо убеждены, что решение уже давным-давно найдено откровением и неизгладимо живет в душах верующих. Они думают, что у них есть то, что так важно, бесконечно важно для истинно человеческой жизни, – именно не просто жить, но и чувствовать, и сознавать свою жизнь оправданной: вера как будто дает им надежное ручательство в том, что вся земная жизнь со всеми ее светлыми и темными сторонами не бесцельна, что все это нужно и что в конечном счете, все придет к абсолютному торжеству добра, справедливости и всех абсолютных ценностей.
Да, блажен, кто верует. Но больше блажен, кто ищет. Непосредственная вера не только не может замкнуть пути к дальнейшему просветлению своего сознания, но, уверовав, что есть смысл, человек пожелает и, главное, должен пожелать, сознать и понять его.
Становясь на точку зрения непосредственно верующего человека, мы говорили: вера гарантирует мне несокрушимое убеждение, что у мира, у жизни и личности есть как свой абсолютный исток, так и свое абсолютное значение, и свой глубокий смысл. Но дальше возникает вопрос, который я должен решить сам: верховный вождь знает последние цели и план, и ход всего, что совершается, но я, рядовой или только начальник отдельного отряда, должен по мере своих сил идти сознательно в пределах своих ограниченных заданий; я должен не только делать, но именно для дела и понимать то, что я делаю, и что я должен делать; я со своей индивидуальной позиции должен попытаться осмыслить свое отношение к общему ходу, к целому мира; я должен свободно, т. е. сознательно и осмысленно хотеть того, о чем говорит мне моя непосредственная вера[74].
Таким образом постановка проблемы смысла жизни диктуется со всех точек зрения. С жизнью в этом случае обстоит как с работой, про которую Достоевский говорит[75]: «Если бы захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы». Смысл должен быть, иначе жизнь уничтожается; положение дела нисколько не меняется оттого, что подавляющее большинство удовлетворяется или непосредственной верой, или смутными чаяниями.
Возможно ли ее философское решение и в какой форме, об этом и должно говорить содержание этого труда.
II. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ФИЛОСОФИИ[76]
Философия, приковывавшая и приковывающая и теперь думы мыслящих людей к самым сокровенным вопросам, является в своей истории живой иллюстрацией к легенде о фениксе, который, сгорая, возрождался из собственного пепла: вся она соткана из смертных приговоров ей, которые тут же нередко превращаются в ее триумф. Философия не только учение о величайших вопросах, способных волновать человека, но она и до сих пор остается сама великой проблемой, едва ли не самой трудной и первой из всех тех, которые она пытается разрешить. Обращаясь к ней за разгадкой вопроса о смысле жизни, о личности и ее чаяниях, мы прежде всего должны спросить себя, кто она, эта таинственная особа, от которой все мы так много ждем и которая не явила до сих пор всем одинакового устойчивого, единого лица.
Вопрос наш о ней является тем более оправданным, что проблема смысла в самой философии оказалась не просто оттесненной на второй план, но заношенный дешевыми писаниями костюм почти совсем лишил ее права показаться в аристократическом обществе господствующих философских проблем, а тем более поднять вопрос о своем бесспорном первородстве. Непреодолимым препятствием к этому было то, что философия с головой ушла в мелкие скептические, большею частью теоретико-познавательные вопросы, и целые тучи – в определенной стадии, может быть, и необходимые – специализированных исследований заслонили истинно философское солнце; средство понемногу превратилось в цель, и мы из-за деревьев перестали видеть лес. Наше соседское общение со специальными положительными науками и их методами оказалось значительно более обязательным, чем это можно было предположить на первый взгляд: они не только оплодотворяли ее, но вместе с тем и ограничивали, нередко завершая свое отношение к ней прямым отрицанием ее права на существование, обвиняя ее в захватах чужих областей. В наше время философия повисла между науками и художественно-житейскими рефлексиями: науки относятся к ней то сдержанно, то прямо отрицательно и отсылают к жизни и искусству, а искусство и жизнь сторонятся ее, как науки.
И нужно сознаться, что философия долгое время скиталась и продолжает скитаться по сию пору вдали от жизни. Живя только гордыми воспоминаниями о своем былом царственном положении, отголоски которого сохранились в ее названии, она, вербовщица друзей мудрости, вступила в стадию резкого охлаждения между ней и жизнью: если когда-то философия пыталась предвосхищать жизнь, определять хоть отчасти ее ход, и философ был вместе с тем, или именно потому учителем, то теперь философия чаще всего просто плетется в хвосте событий, являясь запоздало на пир жизни. То, что сова Минервы начинает свой полет, по указанию одного из великих жрецов ее (Гегеля), только с наступлением сумерек, это справедливое, вместе с тем тяжкое, бичующее признание нашего времени.
Чтобы выйти из этого тягостного положения, философия должна найти достойный ее язык, она должна самоопределиться, а не хиреть на задворках то наук, то жизни. Она должна заговорить мощным языком неподдельной живой действительности, а не засушенной мумии, от которой отворачивается все живое[77]; она должна для этого прежде всего не пренебрегать теми думами, над которыми бьется каждая ценная человеческая душа, а в центре их – проблема смысла жизни. Она должна сбросить с себя путы подлинной схоластики и дать простор своему теперь подавленному стремлению к живому и жизни и с радостью приветствовать устремление жизни к ней в ее глубоких течениях; она должна снова воскресить себя как учение о жизненной мудрости в самом широком и глубоком значении этого слова. Тогда она, без сомнения, понесет количественно большие потери; она потеряет тех лжефилософов, для которых их научные распределители-квадратики дороже живого и жизни, но зато, освободившись от коры схоластической лжемудрости, отпугивающей и глубоко разочаровывающей тех, кто рвется к ней, она вернет жгучий интерес к себе, она пробудит неподдельную любовь к философской мысли и истинную философскую пытливость; она перестанет жить только на одних университетских кафедрах и в устрашающих диссертациях. То, что она не задохлась еще в тучах частностей и насильственной сциентификации, объясняется тем, что подлинный дух ее все-таки успевал хоть отчасти прорваться через толщу мертвых и мертвящих рассуждений.
Возвращение к понятию жизненной мудрости – в этот лозунг так легко вложить опасность нового рабства, подчинения узкому житейскому практицизму. Мы не должны повторять ошибки послеаристотелевской философии стоиков, эпикурейцев и т. д., сузивших задачи философии на этику и все подчинивших ей, но самое понятие мудрости, как и проблема смысла жизни, не могут уложиться в рамки этики, они значительно шире ее; подлинное понятие мудрости и его истинный исходный пункт должны гарантировать нас от таких опасностей. Философия не должна впадать в крайности, и вот именно потому, как мы надеемся показать дальше, ей особенно важно не идти безостановочно по пути резкого обособления теоретических функций от практических, которое стало намечаться уже в античном мире и к нашему времени дошло до последних пределов чистой теоретичности. В принципе «знание ради знания» живет глубокая правда, только до того момента, пока мы на него смотрим как на эвристический принцип. Знание философское не может не быть действенным; оно должно твориться ради правды, правды широкой, правды-истины, правды-справедливости и правды – живой полноты смысла. Предостерегая против порабощения философии этическими мотивами или узким практицизмом и со всей энергией отстаивая ее автономию, мы не менее горячо должны ограждать ее от опасности впасть в русло холодно-безучастного знания, в русло теоретического сепаратизма.
Возрождению философии, ее подъему к истокам мудрости и жизненного поучения в самом широком смысле этого слова много мешает тот предикат научности, который теперь прилагают к ней, скрыто привнося в нее элементы, способные только сковать ее развитие и устремление к своим подлинным проблемам. Мы с поразительной слепотой втискиваем философию в традиционную форму науки, преувеличивая значение науки, убежденные, что нет голоса знания превыше научного. Отсюда и выросли бесплодные потуги сделать из нее только специальность среди других.
В самом деле, понятие науки в общем оказывается довольно смутным и попытки определить ее обнаруживают коренные разногласия. Чтобы решить вопросы о том, в каком смысле можно назвать философию наукой и в чем заключаются несходные черты, отличающие ее от наук в обычном смысле, мы должны на момент остановиться на анализе понятия науки.
Уже с древних времен большим авторитетом пользуется определение науки, как его дали стоики, полагавшие, что она есть система твердых, достоверных знаний. В наше время к этому определению примыкают многие, например, Гуссерль и Г. Шпет[78], которые на первый план выдвигают ясность и доказанность, противопоставляемые ими мудрости и глубокомыслию, неизбежно, по их знаменательному мнению, связанным со стадией незрелости и незаконченности; в том же направлении, только еще более суженном, идет Вл. Соловьев[79], определяя науку достоверностью, системой и доказательностью. Признак системы готовых знаний, доказанных и проверенных, неизбежно приводит нас к выводу, что не только философия не наука, но науки вообще у нас нет, так как все они живут, спорят и сменяются. Скептический вывод из scientia est rei perfecta cognitio[80] вполне последовательно приводит к выводу, что науки нет[81]. Наука есть прежде всего стремление к знанию, отливающееся в известные формы; ищущая и исследующая наука, не достигшая еще своей цели, от этого нисколько не утрачивает своего достоинства науки.
Вместе с тем должна быть отвергнута и попытка определить науку одним ее объектом по содержанию, потому что один и тот же предмет может изучаться различными науками, а вместе с тем возможно возникновение и новых ветвей научного знания. Ошибочно упоминать в определении науки и о том, что она изучает действительно существующий предмет или явление, потому что это способно внести полный хаос во многих сферах. Ведь, может быть наука о понятиях, может быть наука – и очень значительная – об искусственно сконструированном объекте. У нас есть логика, есть математика, есть пан-геометрия, изучение пространства n+1 измерений и т. д.
Таким образом определения объектом должны уступить место, если не первое, то на равных правах рядом с собой, указанию на точку зрения, с какой данная теория изучает свой предмет. Расширив понятие науки, мы можем таким образом определить науку как самодовлеющее искание истинных знаний, устанавливаемых в систематической, общеобязательной, доказательной форме в исследованиях, проводимых с определенной точки зрения и по определенному, логически оправданному методу. Бескорыстное стремление к истине, объективности, определенный основной принцип рассмотрения предмета, метод и система – вот те признаки, которыми наиболее обще определяется наука, хотя уже признак бескорыстия вызывал и вызывает целый ряд возражений, так как он угрожает лишить достоинства науки целый ряд прикладных ветвей знания.
Если мы остановимся на приведенных нами чисто формальных признаках, то философия обладает всеми бесспорными правами на достоинство науки[82]. Она, пожалуй, даже более чем какая-либо иная наука, живет идеей истины, принципиальности, объективности, метода и системы, и этим она резко отделена от непосредственной жизни и от художественного творчества, с которыми были попытки сроднить ее. Вся ее, в особенности позднейшая, история указывает не только на тяготение философии к науке, но в наш век она питалась наукой и ее задачами в их основоположениях, расплачиваясь за это утратой интереса ко многим своим кровным задачам.
Но у нее есть целый ряд свойств, и при том таких свойств, которые далеки от второстепенного значения и заставляют подчеркнуть, что философия вовсе не исчерпывается предметом науки в обычном смысле этого слова.
Философия с первого же шага резко отделяется от круга отдельных наук тем, что она старейшая дума человека, и вместе с тем до сих пор она вынуждена вечно рождаться снова и стремиться прежде всего познать саму себя; она сама является своей первой проблемой (как в своей сути и задачах, так и в своей возможности)[83]; в современных условиях создается часто совершенно нелепое положение, когда для нее ищут объекта, чтобы дать ей место среди подозрительно относящихся к ней наук; иными словами, получается так, как будто не наука возникла, чтобы осветить известную область, а изобретают объект, чтобы дать возможность существовать философии, проявляя этим необъяснимый фаворитизм. Существование науки определяется потребностью в исследовании, а не наоборот. У философии, конечно, есть свой предмет, но он был откинут, и она толклась и толчется в чужой сфере, всюду терпя гонения и возбуждая вопрос о своем праве на существование. В этом предмете полагается вторая особенность ее как научной теории: в то время как науки дробят действительность, отвлекаются от целого и берут часть, они без сомнения становятся отвлеченными; известный, хотя бы условный род фикции – в виде ли мнимой неподвижности или изоляции, или фиктивного объединения и т. д., заключается в самой их сущности, разрознивающей действительность, разделяя ее на части или изолируя одну точку зрения; философия же жизненно заинтересована в цельности, полноте и потому должна быть противопоставлена им как учение о живой полноте, как учение в этом смысле по преимуществу конкретное.
Именно потому философия не мирится с положением специальной науки среди других, а, несмотря на тягостные недоразумения, может смело претендовать на трон, принадлежащий ей по традиции. Она именно потому может дать больше науки в обычном смысле, что она в глубине своей вырывает нас из пучины житейских и научных частностей и мелочей и из скованности отдельными областями. Великое удивление обозначает пробуждение духа философа перед миром; это падение власти частностей и отвлеченностей, когда человеческому духу впервые открывается перспектива бесконечности целого, возможность устремиться к пониманию его, а это значит не только познать его умом, но открыть многое и чувству, и воле.
Особое положение философии подчеркивается и ее взаимоотношением со всеми отдельными науками. Входя в них своими отдельными ветвями и находясь с ними в кровном родстве в целом ряде направлений, она вместе с тем не умещается в их рядах уже потому, что она должна обосновать те принципиальные основы, которые предполагаются отдельными науками; она должна стоять над ними, как теория основоположений, как наукоучение, но она не только наукоучение. Нет сомнения, что сам Фихте, характеризуя философию как наукоучение, создал определение, не вмещающее его собственного учения, и вступил в противоречие с другими своими указаниями на нее как на мудрость и действенное учение. Как глубоко правильно заметил Виндельбанд[84], всякий непредубежденный человек, ознакомившись с судьбами философских учений во всей их сложности, изменчивости и связи с культурной эволюцией, должен понять, что здесь не место педантично настаивать на тесных рамках, намечаемых предикатом науки, и что это, в конце концов, неминуемо приводит к несправедливости и стеснению, как для философии, так и для науки: это навязывает философии ожидания, которых она выполнить не может, именно ожидание системы безличных готовых знаний, и рамки, которые она всегда переступает и делает это как раз в наиболее значительные, плодовитые периоды своей жизни, а на науку в узком смысле это налагает ответственность за невыполнение философией ожиданий и за ее мнимые правонарушения. Удержать философию в границах тесного понятия науки тем более трудно, что они расходятся и в своем источнике. Как мы уже заметили, наука в строгом смысле всегда стремится к учету фактов и действительного положения вещей, и вместе с тем она принципиально исключает зависимость своих построений от личного начала, абсолютно устраняя возможность оценивать удельный научный вес открытия в зависимости от того, кто его дал[85]. История для науки как таковой собственно не существует или имеет только побочный интерес. Из этого общего положения не исключается и сама история, которая стремится охватить прошлое, но мало уделяет внимания своей истории или историкам, придавая этому скорее педагогическое значение, в деле воспитания настоящих и будущих ученых. Философия никогда не бывает в этом смысле безлична, она тесно связана с личностью своего творца – индивидуального или коллективного (народного); она поэтому не только признает историю, но она долгое время была в опасности отождествиться как отдельная теория, с историей философии; да и изучение ее идет по преимуществу историческим путем. И потому именно философия ценит свое прошлое и никогда не считает его прошлым, в то время как для науки настоящее ее положение обозначает полное исключение предшествующих стадий, как пережитых. Как живая человеческая личность есть связь убеждений и поступков не только в настоящем, но и в прошлом, и потенциально и в будущем в их неразрывной цельности, как ее «я» в широком смысле охватывает всю ее полноту и обязывает ее, так и философия живет этой связью со своим прошлым и не может отказаться от него, не уничтожая себя, как не может личность стать личностью только данного момента.
И вот именно потому философия не есть только учет действительности, как бы мы широко не истолковывали это понятие; в противоположность науке она не только психологически – в жизни автора и читателя, – но и сама по себе является как нечто конкретное, особой сферой жизни, культурного созидания. Она не исчерпывается и не удовлетворяется тем, что есть и что действительно, она сама стремится творить действительность и обогащать фактический мир. Было бы несправедливо и нежизненно изолировать одну сторону этой ее жизни от другой, как это нередко делается теперь некоторыми писателями[86]. В горделиво самоуверенном заявлении умозрительного философа в ответ на речи о противоречащих его теории фактах «Тем хуже для фактов» не все анекдотично и курьезно; в нем кроется глубокая черточка правды, голос сознания, что философия не исчерпывается одними фактами и не должна становиться их рабой. Об этом особом положении философии и говорит то, что в ее ведении оказываются все сферы должного, все сферы абсолютных ценностей, человеческой мысли.
Все это делает понятными строгий, безличный характер науки, ее холодный «объективизм» и теплоту, и взволнованность – в этом смысле «субъективизм» философии. В этом великая правда слов Шопенгауэра, что голова, конечно, должна быть всегда наверху, но это в философии не ведет на путь рассудочной холодности; она в ее подлинном виде захватывает всего человека; она не алгебраический пример; и великий пессимист заканчивает свою мысль словами Вовенарга «Великие мысли приходят из сердца»[87]. Она отделяется от искусства тем, что она оперирует понятиями, что она дискурсивна и должна быть доказательна, но в своих глубинах философия покидает поле понятий и рассудочную доказательность, она творит и безусловно сродняется с искусством. Она действительно может овеществить личное и очеловечить вещественное[88]. Потому она и относится чутко к запросам души человека и открывает большой простор личному элементу. Если философия в наше время думает о восстановлении прав опороченных субъективных качеств, то тем более должна быть реабилитирована субъективная убежденность. Философия не только доказывает, она убеждает лично, непосредственно. Для Фихте философия была вопросом совести. Он и Шеллинг – оба полагали, что абсолютное не может быть разгадано рассудочным путем – «errsoniert»,как говорит Шеллинг. В этом разгадка того, что философы и в наше время, как и раньше, поагают так много надежд на интуицию.
Все это вместе взятое проливает свет на глубоко смущающую непосвященных людей смену философских систем, их неустойчивость – на то, что философия обещает абсолютное и никогда не бывает сама завершенной, готовой, что ее учения рождаются на почве взаимного противоположения и дополнения, что в ней сколько голов, столько и умов, что ее история говорит о бесконечных и притом постоянно возвращающихся разногласиях и ожесточенных спорах без надежды на завершающий общеобязательный итог.
Это расплата философии за ее интимную близость к глубинам жизни, которая течет и меняется; это следствие того, что она трактует глубочайшие личные вопросы человека даже тогда, когда она говорит о вселенной: будь она только наукой, о ней никогда нельзя было бы сказать, что она дело совести. Система Менделеева, закон тяготения или квадратное уравнение и т. п. ни в каком отношении в своем значении не зависят ни от личности открывших их, ни от принявших эти открытия; они доказываются объективно, холодно. Философия вступает целиком на такой путь только в тяжкие эпохи своей жизни. По существу самый вопрос о том, правильна или неправильна данная философская система, переносит ее уже на ложную почву: каждая система не только верна и доказательна, но о ней приходится главным образом спрашивать, последовательна и дельна ли она, убедительна ли она и какова ее самостоятельная ценность как творения философского духа. В философии живут, не увядая, и Платон, и Аристотель, и Декарт, и Спиноза, и Гегель, и т. д.[89] И неготовность, и незавершенность философии на этом фоне превращается не в укор ей, а в ее достоинство.
Философия должна вспомнить о смысле своего многообязательного названия: она должна выявить мудрость, она не исчерпывается основоположениями наук, она должна быть конкретна, в то время как все науки в узком смысле отвлеченны; она есть учение о миросозерцании – не только о формальных основах его, но она есть одетое в плоть и кровь мысли и чувства миросозерцание само, созерцание мира во всей его полноте фактического и творимого и должного идеального. Этим и объясняется та роль, какую играло и играет понятие бога и веры в философских учениях прошлого и настоящего.
Все это приводит нас к пониманию философии как учения о мире в широком смысле этого слова: она есть само миросозерцание, проводимое теоретически по определенному методу в направлении на единую, цельную, общеобязательную систему. В центре этого учения должно стоять жизнепонимание.
Рассматривая философию как учение мудрости, как учение миросозерцания, мы не стремимся сковать ее практически жизненными вопросами; она захватывает в свой круг все вопросы об основоположениях; она остается «наукой о принципах», но уже перестает быть только этим, только сводкой о целом мира, только хранителем фундамента наук или только учением о должном. Как само миросозерцание, она захватывает всю ширь вопросов личности, но уже в их не рассеченной, живой, конкретной полноте, – вопросы того, что есть, и того, что должно быть. Дальше мы надеемся выяснить подробно то, что мы имеем в виду.
Теперь становится ясным, что с нашей точки зрения жизнепонимание должно занять в философском учении центральное место. Это обозначает протест и отклонение от освященного вековыми традициями идеала чистого созерцания или умозрения, философствования ради философии; а цель может полагаться только в одном: в жизни, в истинной жизни, а умозрение и чистое созерцание сохраняют свою автономию – она важна с эвристической точки зрения, – но они всегда остаются только этапом, только средством для жизни и жизнепонимания[90]; важно только, чтобы это не было понято как отрицание автономии умозрения; оно жизненно необходимо, но оно не есть самоцель, в конечном счете. Исторический грех наш заключается в том, что средство – хотя и первостепенной важности – мы обратили в цель, в фетиш, побудивший нас оторваться от живых запросов жизни.
Отказавшись от поклонения разоблаченному идолу, мы должны сделать шаг дальше на пути прояснения основной философской задачи, которой увенчивается все здание, хотя ею и не исключается самостоятельная ценность и важность иных проблем философии. Такой всезавершающей, последней по времени и первой по значению проблемой является вопрос о смысле мира и жизни, о тех следствиях, которые отсюда вытекают для человеческой личности, для ее созревания, роста и воспитания и для определения ее роли и путей в мире и жизни[91]. Философия не должна повторять обычной ошибки, что наиболее близкие вопросы личности остаются больше всего в тени и не замечаются нами. Она не должна впадать в философскую суету сует, заполонившую нас в наше время и вполне аналогичную той переоценке средств, возведению их в цели и незамечанию близкого, кровного, в нас самих тлеющего вопроса, которые наблюдаются в жизни и заставляют людей скользить в неудержимом потоке соревнования из-за средств и по поверхности действительности.
Понятая так философия немедленно освобождается от принижающего ее привкуса лжемудрости и пробивает путь широкому потоку свежего воздуха из жизни и к жизни. Там в жизни зажегся огонь, согревающий подлинные философские думы, и с нею должна быть осознана живая неподдельная связь.
Вопросы о мире и жизни людей жизни и те же вопросы специалистов философов, философствование простого человека и творца системы различны не в сути, а в том, каким путем мысль обоих идет к одной и той же великой цели: первый идет ощупью, бездоказательно и бессистемно, путаясь без определенного метода; второй – не исключает индивидуальности, чутья и прозрения, но он приходит к ним на помощь во всеоружии метода и системы. Там и тут философствование, одно бессистемное, другое – систематическое и потому претендующее с известным правом на общеобязательность. Философия и жизнь должны заговорить на понятном – в сути своей – языке друг для друга; от этого выиграют обе стороны[92]. Для этого философии нужно только отказаться от своей ложной гордыни и понять себя как учение о миросозерцании и жизнепонимании. Глубоко прав был Фихте, убеждавший[93] своего читателя крепко держаться жизни в философии.
То, что жизнь идет сама по себе, а мы в гордой изоляции философствуем сами по себе, затрагивая самое кровное в жизни, ее сердцевину, не выдерживает решительно никакой критики. Все это было возможно – и остается возможным для узкой, частичной, отвлеченной науки, пока мы берем части, пока мы переходим от одного дерева к другому и в нашей душе не разгорается вопрос о лесе, о целом. Тогда вражда между теорией и практикой ясно ставит вопрос о том, что одна из них ложна. В вопросах великой субъективной важности – а таковы все основные вопросы философии – между ними не может, не должно быть противоречия; мы здесь и не можем жить двойной правдой. Истина одна для всех; нет истины специальной для профессора на кафедре и для него же как человека в обычной жизни. Созрев в уме ученого и философа, истина идет в жизнь как большая творческая сила; и потому она – во всяком случае, философская – никогда не бывает чисто теоретической.
Таким образом для философии есть только один жизненный путь: это – мудрость, учение о мире и жизни во всей их широте[94]. Именно в философии так велика роль и ценность убеждения, потому что она обращается ко всем сторонам человека и говорит обо всей мировой и жизненной полноте: шаблонное понятие правильности и истинности уже не может вместить всей ее глубины. Отдельные периоды, когда она, как в наше время, расплывалась в частных вопросах и готова была потонуть в теории познания, это – только подготовительные периоды или временные уклонения, чтобы затем с тем большей силой перейти к основной задаче, определяемой ни чем иным, как древней идеей учительства. Дешевые возражения на это указанием на неприспособленных к жизни мыслителей ничего не опровергают: пусть будет философ беспомощен, как дитя, в мелочах практической жизни и частностях мира и жизни, но мы говорим о глубинах и цельности и полноте их: с высот и при безбрежных горизонтах всегда неизбежно не замечают того, что частно, мелко, что находится вблизи и под ногами. Здесь в характере жизненной мудрости кроется разгадка того, что в философии и философах в ее наиболее цветущие периоды никогда не угасал великий реформаторский дух и стремление к повышению и интенсификации культуры и человечности, о которых мечтал Фихте, полагая, что всякая философия и наука утрачивают весь свой смысл и значение, если они не служат, как высшей цели, этим целям истинной жизни[95]. Философия, завершаясь в проблеме смысла мира и жизни, никогда не остается мертвым холодным фактом; она никогда не может остаться в сфере чистого значения, она логически и внутренне необходимо является вместе с тем живой деятельной силой, переходящей в сферу влияния и действия; завершение системы обозначает момент соответствующего высвобождения этой силы: философски знать, понять и осмыслить это, значит, открыть личности возможность не только знать, но и определенным образом действовать. Хотя бы этим действием явилось самоубийство, завершающее учение пессимиста, как у Майнлендера. Философия поэтому всегда захватывает нас с непосредственной жизненной стороны и насыщает теплом или отталкивает своей личной и жизненной неприемлемостью для нас. Именно потому и оказывается возможным аргументировать в ней за и против указанием на удовлетворение или неудовлетворение интимных запросов человеческой души, не только теоретического духа, но и воли, и чувства, и всей полноты личности. Философская правда есть всегда не просто объективная истина, но и субъективно приемлемое положение.
И это так понятно. Уже в науке принцип «знание ради знания» правдив только относительно; именно – он глубоко правдив, пока им отклоняется вмешательство посторонних житейских интересов в работу научной мысли и попытки навязать ей цель со стороны, нарушить ее автономию. Но вместе с тем становится ясным, что наука и ученый не могут и, главное, не должны отрываться от жизни[96]. Тем более важно философу, трактующему саму жизнь в ее глубинах и сердцевине, не терять направления на жизнь.
Это и выражается в идее учительства, об этом и говорит и суть дела, и голос жизни. Ученый прежде всего человек, и понятие его входит в понятие человека, а не наоборот. Вечно сменяющиеся продукты философского творчества только потому не отталкивают нас от себя своими сменами и не приводят и не приведут к полному разочарованию, что они дышат не только теоретическим духом, но что в них скрыто или явно горит пламя мудрости и идеи учительства, дух глубокой жизненно действенной правды. Философия не может не учить, потому что она всегда – хочет этого философ или нет в своих сознательных крупных стремлениях, безразлично – кульминирует в проблеме смысла. Оттого нам так тяжело в атмосфере философской мелочности – в те периоды философии, когда в философских частностях, в самодержавии и сепаратизме частей, как это происходило, например, с теорией познания недавно, тонут живые философские запросы, когда философия во многом зарывается с головой до самозабвения в раскопки археологического характера, безнадежные попытки оживления отживших и мумифицированных фигур или в философскую микроскопию.
Жизненно развернувшаяся философия неразрывно связана с идеей учительства, и потому именно философия обязывает[97] – обязывает потому, что она, завершаясь, никогда не остается только знанием, а превращается вместе с тем в реальный фактор, в большей или меньшей мере предназначенный определять жизнь. Это не может быть иначе уже потому, что основным вопросом, волнующим человеческую мысль, является вопрос о взаимоотношении мира и человека, мирового начала и человека, составляющий корень вопроса о смысле жизни; это не вся философия, но это ее узловой пункт или ее завершение. Вскрыть философскую правду – значит звать к ней и отклонять все иное, как ложное. Философии всегда присущ лично-императивный характер, не отделимый от идеи учительства, продиктованной ее сутью, как учения о смысле мира и жизни. Она по самому своему устремлению к живой полноте, к абсолюту не может не становиться императивной. Идеально вскрытой философии должна быть действительно присуща великая жизненно-очистительная сила, которую когда-то ей приписывали пифагорейцы.
В таком понимании философия обретает свою сферу, не только неоспоримую, но и необъятно ценную: это не только основоположения наук и изучение самой мысли и познаний, но ее предмет – живой мир и жизнь в их конечном смысле. В конце концов и ученый, завершая свою область, поднимается в сферу целого и неизбежно встречается с этими вековечными вопросами. Философия в таком понимании не мертвые научные квадратики для похоронных распределений остатков живого, она не тупик, а выход по мосту проблемы смысла жизни на простор просветленной жизни. Таково ее возвышенное назначение: она должна пытаться приоткрыть завесу над назначением мира и человека не только в познавательных, но и в действенных целях, а для этого необходима вся широта познания и понимания не только того, что должно быть, но и того, что есть[98].
ЧАСТЬ I
ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
Как мы уже отметили раньше, история философии, особенно новой, не богата прямыми исследованиями проблемы смысла жизни личности, но косвенно или прямо ответ на этот вековечный вопрос можно услышать от автора каждой более или менее законченной системы философии. Мы видим свою задачу в попытке дать свой ответ на этот вопрос, а потому хотя мы и обратимся далее к значительным философским учениям, но подойдем к ним не как к истории, а как к типическим или основным попыткам решения интересующего нас вопроса. При этом мы главное внимание уделим учениям нового времени, полагая, что это достаточно мотивируется самым существом нашей проблемы и нашим пониманием философии как систематизированного миросозерцания и жизнепонимания; в таком понимании оно, естественно, должно не только стремиться к общеобязательности, но и в характере своем чувствовать свою близкую связь с характером своего времени и данной культурной стадии человечества и жизни. С ростом культуры, с усложнением жизни неизбежно получается, что в проблеме смысла вскрываются новые возможности, которые могут оказаться чуждыми далекому прошлому, как бы оно велико и значительно ни было. Это, конечно, далеко не обозначает пренебрежения к прошлому, как мы указали в первой главе, оно для нас приобретает особый, важный смысл, но в наших задачах обращение к прошлому диктуется не историческим интересом, а прикладным, – желанием выяснить, какие пути в крупных чертах должны быть признаны неудачными и какие условия необходимы для утверждения смысла.
Самое существо нашей темы приводит также к тому, что интересующий нас вопрос о смысле жизни и личности неизбежно требует расширения его до пределов вопроса о смысле мира, и таким образом ответ наш, который мы даем во второй части этого труда, естественно слагается в очерк мировоззрения.
III. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ ЖИЗНИ (ДЮРИНГ, ЛУКРЕЦИЙ)
Если бы человека непредубежденного и незнакомого ни с историей философии, ни с материалистическим миропониманием познакомили с основами традиционного материалистического учения, а затем спросили, к чему может привести такое миросозерцание, к пессимизму или к оптимизму, то разумно и последовательно он мог бы ответить только одно, что оно неизбежно должно завершиться черными тонами пессимизма или, лучше сказать, воцарением колоссального безразличия, механизации не только всего внешнего мира, но и человеческого «я», а это обозначает полное уничтожение всякого смысла жизни личности.
История материализма показывает нам между тем, что в развитии таких учений – за известными исключениями – центральную роль играла идея оправдания жизни, обоснования ею радостного содержания и смысла, вообще оптимистическое задание было той направляющей силой, которая скрыто или явно вдохновляла многих материалистических философов. Историческая седая связь материализма с эпикуреизмом, апологетом радостей жизни и их законности является союзом, продиктованным не только историческими условиями, но и общей по характеру внутренней идеей – идеей апологии земной жизни. Эпикуреец Лукреций, без сомнения, видел в материализме благодатную почву для устранения всех факторов, способных подорвать интенсивность земной жизни. С этой точки зрения вступление, которым Лукреций открывает свою материалистическую поэму «О природе вещей», нужно рассматривать не только как дань патриотическому чувству его соотечественников, дань их связи с покровительницей Энея, но в нем нужно видеть и иное: Лукреций взывает не только к «Aenadeum genetrix»[99], но и к Венере, к богине любви и земной радости и жизни. Лукреций вскрыл в глубине древнего времени глубокую, подлинную пружину материалистических стремлений в своем прямом заявлении, что он истинным, т. е. материалистическим миропониманием надеется освободить человечество от страшных мучений, порождаемых беспочвенными боязнью и суевериями; он надеется рассеять все призраки, устрашающие заблудших и мешающие их жизни, – рассеять их истинным философским познанием, показав, что мировые силы ведут мир по определенным законам, что нет иного мира и что в этих силах дана гарантия того, что все должно идти и идет по надлежащему пути.
Он говорит об устранении всех учений, подрывающих жизнь, потому что это[100] «грезы, способные загубить корни жизни и омрачить страхом все твое счастье».
Все эти мотивы в различных вариациях постоянно повторяются в последующем развитии материалистических учений. В xix веке их ярко выявили немецкие материалисты, указавшие со всей желательной определенностью на свою задачу с помощью материализма уничтожить все, что подрывает жизнь и жизненный оптимизм. Для них материализм есть бесспорно радостное жизнепонимание. Упрек в подрыве жизни представлялся философам этого порядка наиболее чувствительным, и их и без того красочный язык переходит в местах, где речь идет о таком обвинении, в форму настоящей «воинствующей философии». Рисуя жизнь и человека как продукт естественных процессов и отношений, устраняя во имя материалистического монизма иной мир, идею бессмертия, свободы и т. д., материалисты видели в своем учении только одну сторону, освобождающую от обязательств по отношению к иному миру и страха перед ним, и потому считали своим последовательным правом проповедовать лозунг брать эту единственную жизнь как таковую и не пропускать жизни мимо себя, потому что везде и во всем, в конце концов, получается один и тот же итог. Такой вывод ясно и определенно слышится у Бюхнера. Молешотт, отклоняя идею особого нравственного миропорядка, подчеркивает, что материализм открывает единственно логический путь для гуманной морали: по его учению, материализм, например, дает при его всеобъемлющей обусловленности возможность видеть в преступнике не чудовище, а собрата-человека, подвигнутого на дурные поступки болезненной или дефективной организацией, недостаточным питанием и известными изменениями в мозгу; оставляя невыясненным положение идеи ответственности при таком взгляде на поведение человека, Молешотт видит в этом только простор для расцвета человеколюбивого отношения даже к преступникам.
Как велика эта оптимистическая тяга у материалистов, это лучше всего видно на симпатичной фигуре Чольбе. В то время как у других философов-материалистов часто обнаруживается обыденный гедонизм, Чольбе возвышается до подлинного идеализма настроения; это по существу и есть то, что его отчасти выводило за пределы материализма и давало теоретическую подпочву для его широкой, благородной философской терпимости. Он со всей энергией указывает, что материалистические следствия, отрицание сверхчувственного мира, души, ее бессмертия и т. д., вполне оправдываются нравственным отношением к естественному миру и миропорядку, чувством долга, повелевающим довольствоваться тем, что дано, что есть. Он убежден, что падение идеи бессмертия вносит с собою в жизнь человека не пессимизм, а оптимистический тон, так как вечная жизнь была бы подлинной мукой, а смерть так, как она приходит в нормальной жизни, обозначает наиболее совершенное и удовлетворительное завершение земного пути. При правильном взгляде на жизнь и мир человек постарается использовать жизнь на земле наиболее продуктивно, как единственную жизнь, – он положит в основу взаимоотношения людей стремление к личному и всеобщему счастью и довольству; но это счастье достигается наилучшим образом тогда, когда строго исполняется долг по отношению к себе и другим, когда творится добро и человек готов к самопожертвованию. Таким образом материалист Чольбе не только пробился к исторической жизненной нравственной формуле «Не делай другим того, чего ты не желал бы себе», но он возвышается – правда, путем счастливой непоследовательности – до признания свободы личности, возможности ее самоопределения собственной волей и характером. Чольбе с присущей ему прямотой и искренностью завершил свое миросозерцание убеждением, что материализм, как и его антипод, спиритуализм, произошел не столько из знания и рассудка, сколько из душевной потребности, из определенной веры. Иллюстрацию к аналогичным стремлениям материализма дает и его детище, марксизм, направивший все свои усилия на строительство земной жизни.
Эта тенденция выявилась ярко и с большой односторонностью у Дюринга. На нем мы и остановимся более подробно, так как он уделил специальное внимание вопросу о ценности жизни в особом труде[101] и некоторые следствия выявил наиболее резко. При том ему рисуется перспектива даже поэтического понимания мира и жизни на материалистической основе, и он упрекает своих единомышленников за то, что они не вскрыли до сих пор этого скрытого аромата материализма.
Практический мотив оправдания земной жизни нашел у Дюринга особенно яркое выражение. Вся его книга полна – особенно в первых главах – доводами, обращенными к чувству человека, указаниями на жизненно выгодные стороны материализма, что только на этом пути можно найти истинное удовлетворение и покой[102], он указывает на защиту жизни как на свою специальную задачу; у него стремление, так сказать, окопаться на земле и найти удовлетворение здесь явилось настоящей всеопределяющей силой. Категория жизни для него высшая категория. Книга не даром названа «Ценность жизни». Выступление против нее в той или иной форме приводит его даже по стилю в настоящее неистовство. Как показывает самое заглавие второй главы его книги, он видит в материализме опору высокой гуманной оценки жизни и жизнепонимания. Основную тенденцию он вскрывает с первых же слов своей книги: он называет мысли о ничтожности земного бытия отвратительными («ekle»), он сравнивает их с широко распространяемым ядом, он приписывает им опустошение души, они для него дыхание чумы, нравственное гниение жизни; он видит свою задачу в том, чтобы уничтожить пессимистическую лимфу во всех ее видах, будет ли это просто аскетизм или «романтическая отрава»[103].
Уже в этих своих заданиях материалист Дюринг предвосхищает основной мотив Фр. Ницше, но сродство это идет и дальше – в их неудержимом бурном походе против «клеветников на жизнь». Подойдя с критерием служения земной жизни и способствования ее развитию, Дюринг разделил философские учения на две резко распадающиеся группы – на благоприятную жизни и враждебную ей, и по отношению к последней он в полном смысле мечет громы и молнии. К ней он причисляет все учения как чисто философские, так и религиозные, которые так или иначе ведут к признанию существования иного мира – тем более, если они своим трансцендентизмом обесценивают этот мир. Все это и привело Дюринга, как позже и Ницше, к резко враждебному отношению к христианству, на враждебность которого жизни Дюринг указывает на первых же страницах[104]. Как велика была вражда этого материалиста к идее трансцендентности и развенчания земного мира, видно из того, что он готов был признать в Шопенгауэре громадный талант, несмотря на ненавистный ему пессимизм, только потому, что тот усердно и с близкой Дюрингу несдержанностью и резкостью развенчивал Фихте, Шеллинга, Гегеля и др. философов, в которых он чувствовал аромат трансцендентизма и блуждающий призрак спиритуализма. Дюринг не устает сражаться на своем неистовом языке с ними; к их числу он причисляет и «профессора философии» Канта. Он обвиняет их во всех возможных и невозможных грехах, в том числе и в «метафизике»[105], очевидно, в искреннем убеждении, что материализм неповинен в этом направлении. Все антиматериалистические философы это – «Philosophaster, Philosophieprofessoren, amtierende Philosophierer, philosophastrische Debetirer»[106] и т. д. – одним словом, уже тут развертывается в полной мере дурной тон полемики, давший затем широкий расцвет. Отбросив эту очень неприятную для читателя форму, мы находим в ней ту мысль, что, по убеждению Дюринга, все мысли об ином мире рождены пресыщением и враждою, что дуалисты не чувствуют себя в силах естественно завершить свой жизненный путь и мыслят смерть не как смерть, т. е. не как полное, безостаточное уничтожение индивидуального бытия, а как какую-то новую жизнь, – мысль, в которой наш философ видит, как позже Ницше, по существу самую грубую претензию на возмещение за всяческий ущерб в этой жизни[107].
Последний упрек направлен особенно против религиозной мысли, у которой Дюринг отрицает и положение основы нравственности. Он находит, что религиозно-философские декорации здесь совершенно ни при чем[108]; нравственность и не поддерживается ими, и не родилась из религиозной веры. Он готов отметить, что как раз самые страшные преступления совершались людьми, связанными с религией или прямо верующими[109]. И развивая свою программу воспитания человека, Дюринг энергично требует устранения всего того, что подрывает жизнь, а это обозначает прежде всего изгнание метафизических (трансцендентных) и религиозных элементов, полное освобождение человека от угнетающей его мысли о боге и потустороннем мире.
Эта черта, между прочим, нашла себе место и у старого материалиста Лукреция: хотя он и взывает к богам и решительно протестует против обвинения в совращении на безбожный путь, но уже он в свое время начал с обвинения религии – традиционной, по крайней мере – в суевериях и преступлениях, напоминая о судьбе Ифигении[110]: «Вот к какому злу давала побуждение религия!» Он прославляет своего учителя Эпикура за освобождающую силу его учения от гнета религии. Конечно, это не было отрицанием богов, но Лукреций многозначительно добавляет[111], что боги должны наслаждаться своим блаженством и бессмертием вдали от человеческих дел и вмешательства в них. Все это ясно говорит нам, что мы имеем здесь дело не со случайной чертой материализма.
Таковы те враги, против которых неистовствует Дюринг: это – трансцендентная философия, религия и пессимизм; всем им объявлена война во имя земной действительности как единственной формы жизни. И вот так как все эти, как их называет наш материалист, разрушительные призраки рождены нелепой оторванностью от истинного пути познания и ложным истолкованием смысла действительности[112], то освобождающим средством может явиться только подлинная философия действительности, основанная на ясном познании ее составных частей и их действительного характера. Подлинная жизнь требует подлинного мира и его подлинного познания; оно, по убеждению Дюринга, необходимо приведет к оптимизму и пробудит желание участвовать в жизни. Во имя этой задачи и необходимо не ограничиваться одними положительными знаниями, но с помощью философской мысли осветить суть мира и жизни[113].
На основе таких предпосылок Дюринг развертывает обычное материалистическое учение, полагая, что оно ставится вне всяких сомнений, особенно современными положительными естественнонаучными данными. Эта уверенность находит себе некоторое оправдание в том, что в то время как современные естествоиспытатели энергично отмежевываются от материализма и попыток свести, например, душевные явления на положение эпифеноменов – наоборот, целый ряд их дает любопытное продвижение от физиологии и естествознания к идеализму[114] и даже к критическому идеализму[115] – в пору Дюринга видные представители естествознания часто сгущали свои теории в материалистическую метафизику. Используя в незаконном перенесении с эмпирии в область умозрения гипотетический механический принцип, Дюринг видит суть материализма в трех существенных отрицаниях и в одном основоположном утверждении, и он отрицает спиритуалистический «призрак души», индивидуальное бессмертие и бога как трансцендентное, нематериальное господствующее начало мира. Все сводится у него к традиционным столпам материализма: к материи как носителю и синониму всего действительного и к механической силе, связанной с материей. Как бы предвидя возможность сомнений относительного последнего фактора, Дюринг подчеркивает[116], что привнесение понятия силы не только не подрывает материализма, так как сила эта мыслится в материи и материально – механически, но что оно обогащает материализм возможностями. По его мнению, материализм до сих пор останавливался на своем основоположении и не переходил к изложению богатых перспектив, которые открывает материалистическая точка зрения во внутренних отношениях природы в направлении живого понимания всей системы природы, и, главное, материализм слишком мало внимания уделял моральным законам человеческой природы; в особую вину материалистам XIX века Дюринг вменяет то, что они не вскрыли истинно поэтического понимания мира и жизни на основе своих теорий[117].
Мы не станем здесь останавливаться на общеизвестных чертах развития материалистического утверждения, что все, – материя. Можно полагать, что претензия на поэтические следствия навеяна Дюрингу не материализмом как таковым, а его монистическим характером, открывающим широкий простор для идеи единства всей действительности, тесной сплоченности, сродства и связанности друг с другом всей широты жизни – идеи, способной родить высокий подъем к жизни. Так невольно протягиваются Дюрингом нити к ненавистным ему противоположным учениям трансцендентистского и религиозно-философского характера[118]. К этой идее единства присоединяется незаконно вводимая идея цели и развития, и с этого момента задача поэтизации материалистического мировоззрения становится уже вполне осуществимой. Незаметно для себя вводя настоящий аромат преданных им анафеме «философастов» Шеллинга – Гегеля, Дюринг различает[119] две сферы мира или природы, бессознательную и сознательную, начинающуюся с ощущения и составляющую цель бессознательной части мира. Все планеты не знали сознательной жизни, но природа произвела ее. «Жизнь есть, – говорит Дюринг[120], – результат работы природных сил, и ее порождения продолжаются в направлении повышения и обогащения содержания». Внешний мир только средство для цели, цели жизни, и при том внутренней жизни, которая одна может быть целью. Так вошел – с понятием развития, сознания и цели – элемент ценности, дающий поэзию материализма и давший неожиданное, с точки зрения материализма, совершенно неоправданное, подразделение на мир внешний и внутренний как средства и цели.
В понимании душевной жизни Дюринг становится на точку зрения полного поглощения ее материальным принципом. Он находит, что современная наука ясно вскрыла зависимость психики, ощущений, чувств и интеллекта от органов чувств и их функций. Обмен веществ и питание – вот основа всего органического. Сознание же «элемент за элементом» основывается на действиях особых частей мозга (все механизируется)[121] и т. д. в духе тех плоских рассуждений, которые дал материализм средины XIX века. Интересно то, что Дюринг считает возможным игрой физиологически фундаментированных аффектов на почве более близких или далеких стремлений объяснить все проявления духовной жизни вплоть до возникновения отвлеченных идей[122]. Указав на различие симпатических и асимпатических страстей, Дюринг видит в первых рычаг широкой человеческой жизни. Во всех них, по его мнению, дано прежде всего утверждение и признание чужого существования. Таким образом дается не только идея человека, но и человека среди равных и подобных ему, а это сразу меняет всю картину мира. В мире появляется личность, в которой пробуждаются самые благородные мотивы путем познания всей широты действительности, с подлинным образованием, искусством и культурой; при этом человек не останавливается на ограниченном этапе, а движется все выше, все вперед, ко «все более высоким целям»[123]






