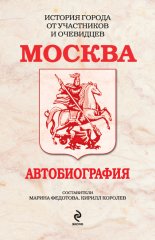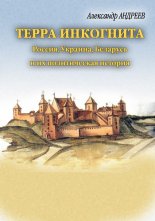Путанабус. Наперегонки со смертью Старицкий Дмитрий
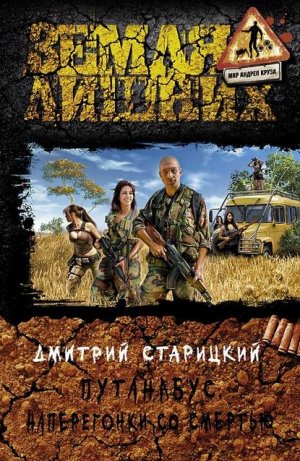
– Наталия Васильевна, завтра утром нас расстреляют, – привел я неубиваемый резон. – На какой период времени вы желаете отложить свое знакомство с этими, как вы выразились, «половыми экспериментами»?
– Где вы всему этому научились? – прошипела сестра милосердия все так же сердито, но уже заинтересованно.
– Да шатало меня по свету. Одно время у меня даже гарем был из очень развратных женщин. Недолго.
– Простой фельдшер, а какая загадка. – Она потянулась в сладкой истоме. – Тогда, Георгий Дмитриевич, поцелуйте меня… ТАМ. – И тоненько хихикнув, продолжила: – Всю жизнь мечтала о таком наслаждении с мужчиной, а сознаться в этом мужу было очень стыдно, вот и молчала. – И снова прыснула коротким застенчивым смешком.
– Значит, с женщинами такие половые эксперименты вы уже проводили? – не то спросил ее, не то утвердил.
– Экий вы… Все-то вам знать надо, Георгий Дмитриевич. Конечно, проводила. Я же курсистка. А все курсистки делятся на тех, кто вырвался из дома, чтобы пуститься в столице во все тяжкие, и тех, кто, несмотря ни на какие соблазны, сохраняют себя для мужа. Часто эти последние вскладчину снимают большую квартиру комнат на шесть-семь. Так, кстати, дешевле выходило, чем по отдельности комнаты снимать в меблирашках. И жили там общежитийным монастырем, куда мужчин не допускают ни под каким видом. Мебели вечно не хватало, так что приходилось с кем-то делить койку и… – Тут она замолчала, хмыкнув. Еще раз хмыкнула значительно и договорила: – В общем, сапфические игры в этой среде процветали.
– Вы бестужевка?
– Нет, высшие женские курсы Герье. В Москве, на Девичьем поле.
– Медичка?
– Медичка, только недоучившаяся. Замуж выскочила. А муж получил стипендию Академии наук и уехал в Армению ловить своих любимых жуков. Им к тому времени уже несколько таких коллекций было собрано в Зоологическом музее университета. А я… Где ты, Кай, там и я, твоя Кайя. Ловила жуков вместе с ним. Счастливое было время…
В тесноте сеновала повисла пауза.
– Потом началась война, – продолжила баронесса свое повествование. – Муж собрал окрестных маузеристов[13] в ополченческую дружину, ушел с ними на турецкий фронт и не вернулся.
Наталия Васильевна замолчала. Я обнял ее за плечи и пододвинул к своей груди. Она прижалась ко мне и продолжила:
– Чтобы не сидеть без дела, я занималась переселением армянских семей с турецкой стороны на Тамань, под Анапу и в Сочи. Они бежали из Турции толпами, бросая все и спасая только жизнь. И проще, как оказалось, переправлять их туда через Грузию и Абхазию или вообще напрямик морем. В личной жизни остались только письма от Саши. Радовалась, наверное, больше его самого, когда его наградили золотым Георгиевским оружием за освобождение Вана. И вообще полковницей жить гораздо приятнее, чем профессоршей, особенно когда идет война. А когда муж погиб, я сама ушла на фронт, но дальше армейского санитарного поезда меня не пустили. А когда Армения от России отделилась, прорвались санитарным поездом сюда через враждебную Грузию, спасибо абхазам – отбили. Но доехали только до Пензы…
Некоторое время на сеновале установилась такая тишина, что стало слышно, как скрипят сапоги нашего часового за стеной сеновала. Потом Наталия Васильевна возмущенно зашипела вполголоса:
– Вы это специально такой разговор завели, чтобы не выполнять мою просьбу?
После такого наезда мне только и осталось явить свой аспект и поднять атрибут.
А в тихом омуте Наталии Васильевны водилось целое стадо чертей. Их стоило только выпустить на волю.
Утром нас, как ни странно, никто не потревожил.
Даже принесли завтрак: хлеб и воду. Хлеба – фунт на двоих и котелок колодезной воды. Вот и все события, не считая оправки в дощатом сортире во дворе. Под прицелом.
Время на сеновале тянулось медленно и как-то тягуче.
Мы молчали, стараясь не говорить о неизбежном. Только Наталия Васильевна, встречаясь со мной взглядом, неожиданно рдела и отводила глаза.
Когда меня вконец достало это напряжение, я попытался развеселить ее армейскими байками. А когда и они не прошли, то откровенно антисоветскими анекдотами про Ленина, Крупскую и Дзержинского, которые выдумали потомки к столетнему юбилею вождя революции. Получилось. Смеялись над ними не только баронесса, но и конвоир за дверью. Тот просто угорал, хотя и понимал не все.
Часам к десяти – часы у меня не отобрали, даже не обыскивали – за нами наконец-то явились товарищи с винтовками числом в пять штук. И одной лопатой. Командовал ими Михалыч с шашкой.
Прямо во дворе управления волостью нас стрелять не стали – повели за околицу, через все село. Напоказ. Видимо в качестве дополнительного устрашения местных обывателей.
Обыватели ничем свое отношение к нашей скорбной процессии не выражали, разве что мне некоторые – из тех, кого я пользовал по медицинской части, – кланялись, прощаясь. Остальные только крестились вслед.
За околицей, недалеко от дороги, на лугу возле плакучей березки уже образовалось маленькое кладбище. Я насчитал восемь могильных холмиков без каких-либо обозначений.
Михалыч мне выдал лопату и приказал копать в этом рядке девятую яму.
– Одной на двоих хватит, – ухмыльнулся он при этом глумливо. – Вам не привыкать вместях лежать.
Да, сплетни по деревне разносятся быстрее скорости звука. Или это мы так ночью от страсти рычали, что все село переполошили? Наталия Васильевна, когда согласилась на «половые эксперименты», любила меня в полный голос, ничем не ограничиваясь в своих порывах. Вот и сейчас ее щеки стыдливо вспыхнули при словах Михалыча. А в глазах бесенята скачут.
Поплевал на ладони и взялся за отполированный черенок лопаты.
Лопата была тупая, и копать ею было трудно.
Да и не было стимула особо стараться на этой работе.
Пока копал, прокачал обстановку. Рядом с нами находился только Михалыч, как смотрящий за земляными работами. А расстрельная команда, пятеро бойцов, стояла в отдалении. Опытные.
Лопата в умелых руках – тоже оружие, но не всегда. До этих пятерых я отсюда и добежать не успею, как свинцом нашпигуют.
Вот тут и ляжем с тобой, ненаглядная Наталия Васильевна. В этот пензенский песочек. Жили с тобой мы недолго, но очень счастливо и умрем в один и тот же день. Как в сказке.
Только снял дерн с нашей двуспальной могилки и углубился в землю на штык, как за спиной сипло прогудел клаксон автомобиля.
Оглянувшись, увидел открытый «Руссо-Балт» с колесами на деревянных спицах. В нем в полный рост стоял невысокий, чисто выбритый человек в кожаной куртке, весь перечеркнутый ремнями. На голове его из-под маленькой кожаной фуражки во все стороны вырывались жесткие кудрявые волосы. На околыше фуражки ярко рдела новой эмалью звезда.
Убедившись, что все обратили на него внимание, этот человек выкрикнул:
– Я Лев Мехлис, комиссар запасной бригады, в которую входит ваш полк! Я желаю знать, что тут происходит.
– Расстрел контрреволюционеров и врагов народа, товарищ комиссар, – бойко ответил Михалыч, но воинского приветствия начальству не отдал, хотя и вытянулся в струнку.
– Дайте мне постановление трибунала, – приказал комиссар, требовательно протягивая ладонь.
– Нет никакого постановления, товарищ комиссар, – ответил Михалыч, впрочем, осознавая себя в полном праве, – расстрел производится по приказу товарища Фактора.
– Я отменяю расстрел до заседания Ревтрибунала, – отрезал Мехлис и опустился на сиденье. Потом, повернувшись, добавил: – Ведите этих задержанных в штаб, будем разбираться.
В селе Мехлис, не медля, машиной отправил очнувшегося Нахамкеса в Пензу.
Перед отъездом тот потребовал меня явить пред свои светлые очи. Оказывается, он узрел свои так и неубранные отрезанные ноги в медном тазу в каретном сарае и понял, что ему грозило.
Благодарил.
Вменяемый товарищ.
В ответ я ему не преминул наябедничать, что его ноги были бы совсем целые, если бы товарищ Фактор не расстрелял доктора Болхова. Мне же не оставалось ничего другого, как их ампутировать. Иначе – хана.
– Разберемся, – мрачно сказал Мехлис, стоящий у автомобиля рядом со мной.
– Ты уж разберись как следует, по-партийному, Лев Захарыч, – попросил его товарищ Нахамкес, – без сантиментов.
И подозвав меня к себе, вложил в мои руки кобуру с ремнем.
– Владей, – усмехнулся, – чтоб было чем от контры отстреливаться красному фельдшеру.
И откинулся на подушки заднего сиденья, подставив осеннему солнышку свой небритый подбородок.
Автомобиль взрыкнул мотором и, мешая тяжелую пыль с сизым выхлопом, укатил в сторону губернского центра.
Прошли в каретный сарай, в котором Наталия Васильевна проводила уборку, ведь после вчерашней операции это почему-то никому из товарищей не пришло в голову. Несмотря на то что в том же помещении находился сам товарищ Нахамкес, которого они все ужасно уважали.
Мехлис тут же спросил поднявшуюся с корточек баронессу:
– Вас как зовут?
– Наталия Васильевна Зайцева, – тут же за нее ответил я и сделал женщине страшные глаза из-за плеча комиссара.
Умница все поняла и сделала молчаливый книксен.
– Так вот, товарищи Зайцева и Волынский, – сказал комиссар бригады, – теперь вы мобилизованные бойцы Революционной Красной армии, доказавшие ей свою полезность. Но учтите: дезертиров у нас расстреливают.
После чего круто повернулся и ушел в здание волостного правления. Наверное, с Фактором общаться.
Я положил подаренную Нахамкесом кобуру на стол и, освободив руки, стал помогать сестре милосердия с приборкой, потихоньку ей выговаривая:
– Милая Наталия Васильевна, вопрос категорически серьезный…
Она посмотрела на меня внимательно, ничего не говоря, ожидая продолжения.
– Никогда и нигде не упоминайте того, что вы баронесса. Вы простая сестра милосердия из мещан, ваша фамилия теперь – Зайцева. Если кто и услышал ранее, что вы Зайтц, то посчитает, что попутал. Не так много внимания досталось вам от товарищей. Им в большом селе вдовушек и солдаток хватало. Не говорите никому, что были замужем, тем более – за полковником. Надеюсь, что все это ненадолго и скоро с товарищами мы расстанемся.
– Но ведь комиссар предупредил, что за дезертирство нас расстреляют, – напомнила мне баронесса.
– А сегодня с нами что хотели сделать? Не уживусь я с ними. И вас бросить у них не смогу.
Молодая женщина встала, убрала ведро с мусором к входной двери, вымыла ладони у рукомойника и лишь потом сказала:
– Давайте будем чай пить. Там все и обсудим… – И через паузу добавила, улыбнувшись: – Милый.
– С удовольствием, – ответил я, направляясь к рукомойнику.
Пока Наталия Васильевна готовила морковный чай, я рассмотрел гонорар за лечение от товарища Нахамкеса. Длинная кобура формованной рыжей кожи. Ее откидное крыло крепилось шлейкой, которая продевалась через нашитый кожаный штрипчик и закреплялась в прорезь на медную кобурную кнопку. Надежно закрывает, но, когда требуется скорость выхватывания ствола, может быть критично.
В кобуре был австрийский автоматический пистолет системы Манлихера[14], изящный, как хортая[15]. С длинным стволом и неотъемным магазином на десяток патронов. Изогнутая рукоять в руке сидит удобно, как влитая. Дорогая, статусная машинка. Не у каждого австро-венгерского офицера такая была. Они больше с более дешевыми пистолетами «штайр» или револьверами Гассера бегали. Или с немецкими парабеллумами под гражданский патрон 7,65 миллиметра.
Оттянул затвор и попробовал продавить патрон в магазин – полный, не давится пружина.
На хорошем кожаном ремне с орленой латунной бляхой (орел тоже двуглавый, но несколько другой, чем российский) висело два кожаных длинных и узких подсумка, в которых оказалось по снаряженной обойме к пистолету. Патроны блестели ровненькими бочонками. В каждой обойме было по десять патронов калибра 7,63 миллиметра.
Тридцать патронов – негусто. И брать их тут негде. Может, оттого и подарил товарищ Нахамкес мне эту машинку с барского плеча. Куда ее девать, когда патроны кончатся? Но, как говорится, дареному коню…
Засунул все обратно по подсумкам и в кобуру и опоясался этим ремнем поверх пиджака.
Наталия Васильевна, увидев меня в этом парамилитаристком прикиде, неожиданно прыснула:
– Георгий Дмитриевич, вы сейчас небритый да с этим оружием очень похожи на армянского маузериста.
Я провел ладонью по подбородку. Бриться пора, однако.
– Вы правы, Наталия Васильевна, только с этими арестами да расстрелами и не о таком позабудешь.
И мы дружно засмеялись, радуясь тому, что, несмотря на все, остались живы. И тому, что мы взаимно очень нравимся друг другу.
Потом прикатила комиссарская машина из Пензы, та, что отвозила в госпиталь Нахамкеса. В ней, если не считать постоянного водителя Мехлиса, приехало трио новых персонажей. Все как один – в английских шоферских кожанках и справных хромовых сапогах. Громко протопав по крыльцу, они скрылись в здании волостной управы, хлопнув входной дверью.
Я их заценил, когда ходил мусор выкидывать на помойку. Под конвоем, естественно. Меня под конвоем теперь и гадить водят.
Потом по нашим охранникам пронесся шелест, которым они сразу же поделились с охраняемыми, то есть с нами:
– Ревтрибунал бригады приехал. В полном составе. Что-то будет…
Что будет? Что будет, то и будет. Нечего гадать понапрасну, когда нас снова перевели на отсидку на сеновал, отобрав оружие. Кстати, Наталия Васильевна была этим обстоятельством очень даже довольна.
– Господь нам еще ночку подарил, милый мой Георгий Васильевич, – мечтательно сказала она, укладывая голову на мои колени. – И это просто замечательно, – добавила сестра милосердия, глядя мне прямо в глаза. – Хоть умру удовлетворенной.
А когда я стал через ткань ласкать ее грудь и живот, то просто замурлыкала. На большее мы благоразумно не посягнули – все же в любой момент нас могли вызвать на судилище. Да и светлый день на дворе. Но нам и так было хорошо и радостно. И плевать на всю революцию, что кружила вокруг.
В трибунал нас выдергивали поодиночке.
Ненадолго.
Все действо разворачивалось в зале волостного правления. Судьи, сидя в ряд, как вороны на жердочке, задали по пятку дежурных вопросов и велели отвести обратно на сеновал.
Даже ужин принесли туда же. Пшенную кашу и плохо заваренный морковный чай.
Даже обидно как-то стало. Ожидал судилища. Инквизиции. Казуистики и пропаганды. Накала эмоций. Ужасных обвинений, наконец. Но все было очень и очень буднично и как-то серо. Никакого праздника. Так ведь и расстреляют нас товарищи между делом, походя, без эмоций.
Но несмотря ни на что, жизнь продолжалась. А темным вечером удалось у охраны выцыганить лишних два котелка теплой воды для гигиены мест совместного пользования. А там и ночь подошла.
Ох и оторвались мы «половыми экспериментами» с бешеным восторгом чувств…
Как в последний раз.
Утром, до самого завтрака, нас никто не будил.
Потом охранники принесли нам один на двоих котелок сарацинского пшена, сваренного на парном молоке. И голого кипятку вместо чая.
Не успели эту кашу съесть, как явился старый знакомец Михалыч. В его внешнем облике произошли перемены. На его ногах, сверкая втертым маслом, красовались шнурованные сапоги товарища Фактора.
Вот так вот.
Мы невольно подобрались, ожидая худшего. Но Михалыч пришел один и без лопаты.
– Так, фершал, на выход, к товарищу Мехлису, – лениво произнес красный воин, прислонившись к косяку входной двери.
За его спиной солнце ярко заливало осенним теплом двор волостного правления. Даже сумрак сеновала стал разреженным.
Поцеловав Наталию Васильевну в губы, я поднялся и пошел наружу.
По двору, кружась, летали первые желтые листочки этой осени.
– Товарищ Волынский, вы справитесь с передовым перевязочным пунктом полка?
Мехлис собран и деловит. И смотрит на меня не как солдат на вошь, а как человек на человека. В корне отличное от товарища Фактора отношение к людям. Однако и общее между ними есть. Эта фраза его прозвучала вместо извинений. Новая власть не извиняется. Или извиняется, предлагая должность. Коллежского асессора[16], между прочим, должность.
– Это должность врача, – возразил я комиссару, – а я только фельдшер без классного чина.
– Нет у нас стольких врачей, – устало сказал Мехлис, усаживаясь за стол. – Фактор в расход вывел, сволочь.
– А с какой формулировкой вы самого Фактора в расход вывели? – задал я наглый вопрос.
Но Мехлис на него охотно ответил:
– За саботаж и вредительство делу Революции. У меня в бригадном госпитале нештат врачей, а он четверых в распыл. Докторов! С военным опытом! Вы понимаете, что это значит? Впрочем, именно вы и понимаете. И вел он себя совсем не по-большевистски. Нашел виновного – расстреляй, но унижать человеческое достоинство не смей! Не для того революцию делали, чтоб новые баре появились – с партбилетом.
Комиссар замолчал. Посопел еще, как породистый конь, и резко спросил:
– Беретесь?
– А товарищ Зайцева? – спросил я о главном.
– С вами, с вами будет ваша разлюбезная товарищ Зайцева, – заверил меня комиссар бригады, широко улыбаясь и задорно подмигивая.
– Тогда берусь, – сказал твердо.
– Вот и хорошо, товарищ Волынский, – констатировал Мехлис. – Вот и хорошо. Как в нашем гимне поется: «Кто был ничем, тот станет всем». Это и про вас тоже, товарищ Волынский. Это про всех нас. – Он открыл ящик стола и вынул оттуда мою рыжую кобуру с «манлихером» и стукнул ею по столешнице. – Это ваше. Забирайте. – Потом пододвинул лист бумаги: – Вот записка к интенданту полка, чтобы вас нормально обмундировали. Все же вы теперь командир полкового уровня. Ну и прочее, что перевязочному пункту потребно, получите. – Потом пододвинул к себе еще один и лист с машинописным текстом и размашисто его подписал. – А это приказ о назначении вас начальником передового перевязочного пункта полка.
Надо же. Все просчитал комиссар и даже мандаты заранее заготовил. Организатор!
– Какие еще пожелания будут? – спросил Мехлис.
– Документы о мобилизации, – выдохнул я.
– У полкового писаря, – махнул комиссар большим пальцем за плечо в стенку.
А я продолжал выбивать из комиссара возможные ништяки, пока такая пруха:
– Домой бы съездить на несколько дней. Все же, когда меня принудительно забирали, даже избу не дали запереть. Да и законный брак оформить надо. Здесь-то церковь закрыли.
– Зачем вам церковь? – удивился Мехлис. – Распишут вас в отделе гражданских состояний волости и справку на руки дадут. Вот вам и законный революционный брак.
– Мне-то все равно, товарищ комиссар, но вот женщине… Сами понимаете. Отсталый элемент. Им аналой подавай и венчание. Чтоб красиво было.
– Да. – Комиссар слегка постучал кулаком по зеленому сукну стола. – Воспитывать и воспитывать нам еще население в коммунистическом духе. И за год-два эту глыбу нам с места не сдвинуть. Хорошо. Трех дней хватит? Пока я здесь, в Лятошиновке, задержусь. Потом отвезу вас в Пензу на автомобиле, там получите лошадей, ездовых, двуколку, телеги, несколько обученных санитаров и сестер милосердия от госпиталя. Из фармакопеи еще там по мелочи.
Мехлис смотрел мне прямо в глаза.
– Хватит трех дней, товарищ комиссар. – Я еле-еле сдержался, чтобы не зареветь от охватившей меня радости.
– Когда мы вне строя, зови меня по имени-отчеству: Лев Захарович. – И Мехлис протянул мне ладонь для пожатия.
Без проблем оформил у полкового писаря мобилизационные листки и на себя, и на Наталию Васильевну Зайцеву, мещанку города Гродно, девицу рождения 1893 года, православного вероисповедания. С Гродно это очень удачно вышло. Там сейчас после Брестского сепаратного мира немцы стоят. Даже если очень захотеть, ничего из наших палестин по архивам не проверить. Руки коротки. И врать нам не придется лишнего. Монах Оккам предупреждал, что не стоит множить сущности сверх меры. Вот и мы не будем. Тот же не к ночи помянутый Геббельс говаривал, что лучшая ложь делается из полуправды. А он в этом признанный мастер был.
Потом я потребовал у писаря мандат на новую должность согласно приказу. Типа приказ себе оставь, а мне удостоверение с полковой печатью выправь, что я начальник передового перевязочного пункта полка. Как оно вообще и полагается.
Но тут писарь повел себя странно. Поначалу категорически не хотел ничего мне выдавать, не объясняя причин. Потом выдвигал какие-то невнятные препоны. Но под моим напором сдался быстро. Все же они, пращуры наши, на предмет взять на горло слабоваты перед потомками будут. Квалификация не та. Не жили они при социализме. В итоге даже несколько униженно писарь попросил товарища начальника пепепупо – меня то бишь, так товарищи мою новую должность бюрократически сократили – «сей момент» обождать, пока он у комиссара справится насчет выдачи мандата.
– А то тут такие вещи творятся, что не знаешь, за что и хвататься, чтобы к стенке не встать. – И добавил тихо, доверительно так: – Ревтрибунал второй день лютует. Самого товарища Фактора расстреляли.
– Вот и метнулся мухой! Пока тебя самого за саботаж не привлекли, – прикрикнул я на него напоследок.
Писарь оторвал свой толстый зад от табуретки и довольно борзо для своей комплекции выскочил в коридор. Даже печать на столе забыл.
А вот это он зря сделал. Я тут же проштемпелевал пару стандартных машинописных листов и положил печать на место. А листочки попросил Наталию Васильевну быстро спрятать у себя. Думал, она просто их на грудь под передник засунет, а у нее там целый карман внутренний оказался. Весьма удачно для нас получилось.
– Георгий Дмитриевич, – тихо прошептала милосердная сестра, торопливо пряча в карман сложенные листки, – зачем они вам?
– Ну, мало ли? Лишними точно не будут. Для нас, – заверил ее в правильности своих действий.
А тут и писарь заглянул. Попросил «обождать еще минутку», пока машинист[17] мандат напечатает и новый командир полка его подпишет.
После получения мандата – мощной бумаги с угловым штампом и круглой печатью – я почувствовал себя намного уверенней и легкой трусцой потащил Наталию Васильевну на другой конец села к интенданту – прибарахляться. А то холода уже на носу, а «у тебя нет теплого платочка, у меня нет зимнего пальта».
Под хозяйство полкового интенданта приспособили на окраине села ригу и какие-то капитальные амбары, забитые разнообразным барахлом под стрехи. Что же у них красноармейцы-то ходят как нищеброды при таком богатстве?
Попытки полкового интенданта, толстого короткого и кривоногого мужичонки с фамилией Шапиро и роскошными гитлеровскими усами (вроде они пока тут английскими называются), втюхать мне, «как большому начальнику», тонкие генеральские сапоги со встроченным в шов китовым усом успехом не увенчались. Я вытребовал себе нормальные юфтевые сапоги нижнего чина, даже не по наряду, а на обмен. Оставил ему свои просящие каши дерьмодавы. Моя наглость, подкрепленная подписью «ужасного» Мехлиса, которого тут все начальство полка за сутки успело забояться до икоты, принесла обильные плоды. Так что жаба моя была довольна.
Кроме сапог я за полчаса стал обладателем хороших диагоналевых галифе по размеру, практически новых с высоким поясом под грудь. Синего цвета с малиновым кантом. И коричневого френча – русского самопала под фирменный бритиш, но приличного сукна и хорошего пошива. А также большой полевой фуражки казачьего образца, распяленной на деревянную пружину. Ее я брать не хотел, но ничего другого на мою большую голову не нашлось, даже папахи. Нашел он мне в своих закромах вместо генеральской шинели с «революционными» отворотами[18], от которой я категорически отказался (шлепнут еще сторонние товарищи, не разобравшись), некое подобие двубортного шоферского бушлата серого касторового сукна. Чуть широковат бушлат оказался в плечах, но это несмертельно. Особенно по нашим дефицитным временам. Довершила мое преображение командирская планшетка с целлулоидным отделением под карту.
Напоследок Шапиро попытался мне всучить «в знак уважения» еще пехотный кортик с «клюквой»[19]. Но это не для меня. Вместо холодного оружия заставил его найти у себя в глубинах амбара хирургический набор (шикарный набор оказался, немецкий, из нержавеющей стали в отдельном ранце-несессере) и разного перевязочного материала, йода и перекиси водорода, которых тут оказалось очень и очень богато. Что ж они его на товарища Нахамкеса-то пожадовали? Мы ж его чуть ли не стираными портянками бинтовали. Вот не пойму их логики, хоть убей!
Поиски подходящей одежды для Наталии Васильевны прошли намного дольше. Все же тут мужской гардероб в основном, и размеры совсем другие, хотя сестра милосердия – девушка высокая и видная. А вот ножка у нее маленькая.
Стремительный Шапиро молнией метался между штабелями, ящиками, сундуками и просто узлами; казалось, знал все, что и где у него лежит, но каждый раз это был кайф предпоследнего варианта решения.
В итоге этих метаний интенданта Наталия Васильевна оказалась обладательницей краповых «революционных» шаровар[20], снятых с какого-то гусарского унтера. И гусарских же ботиков[21] с короткими серебряными шпорами. Защитного цвета шерстяной гимнастерки-косоворотки, которую милосердная сестра согласилась ушить сама, при обеспечении ее нитками и иголками (и этот дефицит ей тут же был интендантом выдан!). И шикарной темно-лиловой венгерки из французского драп-ратина с черными бранденбурами шелкового шнура. На черном каракуле в комплекте с каракулевым же картузом. Черная юбка тонкого сукна к этому костюму нашлась почему-то в соседнем амбаре. И одно хорошее шерстяное платье с глухим воротом. (Это все не иначе с какой-то барской усадьбы грабленое тряпье.)
– Вы совсем будете, барышня, как кавалерист-девица Дурова, – сделал интендант неловкий комплимент, принеся к охотничьему костюму юбку и кавказский тонкий пояс с серебряным набором.
Выдал он нам также нужных размеров исподнего мужского, нового, по две пары на нос, и льняной бязи на портянки. Мятного зубного порошка фабрики Маевского в жестяных банках. Хозяйственного и земляничного мыла. И медицинского спирта две ведерные бутыли в камышовой оплетке.
С последним интенданта расставаться мучила жаба. Крепко мучила. Но отказать бумаге с подписью Мехлиса он не осмелился.
– Моисей Шлемович, – предложил я ему вполголоса, – куда нам сейчас тащить обе бутыли? Да и на чем?
И внимательно посмотрел ему в глаза.
Интендант почесал за ухом, мотнул головой и согласился со мной, что в двуколку все не влезет.
– Вот и я о том же, – продолжал рассуждать. – Одну бутыль мы пока оставим у вас. Мало ли что случиться может в этом каретном сарае, в котором сейчас перевязочный пункт? Лучше вы нам саквояж подыщите под нашу старую одежку. И прикажите запрягать санитарную двуколку.
– Вы совершенно правы, Георгий Васильевич. – Интендант даже руки потер, как муха перед обедом. Никак в предвкушении удачных гешефтов со спиртом в период сухого закона. Я же ему сразу за две бутыли в складском талмуде расписался. – Сейчас распоряжусь насчет двуколки. Ее сразу к вашему подразделению приписать или с возвратом?
– Лучше сразу. Она же и так нам положена.
– Таки да, – согласился интендант.
Пока мы с Шапиро носились по амбарам, пока запрягали в нашу двуколку красивую рыжую кобылку с тонкими ногами, пока нам выделялся из личных закромов интенданта объемный американский сак, Наталия Васильевна успела пошить две нарукавные повязки белые с красным крестиком посередине. На завязках.
Переоделись в обновы мы там же, в амбаре. И повязки нацепили на левые руки. Наталия Васильевна лишь картуз надевать не стала, обошлась косынкой сестры милосердия. В неушитом вороте гимнастерки ее шейка стала похожа на гусенка, поэтому венгерку она на плечи накинула.
Я же не преминул подпоясать френч австрийским ремнем с «манлихером».
Погрузили все в двуколку и, тепло простившись с испуганно-заботливым интендантом, не торопясь покатили к волостному управлению. К обжитыми уже нами каретному сараю и сеновалу.
Заезжая во двор волостного правления, мы неаккуратно столкнулись с Мехлисом, который ловко перехватил нашу лошадь под уздцы, слегка отскочив в сторону. А то бы мог не отделаться легким испугом при столкновении с гужевым транспортом. Лечи его потом. А отпуск?
– Вижу, обживаете свое подразделение, товарищ начальник пепепупо? Похвальная деловитость. – Комиссар нам задорно подмигнул.
– Лев Захарыч, хоть ты бы не смеялся над моей должностью, – с укоризной ответил ему с высоты двуколки.
– Все, больше не буду, – улыбнулся комиссар, ласково поглаживая лошадиную морду. – Хорошая кобылка, справная. Интересно, за что так полюбил вас Шапиро, что энглизированного дончака вам в оглобли отдал?
Я сделал удивленное лицо и развел в стороны руки. Типа знать ничего не знаю и ведать не ведаю.
А Мехлис уже переменил тему:
– Чаем меня угостите в качестве компенсации за наезд?
– С удовольствием, – подмигнул я Наталии Васильевне. – Только у нас чай особый, революционный – бээсбэзе.
– Не понял. – Мехлис действительно выглядел озадаченным. – Какое безе?
Тут я откровенно расхохотался:
– Это означает, что чай «без сахара и без заварки».
Вылез из двуколки сам и подал руку милосердной сестре, помогая той выбраться на твердый грунт. Потом, взяв лошадь за уздцы с другой стороны от комиссара, повел ее с повозкой к каретному сараю. Мехлис пошел со мной, так как все еще держался за недоуздок.
– Уел, трубка клистирная. Отомстил за пепепупо, – констатировал комиссар. – Веселый ты человек, Георгий Дмитриевич, как я посмотрю.
И не понять – то ли в похвалу это мне, то ли в упрек.
– А чего унывать, – поглядел я ему в глаза прямо, – уныние есть смертный грех, как попы учили. Что наши, что ваши.
– Наши попы называются раввинами, – возразил Мехлис, помогая мне открывать дверь в конюшню.
– Это мне монопенисуально.
Я сбил фуражку на затылок и стал выпрягать кобылу из двуколки.
– Георгий Дмитриевич, так кипяток ставить? – подала голос Наталия Васильевна из ворот каретного сарая.
– Всенепременно, – обернулся я к ней, – как же мы комиссара без чая оставим? Да еще в присутствии Ревтрибунала в расположении части. Это будет крайне неосмотрительно с нашей стороны. Могут заподозрить в контрреволюции.
Смеялись уже втроем. Здорово, когда начальство шутки понимает. Хуже, когда оно такое, как товарищ Фактор со всей революционной и очень серьезной тупостью.
А еще за это время я подумал, что можно так вот запросто спалиться лексиконом двадцать первого века. Как два пальца об асфальт. Ну, вот… Теперь за губой следить надо. И базар фильтровать. Как штандартенфюреру Штирлицу, который пока где-то в Красной армии на посылках бегает как Максимка Исаев.
Мехлис, обождав, пока сестра милосердия скроется в каретном сарае, задал вопрос:
– Так что за слово вы последним употребили про раввинов?
Ого! Начальство перешло с «ты» на «вы». Плохой признак. Посмотрел в светлые честные глаза комиссара и ответил:
– Я сказал, что мне, как свободному от религии человеку, что поп, что раввин – мо-но-пе-ни-суально, – последнее слова сказал по слогам, для особо одаренных.
– Погоди, сам догадаюсь, – сказал комиссар, закатывая зрачки под брови.
Красиво думает. Видать, наш комиссар головоломки любит: сканворды всякие, ребусы, ментаграммы. Тем временем Мехлис потер ладонью подбородок, пару раз кивнул кудрями и промолвил с некоторой растяжкой слов, как будто не совсем был уверен в сказанном:
– Моно – это по-гречески один. Помню. Или по-древнегречески… Могу и попутать: в классической гимназии не учился, а в коммерческом училище этот язык не преподавали. А пенис по-латыни будет… – Тут он весело расхохотался, не договорив фразы. Открыто так засмеялся, заливисто. – От, медицина… – В восторге комиссар, присев, ударил себя ладонями по ляжкам. – Даже мат у вас латинско-древнегреческий. Но и старого взводного фейерверкера[22] тебе с панталыку не сбить, – погрозил он мне пальцем.
Я в это время закончил выпрягать кобылу и стал заводить ее в конюшню.
– Ладно, Георгий Дмитриевич, обихаживай кобылу не торопясь, я скоро к вам загляну, – крикнул мне вслед комиссар. – Посмотрю, как устроились.
– Как это понимать? – спросила меня Наталия Васильевна, когда я вернулся в каретный сарай.
– Что понимать? – не понял я вопроса.
– Эти заигрывания комиссара с нами.
– Перетерпим, милая. Надо перетерпеть. Ты только помни, о чем ты не должна говорить. Ни при каких условиях.
– Я помню, – заверила она меня. – Я не баронесса. У меня не было мужа полковника. И вообще я мещанка необразованная со смешной фамилией Зайцева.
По ее щекам потекли невольные слезы.