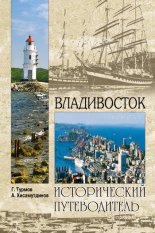Последний часовой Елисеева Ольга
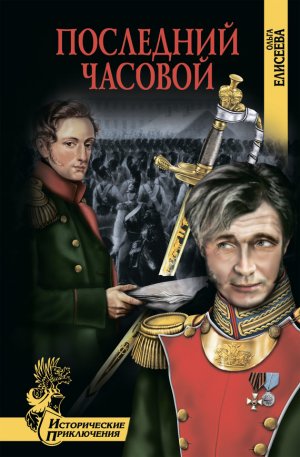
– Но для чего вы не пошли, когда государь звал вас? – Блудов приблизился к учителю. – Не оттого ли, что место вовсе не так прекрасно и славно?
Николай Михайлович дернул головой, и лакей уколол его булавкой в шею.
– Вы, дружок, приписываете мне чистоплюйство, которого, поверьте, у меня нет. Я болен. Собираюсь в дорогу. Ось мира будет вращаться и без меня. Что делать в правительстве? Я стар для молодых и молод для стариков. Я давно простился с мечтой быть полезным. Не простился только с историей. И стану писать ее вопреки нашим кастратам и щепетильникам. Мы все, как мухи на возу, в своей невинности считаем себя причиной великих происшествий. А надобно смириться с собственным ничтожеством.
– Но ваш воспитанник князь Вяземский вовсе не одобряет поступление на службу в нынешних обстоятельствах, – молвил Дашков, покусывая платок. – Он писал мне и решительно отговаривал. Сознаюсь, я в сомнениях: не совершаю ли чего непоправимого.
– Вам стыдно служить? – В голосе старика звучала горечь. – Я знаю мнение князя Петра Андреевича. Я люблю его, но что в наших мыслях братского? «Умнейшие и деятельнейшие из нас все с вывихом: у кого язык, у кого душа, у кого голова. Арзамас рассеян по заднице земли». Вот что он пишет. Давайте носиться из края в край, с чужбины на чужбину и нянчить свои вывихи. Меж тем как для нас, русских, одна Россия самобытна, одна Россия существует, все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можно в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России.
Оба ученика переминались с ноги на ногу. Не то чтобы они были не согласны. Но неудобный жернов ворочался в груди. Что он знает, высокомудрый летописец, о той грязи, в которую они каждый день погружают руки и перья?
– Хорошо, когда есть свое дело, – молвил князь Дашков. – Вы нашли его.
– Полноте, – одернул его Карамзин. – Я уже поворачиваю паруса в иные гавани. Могу написать более, но не напишу лучше. Читатель жаждет подробностей, а история должна быть разборчива. К счастью, авторское самолюбие оставило меня. О потомстве не помышляю. Тороплюсь только дописать прежде душевного охлаждения. Конец близко, близко… но еще можно не доплыть до берега.
Николай Михайлович не заметил, с каким удивлением скользнул по нему взгляд посланца Марии Федоровны. Бенкендорф всегда умел вовремя потуплять глаза.
– Впрочем, работаю сейчас мало, – признался Карамзин. – Грустно, мрачно, холодно в сердце и не хочется взяться за перо. Каковы преобразователи России! Я видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, ибо не было иного способа прекратить мятеж. Дай Бог, чтобы истинных злодеев нашлось не так много. Каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Но какой простор теперь будет для Аракчеевых…
По губам генерала в углу скользнула едва приметная усмешка. И снова ее никто не заметил.
Чиновник Герольдии закончил работу и с видом взыскательного живописца оглядел свое творение. С улицы было слышно, как подают экипаж. Николай Михайлович заставил обоих учеников поехать с ним. Считал, что им надо заводить неслужебные связи в том узком, но великом по своему влиянию мирке, который создала вокруг себя императрица-мать и откуда происходили такие доверенные лица, вернее доверенные безличности, как этот очередной …дорф.
– Скажите, я слышал вашу фамилию во время наводнения…
Александр Христофорович наклонил голову, но промолчал.
У Марии Федоровны уже накрывали к чаю. Гостей было совсем немного. Одиночество госпожи разделяла воспитательница великих княжон графиня Шарлотта Карловна Ливен. Девочки выросли и разъехались замуж за границу, а у двух дам осталась общая старость и общие воспоминания. Пришел добрейший князь Голицын, друг покойного государя, весь в утонченном мистицизме и поисках страждущих. С ним Карамзин привык язвить:
– Все могу объяснить, до летающих столов включительно. Обыкновенного не довольно людям слабым. Мы, как младенцы, вопреки рассудку, падки на дивное.
Вдовствующая императрица бросила на гостя укоризненный взгляд. Историограф знал ее тайну: Мария Федоровна верила в магнетизм. Николай Михайлович – в Бога.
– Ах, вы всегда со своим отрицанием. Как можно так не интересоваться загробными тайнами?
– Отнюдь, ваше величество. Мечтаю спросить на том свете, зачем мы живем на этом.
Шутка была принята хорошо. Надобно шутить, чтобы поддерживать себя в такие трудные дни. Правда, Голицын попытался надуться, но так как историограф не стал его больше дразнить, отвернулся к Шарлотте Карловне и пустился живописать откровения последнего сеанса. Графиня, женщина здравомыслящая, взирала на собеседника с легкой жалостью, ибо не нуждалась в подпорках для слабых душ. Но очень нуждалась в верном друге. Таких уж немного на свете. Остатки старого, лучшего мира.
Пришел Жуковский, одним своим существованием доказывавший, что и при дворе можно сохранить сердце. Он щурился и по привычке клонил голову набок, чтобы лучше слышать. Было совершенно непонятно, как этот ласковый недотепа справляется с резвым наследником.
– Временами он впадает в меланхолию, как покойный государь, и тогда с ним просто.
«О, с державным меланхоликом было очень, очень непросто!»
– Вообще в нем много от нашего Ангела, – кивнула императрица-бабушка.
«Может, хватит с нас ангелов?»
Александр Христофорович очень испугался, что произнес это вслух. Но нет, молчание золото. Он по обыкновению забился в угол, не мешая компании у стола разместиться так, как каждому будет приятнее.
Разговор крутился вокруг покойного государя. Здесь, в близком кругу, его все знали, все любили и искренно сожалели. Но у каждого была своя горечь на губах.
– После записки о Польше, я думал, мы душою расстались навеки. – Николай Михайлович почувствовал, что чашка в его руках начинает дрожать. – Я ошибся: благоволение его величества ко мне не изменилось, и он продолжал беседовать со мной. Я всегда был чистосердечен, он терпелив, кроток, любезен неизъяснимо. Не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частью и не следовал. Так что ныне, вместе с Россией оплакивая его кончину, не могу утешить себя мыслью о десятилетней милости и доверенности, ибо они бесплодны для любезного отечества.
– У царей есть лучший способ показать свое расположение – не мешать работать, – улыбнулся Голицын. – Разве его величество хоть раз черкал ваши рукописи?
Карамзин смерил князя долгим взглядом.
– Государь не расположен был запечатывать уста исторической откровенности. Но меня вечно что-то останавливало. Дух времени не есть ли ветер? А ветер переменяется. В почтовой скачке земного бытия мы этого не замечаем. В наше время хотят уронить троны, чтобы на их место навалить кучу журналов. Нужно думать одинаково с ними, без этого они не только не могут любить другого человека, но и видеть его. Те, которые у нас более всего вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе. Если бы у нас была свобода книгопечатания, то я с женою и детьми уехал бы в Константинополь, к невежественным туркам, не умеющим читать, и уже потому добродетельным.
Все засмеялись видимой несообразности. Светоч просвещения – защитник варварства.
– А как же права, свободы? – поддразнила гостя Шарлотта Карловна.
– Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не может меня лишить. Дать России конституцию в модном смысле есть нарядить вельможу в гаерское платье. Россия не Англия, даже не Царство Польское. Она имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Но заблуждения и преступления этих молодых людей с площади суть заблуждения и преступления нашего века!
– Вы предлагаете мне судить век?
Все вздрогнули. В дверях стоял молодой император. Хмурый, с помятым усталым лицом. Его не ждали, хотя приход Никса к матери вовсе не исключался. Кажется, он рассчитывал наскоро перекусить и был удивлен собранием.
– Вы проповедуете, будто мой несчастный брат ничего не делал?
Повисла пауза. Как всегда воспитаннейший и кротчайший историограф говорил неудобные вещи. Однако его за тем и звали.
– Я уповал, что государь займется основанием лучшей администрации, – с поклоном отвечал Карамзин. – Но старался ничего не ждать, не умиляться, не предугадывать. И это среди времени, беременного будущим. Первые годы по смерти тирана бывают счастливейшими для народов, ибо конец страданий есть живейшее из человеческих удовольствий. Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое.
– Пощадите сердце матери! – взмолилась Мария Федоровна. – Вы говорите о моем муже и моем сыне!
– Мадам, я обращаюсь не только к матери покойного государя, но и к матери государя нынешнего, – с достоинством молвил Карамзин.
– Не лучше ли обратиться к нему самому? – Никс, хмурясь, сел за стол.
– Ваше величество, я не боюсь встретиться с Александром на том свете. Все, что говорю здесь, говорил и ему. Мы оба не ужасались смерти, веря Богу и добродетели. Да будет ваше царствование только продолжением царствования кроткого предшественника. Да исполнится все, чего он желал, но не успел совершить для отечества.
Молодой император жестом остановил собеседника.
– Брату неприлично хвалить брата. И в теперешних обстоятельствах решительно не нужно излишних обязательств. Один Бог знает, что будет далее.
Николай Михайлович поклонился и замолчал. Действительно, только Бог ведает, каким станет нынешнее царствование. Новый государь не может ценить его чувств, как ценил прежний. Вон, эта тень у окна сразу оживилась и зашевелилась. Точно само присутствие хозяина привело ее в движение. Что за люди будут ему нужны? Уж явно не собеседники.
Разговор и правда прервался. Между тем Николай как ни в чем не бывало уминал эклеры, даже не положив салфетку на колени и, заметив Бенкендорфа, сделал ему знак приблизиться к столу.
– Вам известно, Николай Михайлович, что многие злодеи называют вашу «Историю» источником своих вредных мыслей?
Карамзин не побледнел.
– Вероятно, они разумеют девятый том и Иоанна Грозного?
– Нда, – протянул император и вдруг, откинувшись назад на стуле, процитировал: – «Приступаю к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства». Ужасная перемена ждет нас всех, не правда ли? Рылеев попросил сразу одиннадцать книг. Михаил Бестужев – последний том.
– Прежде многие из членов тайных обществ удостаивали меня своей ненависти, а я, кажется, не враг ни отечеству, ни человечеству, – бросил историограф. – Страсти дикие свирепствуют и в образованные века, чему подтверждением Французская революция. Страх велит уму безмолвствовать или рабским голосом оправдывать жестокость.
– «Зрелище удивительное, навеки достопамятное, – снова процитировал Николай. – Не изменились россияне, но царь изменил им!»
– Вы, кажется, недавно меня перечитывали? – скривился историограф. Ему никак не удавалось выбрать верный тон в разговоре с новым императором.
– Читал, – отрезал Николай. – Мой брат Михаил говорит: вы помогли русским догадаться, что между нашими царями были ироды. Формально он прав. Подследственный Штейнгель показал, что вы резкими чертами изобразили все ужасы самовластия и великого царя назвали тираном. Кстати, – император повернулся к Бенкендорфу, – это тот Штейнгель, у которого восемь человек детей, кормить их нечем, жена только что обратилась за пособием. А ее благоверный… – Никс проглотил ругательство, – книжки про Грозного читал и в заговорах участвовал.
– История злопамятнее народа. – Карамзин опустил последнюю будничную подробность и ответил на начало речи.
– А Бестужев говорит, – продолжал Николай, – что испытывал от чтения новгородских убийств лихорадочное любопытство и удовольствие ближе взглянуть в глаза смерти. Кажется, эти люди ожидают, что их станут кидать в Волхов и рассекать на части.
Историограф снова замолчал. У него наготове было множество фраз, способных опровергнуть мнение царя, будто он, Карамзин, чуть ли не заговорщик. Например: «Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция – отверстый гроб для добродетели». Но все это как-то не шло к случаю и совершенно не вязалось с манерами нового монарха.
– «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан. И в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку».
Ба, да он читал и «Письма русского путешественника»!
– Я передать вам не могу, Николай Михайлович, какая у нас «чудесная гармония», а также благоустройство с порядком пополам. – Император залпом осушил чашку чая. Мама говорила, что вы хотели меня о чем-то просить?
Историограф нахмурился. Да, жена настаивала, что надо ехать в Италию лечиться. Сам он вовсе не охотник трястись в карете или умирать от качки на корабле. Но здесь, в Петербурге, такое скупое солнце.
– Я полагал подать прошение официальным путем, – сказал Николай Михайлович.
– Успеется. Теперь скажите суть дела.
– Николя, – начала Мария Федоровна, – я чувствую себя невольной виновницей болезни Николая Михайловича. В роковой день я, мучаясь неизвестностью, посылала его в мундирном платье, в шелковых чулках, в башмаках на площадь узнать, что происходит…
– Совершенно напрасно, мадам, – оборвал ее сын. – Я беспрестанно отправлял к вам адъютантов с известиями.
– Тем не менее Николай Михайлович болен, – очень твердо надавила императрица-мать. – Медики советуют сим же летом удалиться в лучший климат. Третьего года он чуть не умер от грудной болезни, в прошлом изнемогал и худел. Но брат ваш удерживал его при себе. Двадцать три года по воле нашего Ангела Николай Михайлович писал «Историю» и назывался государственным историографом, но не получал жалования, кроме двух тысяч пенсии как почетный член Московского университета. Он живет плодами своих трудов, сам ходит в лавку за чаем и сахаром. А теперь с многочисленным семейством и недостаточными средствами не решается пуститься в путь.
Николай задумался.
– Я прошу помочь мне без всякого ущерба для казны, – с достоинством молвил Карамзин. – Во Флоренции есть место нашего резидента. Без нескромности скажу, что имею понятие о политических отношениях России к державам европейским, и не хуже другого исполнил бы эту должность. Действие тамошнего климата спасло бы меня от чахотки, а может, и от преждевременной смерти.
– Пребывание в Италии не должно вас тревожить. – Государь встал и заходил по комнате. – Место во Флоренции еще не вакантно, но российскому историографу не нужно подобного предлога, чтобы жить там свободно и иметь возможность заниматься своим делом, которое стоит любой дипломатической корреспонденции. Дайте подумать, я все устрою.
Карамзин опешил.
– Какой вы избрали путь?
– В июне из Кронштадта на корабле до Бордо недели три. Там выйти на берег и до Марселя в карете. Оттуда вновь на корабле в Ливорно.
– Не годится. – Никс махнул рукой. – Очень тряско и хлопотно. Мы снарядим фрегат, который и доставит вас до места. Лучше бы ехать в Штутгарт к моей сестре Марии, она бы позаботилась о вас. Но Италия так Италия, врачей надо слушать.
– Государь, – историограф отступил на шаг, – все это сверх моих заслуг.
– Вы не понимаете. – Николай с остервенением тряхнул головой. – Вы никогда ничего не просили. Я благодарен вам за бескорыстную привязанность к брату. Но надо же и нам знать честь. Вы сделали то, чего не сделал никто другой. Я читал вашу «Историю» и думал: оказывается, я русский, оказывается, у меня есть отечество. Это было давно, очень давно, я до того не размышлял о подобных вещах…
Николай Михайлович почувствовал, что у него на глазах закипают слезы. Он любил Александра, трудно, с горечью и разочарованием. Но тот не слушал, вернее не слышал, глухой ко всему, кроме своих внутренних движений. А новый, которого историограф не знал и знать не хотел, кажется, считал себя его учеником.
– Покойный государь оставил нам в вашем лице богатое наследство, – выдавил из себя старик.
Глава 5. Перстень
Умань – Одесса – Тульчин. Весна 1826 года.
– Ты никогда не говорила с Михаилом о Польше?
Софи Киселева аккуратно вытерла тряпочкой кисть и отстранилась от мольберта. Вид, который она пыталась запечатлеть, был прекрасен. Потуги жалки, но и сама новоявленная художница посмеивалась над собой.
– О Польше? – Елизавета Ксаверьевна вздрогнула. – С чего тебе пришло в голову?
Дамы сидели на открытой веранде усадебного дома сестер Потоцких в Софиевке под Уманью. Прямо от крыльца начинался сад. Весна на юге была ранней и сулила жаркое засушливое лето. Дальше за косогором рисовался ландшафтный парк, так как его понимала прежняя хозяйка, прекрасная фанариотка Софья де Витт, во втором замужестве графиня Потоцкая.
Об этой женщине, младенцем проданной в Константинополе польскому перекупщику, куртизанке, русской шпионке, кровосмесительнице и скандалистке, ходило столько легенд, что трудно было выбрать, в какую не верить. Говорили, например, будто умерла графиня в Париже, и будто из тамошней земли запрещено вывозить покойников, а потому слуги нарядили госпожу, причесали, нарумянили, усадили в карету, и когда она тронулась, то встречные мужчины оборачивались, так хороша была почившая…
– Я тебя не поняла. – Графиня Воронцова сделала еще один стежок на вышивке и вопросительно взглянула на собеседницу.
– Конечно, – губы Софи обиженно сжались. – Ведь ты не считаешь себя полькой.
От земли шел запах тепла и влаги. Не хотелось думать ни о чем грустном.
– Нет, – покачала головой Лиза. – И я не понимаю, почему для тебя это важно? Твоя мать гречанка. Ты сама всю жизнь провела в Малороссии, если не считать Петербурга и Парижа. Ольгу, кажется, подобные вещи не беспокоят?
– Ольга! – Софи фыркнула. – А я… – Она отбросила кисть и прижала оба кулачка к сердцу. – Я не знаю, как тебе объяснить! Но у меня все в груди разрывается от любви и жалости.
Лиза посмотрела на кузину с беспокойством.
– Бедная, несчастная Польша! Голубка, заклеванная тремя черными орлами! Твои соотечественники истекают кровью, а тебе все равно?
Воронцова потупилась.
– Этого не может быть! У тебя такая добрая душа!
– Но ничего нельзя сделать, – робко отозвалась Лиза. – Во многом поляки виноваты сами. Да и не мне сочувствовать им, у меня русская мать… и муж русский генерал. У тебя, кстати, тоже.
– Вот я и говорю! – воодушевилась госпожа Киселева. – Мы могли бы повлиять на них, склонить в нашу пользу. Многие польки замужем за русскими военными. И когда настанет час, а он настанет, я знаю, мы сумеем повернуть оружие своих супругов против тиранов и поработителей.
– Ты бредишь! – Лиза отказывалась верить ушам. – Послушай себя. У Павла Дмитриевича крупный военный чин. Ты должна постараться принять его родину.
– Никогда! – Щеки Софи пылали. На мгновение она стала еще красивее, если это только возможно. Пифия у алтаря. – Я не могу представить себе, что такой тонкий, образованный, благородный человек, как Поль, родился в этих медвежьих берлогах. Твой Михаил хотя бы воспитывался в Англии. А Поль? Поль – ошибка Провидения. И я постараюсь ее исправить.
«Ты сначала постарайся вернуть мужа, – подумала Елизавета Ксаверьевна. – А потом командуй им». Она сложила вышивание и встала.
– Пойду пройдусь по саду.
Графиня не любила спорить, потому что всегда оставалась при своем мнении, но не умела его отстоять. Стыдно признаться: она была упряма. Единственным человеком, которому удавалось ее разубедить, обычно оказывался муж, и то по единственной причине: Лиза считала своим долгом его слушаться. Застенчивость мешала ей гласно опровергать доводы собеседников, да и нужные слова не находились вовремя. Но в глубине души графиня кипела и, оставшись одна, начинала длинный диалог сама с собой, выдумывая, что бы сказали ей и что бы ответила она. Если бы была такой умной, как Михаил!
Теперь Лиза шла по дорожке и с негодованием рассуждала о бредовых идеях Софи. В такое время! Раскрыт заговор. Сотни людей, в том числе родня, замешаны. Надо молиться и ждать. А полонофильские выходки кузины только скомпрометируют Киселева. Ему и так нелегко оправдаться: во 2-й армии заговорщиков больше, чем невиновных. Софи же бравирует расположением к мятежникам. Они обещали свободу Польше!
«Что я здесь делаю?» – спросила себя графиня. Она приехала погостить и разделить тревоги за мужей. Михаила тоже вызвали в Петербург. Ей казалось, что именно у Софи следует искать поддержки. Вторая из сестер Потоцких – Ольга, в замужестве Нарышкина, – к своему супругу была решительно равнодушна и заглядывалась на чужих.
Вчера у Лизы была возможность в этом убедиться. Она гуляла с дочкой по саду. Пятилетняя Александрина бегала между клумбами, деревьями, кустами… и как-то забегалась. Мать пошла ее искать. Миновала несколько беседок, руину «Слеза», где три мраморные колонны были надломлены бурей над источником. Дальше шпалерами выстриженный лавр укрывал от нее маленький лабиринт, в сердце которого разговаривали. Не имея привычки подслушивать, графиня повернула назад, и в это время до нее долетели слова, произнесенные слишком громко.
– Я умоляю тебя! Ты видишь, я стою перед тобой на коленях! Верни мне Поля!
Лиза узнала голос Софи. И другой, отвечавший ей насмешливо, точно отказываясь принимать сказанное всерьез.
– Возьми, я не держу. Только мудрено отогнать кобеля от сучки, когда лапка поднята.
Это была Ольга. С ее неуместной грубостью в ответ на горе сестры. Лиза знала о семейном треугольнике. Павел Дмитриевич женился на старшей, и они, кажется, ладили. Родился сын. Но после смерти старой графини к Киселевым переехала золовка… Обычная история. Муж и сестра.
– Я всегда донашивала за тобой платья! – между тем потешалась Ольга. – Он уж не раз говорил, что больше никогда, никогда, никогда… А потом приходил и умолял, и плакал. В толк не возьму, что с тобой не так?
Нарышкина пыталась задеть сестру, но та не отвечала на оскорбления. Кто бы мог подумать! А ведь Лиза считала Софи такой же легкомысленной, как Ольгу. В ее глазах сестры стоили друг друга. Неужели она продолжает любить Поля?
– Теперь, когда вы потеряли ребенка, что вас соединяет? – Казалось, Нарышкина отстаивала право забрать у сестры бездетного мужа. – Поль сам говорил мне, что ты преследуешь его домогательствами.
– Он связан со мной святейшими клятвами. Я его жена. Он не может так просто отвернуться от меня.
В ответ послышался сухой смешок.
– Тебе ничего не напоминают твои стенанья:
- Оставь Гирея мне: он мой;
- На мне горят его лобзанья,
- Он клятвы страшные мне дал,
- Давно все думы, все желанья
- Гирей с моими сочетал;
- Меня убьет его измена…
- Я плачу; видишь, я колена
- Теперь склоняю пред тобой,
- Молю, винить тебя не смея,
- Отдай мне радость и покой,
- Отдай мне прежнего Гирея.
Не дав сестре опомниться, Ольга продолжала:
– Говорят, это ты нашептала Пушкину нашу семейную легенду о неженке Потоцкой, погубленной ревнивой одалиской в татарском гареме? Так зачем ломать комедию? Могла бы заложить страничку в книжке. Я бы поняла.
Софи молчала.
– Хочешь меня отравить или зарезать? Учти, «кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена!» Дорогая Зарема, черкесский булат – не то оружие, которым стоит сражаться за Поля.
Тон Ольги был непереносимо менторским.
– Лучше научись делать то, что ему нравится. А что ему нравится, спроси у меня.
На этой реплике графине захотелось своими руками придушить Нарышкину, и во избежание зла она поспешила отойти от кустов. Какая наглость! И в такой манере Ольга рассуждает о чужих мужьях? Не в последнюю очередь о Михаиле. Ноги у Лизы подкосились, она присела на разогретый солнцем мрамор у руины «Слеза» и подставила ладонь холодной струе.
Дело не в том, чего хочет Ольга, а в том, чего хочет Михаил. Попытка вернуть самообладание не удалась. Как там про сучку? «Когда лапка поднята…» У госпожи Нарышкиной лапка поднята всегда. И хвостик тоже. Молодая женщина не хотела признаваться, но ее душила ревность. Сестры Потоцкие – вакханки ослепительной красоты. А она? Она только умеет нравиться. Стоит Нарышкиной пожелать, стоит только протянуть руку…
Подобные вещи лучше скрывать от мужей. Но вот беда, Лиза была абсолютно бесхитростна и не умела таить тревоги. В первый же вечер после возвращения Воронцова из столицы она обрушила на него каскад новостей от Польши до дележа Поля между сестрами.
– Ты полагаешь, я не знаю цену Ольги?
Они лежали рядом в новой спальне, обставленной мебелью из грушевого дерева, и вдыхали аромат свежей штукатурки. Дом еще пах стружками, паркетной доской, масляными красками потолочных плафонов.
Левой рукой граф обнимал жену. Ее голова покоилась у него на плече, и Михаил чуть высокомерно посматривал на свое сокровище сверху вниз. Он не стал рассказывать, что имел опыт общения с госпожой Нарышкиной, когда полтора года назад сильно поссорился с Лизой. И что Ольга тогда ничего не получила. Подобная история, вместо того чтобы успокоить, могла только встревожить жену. Да и по характеру Воронцов, в отличие от супруги, был скрытен. Ему нелегко давались откровения.
Вместо этого он сказал:
– Софи думает не о том. Павлу теперь трудно будет оправдаться перед государем. Его всякую минуту могут взять под стражу.
Лиза ахнула.
– Я думаю, все обойдется. – Михаил потрепал жену по затылку. Он воздержался от того, чтобы пересказывать ей последний разговор с Киселевым.
– Как же вы объясните в Петербурге свое молчание насчет тайного общества? – Воронцов посетил начальника штаба в Тульчине перед отъездом в столицу. – Вспомните, что я говорил вам прошлой осенью.
– Стану все отрицать. – Павел Дмитриевич был подавлен. На него навалились горы несчастий, среди которых семейные – не самые страшные.
– Это неразумно. Говорите, будто знали то же, что знали все.
– Вряд ли поможет. – Генерал-майор глубоко вздохнул. – Мне страшно подумать, что будет с Софи в случае моего ареста. Я принял твердое решение, если все обойдется, вернуться к ней. Не видеть больше Ольгу. Никогда.
Воронцову странно было слышать, что в такую минуту Павел больше думал о своем семейном адюльтере, чем о спасении жизни, и он сказал это другу. Тот невесело рассмеялся.
– Не дай вам Бог пережить нечто подобное. Посмотрите на меня, Михаил, я взрослый человек, не тряпка. Я на семнадцать лет старше жены и на восемнадцать Ольги. – Имя возлюбленной далось ему с трудом. – Сначала это был маленький флирт. От скуки. Кто бы мог подумать, во что он превратится! Полное отсутствие собственной воли. Затмение.
Воронцов едва заметно пожал плечами. Он не понимал и не принимал подобной зависимости от женщины. Любил жену. Даже очень. Но ясный разум, твердая воля всегда должны оставаться в кулаке.
– Возьмите себя в руки, Поль, – посоветовал Михаил Семенович. – Вам ехать к государю, а вы запутались в двух баб… дамах. Что за мальчишество?
Лицо Киселева скривила страдальческая улыбка.
– Остерегайтесь ее, друг мой. Ведь когда меня не будет под рукой, она займется вами.
Санкт-Петербург.
У жертвы всегда рыльце в пушку. Нет чистых до конца перед собственной совестью. Чем беспокойнее душа тем старательнее она кутается белыми одеждами.
Но разве легче от этого палачу? Вернее, тому, кто не хотел им стать?
Никс ворочался на походной кровати, подгребая под себя кожаный матрас, набитый сеном. То натягивал на голову шинель, то сбивал ее в ком ногами. Даже запах свежей травы, всегда действовавший успокаивающе, теперь бил в ноздри и будоражил нервы.
Царь знал, что обидел Филарета. Откуда вдруг такой приказной тон? Хотел поговорить, и не вышло. Все оставил в себе. Побоялся.
Теперь крутись сам.
Зачем даются предсказания? Чтобы опустить руки? Вряд ли. Но если Бог велит России пройти через искушения, дело ли императора заграждать путь?
Или пророчества – суть предупреждения? Одумайтесь. Отступите от края. Иначе…
Мысли не давали спать. Мудрено ли, что утром у Николая был усталый вид, резкий голос и неприветливое лицо? Ангел отлетел. И если не всякий еще осознал эту истину, взмокшей шкурой прочувствует, войдя в кабинет.
Вдовствующая императрица как никто понимала сына. Видела она трех царей! Если Никс не перестанет рвать себя в клочья, увидит четвертого. Мать умела заставить уважать свое мнение и, почувствовав натянутую до звона нить между кротчайшим из владык и честнейшим из государей, пресекла непонимание в корне.
После чая выслала всех, оставив у себя в светлой белой столовой, выходившей дверями в зимний сад, только сына и митрополита.
– Что вы скажете, ваше святейшество, скоро ли произойдет слияние Церквей? – Вопрос светский. Совсем во вкусе прошлого царствования. Когда взаимного экстаза ждали со дня на день. Не дождались.
Филарет прикоснулся пальцами к золотой панагии на груди. Чуть покашлял.
– Думаю, настанет время, когда у нас просто не найдется другого выхода. Но то не будут дни радости.
Император заметно вздрогнул. Поднял на митрополита глаза. Кажется, он один только и понял.
– Вот как? Значит, вы не считаете, что Священный Союз сможет спасти мир от потрясений?
Владыка пожал плечами.
– Много было надежд на возрождение народов. Но время, в которое мы живем, – не тихое утро России, а грозный закат Европы. Впрочем, – поспешил Филарет, – продолжаться он может не одно столетие.
– И зная это, как царствовать? – Николай в упор смотрел на собеседника.
– Так же, как и не зная.
Повисла пауза. Мария Федоровна постаралась затянуть ее края, разлив чай и знаком приказав подать засахаренные фрукты.
– То, что мы видели в мятеже, – лишь первый приступ дьявола. Попустительство злу дало ему укрепиться.
Молодой император поморщился.
– В крепости сейчас около двух сотен человек. Причастных к заговору гораздо больше. Не все виноваты. Но все испуганы. Кажется, многие сами от себя не ожидали… Я не могу видеть в каждом врага. Но не могу и любить, как учат заповеди.
Филарет кивнул.
– Любить и прощать надо своих врагов. Бороться с врагами отечества. Ненавидеть врагов Христовых. К какой категории относятся ваши?
Николай опустил голову.
– К разным. Думаю, среди них не так уж много последних.
– Но есть?
Царь промолчал. Как не быть? Однако сделаться палачом…
– Короны без креста не бывает. – Митрополит с благодарностью принял из рук Марии Федоровны чашку. – Взял одно, бери другое.
Петропавловская крепость.
Не смотря на разговор с Софи Волконской, анонимные письма продолжали обнаруживаться то на ковре, то на туалетном столике. Лиц, заинтересованных в запугивании молодого императора, было достаточно. Целый город. Почтенные с виду люди, крупные сановники, дипломаты, явившиеся во дворец по делу, а также истопники, горничные, полотеры, солдаты на карауле – кто угодно. Вдруг полностью сменить ливрейных слуг или рассчитать поваров и камер-юнгфер не представлялось возможным. К вечеру людской прибой, схлынув, оставлял на паркетах Зимнего белую пену записок с доносами и обещаниями смерти.
В отличие от царя, который деланно смеялся и дергал щекой, Бенкендорф считал, что именно тут можно найти обрывки недостающих следствию нитей. Часть злых шутников действительно издевалась, не имея задней мысли. Другие угрозы явно исходили от иностранных «братьев», связанных с нашими заговорщиками. Кроме того, родственникам арестованных казалось, что, угрожая императору расправой, они облегчают участь своих непутевых кузенов и детей.
Самое неприятное предположение – на воле еще много заговорщиков, вхожих во дворец. Тайное общество куда больше, чем видится из-за допросного стола.
По здравому размышлению Александр Христофорович решил поговорить с Мишелем Орловым и в его репликах – вряд ли дружеских – поискать зацепок. Алексис сделал так, чтобы брата содержали не в самом сыром и затхлом каземате, а перевели в первый номер Кронверкской куртины, где прежде обитал Кондратий Рылеев. Камера – сухая и чистая – выходила одним окном на внутренний двор крепости, другим на Неву. Нижние стекла были замазаны краской, но при богатырском росте узника он свободно любовался перспективой.
– Ты не можешь себе представить, сколько утешения приносит печка, – приветствовал гостя Мишель. Покоритель Парижа стоял на коленях возле чугунной черной дверки и кормил огонек березовым крошевом, отламывая от поленьев кусочки коры с подсохшей древесиной.
– Рад видеть тебя в добром здравии.
– Тот, должно быть, мне здоровья не желает. – Орлов поднялся и отряхнул брюки.
– Тот помиловал тебя для брата. – Бенкендорф без приглашения взял стул и уселся рядом с печью. – Поддерживаешь порядок? Сейчас даже неясно, где спокойнее, в крепости или на улице.
– Поменяемся?
– Благодарю покорно.
Мишель посмеивался в усы и, кажется, был рад визиту.
– Твоим в Москву Алексис все написал. О жене не беспокойся. Она получит приказание ехать в деревню, куда и твою буйную голову доставят, надеюсь, не отдельно от плеч.
– Я должен поздравить тебя: одесную императора. – Орлов картинно поклонился.
– Много чести, мало толку.
– Не прибедняйся. Твоя карьера выстрелила, как ядро из пушки. Все об этом говорят.
– Ты в крепости слышишь столичные сплетни?
Оба засмеялись, и Мишель с тяжким скрипом опустился на просиженную кровать.
– Распорядись чаем.
Бенкендорф постучал в дверь и отдал приказание явившемуся надзирателю.
– Только булки здесь и хороши, остальная пища непереносима, – проворчал арестант. – Ты хотел говорить со мной? Без протоколиста?
– У меня есть несколько вопросов.
– Все, о чем меня изволит спрашивать государь, я рассказываю на дознании.
– Я читал твои протоколы, ты просто издеваешься.
– А ты думаешь, я размякну тут со старым другом и выложу правду до донышка?
Орлов продолжал посмеиваться, но взгляд его стал цепким. Александр Христофорович сделал над собой усилие. Он раздвинул указательный и средний пальцы правой руки наподобие циркуля и положил их на сгиб левой. Мишель мигом утих.
– Ты все еще помнишь?
– Мы были молоды и хотели блага.
– Я и сейчас хочу блага, – отчеканил Орлов.