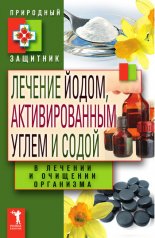Хроники разрушенного берега (сборник) Кречмар Михаил

Дело в том, что вдоль Анюя рос лес. И лес давал путнику топливо и укрытие от непогоды. Кроме того, несмотря на то что путь по реке увеличивал дорогу как минимум в полтора раза, не меньше половины его пролегало по твёрдым галечниковым косам, идти по которым было намного легче, нежели крутить ноги по кочкам.
Всё холодало и холодало.
Наконец Слепцов собрал в узел всю свою тёплую одежду, спальный мешок, максимум консервов, примерил на бок командирский ТТ и… отложил выход ещё на два дня. К тому времени самолёт казался ему совершенно обжитым, родным. В нём были еда, топливо и медикаменты. Впереди же были холод, тяжёлый путь и неизвестность.
Человек располагает, а бог предполагает. Образ бога, если так можно выразиться, для Сергея Слепцова принял пожилой чукча, который утром сидел под дверью кабины с потрёпанным винчестером на коленях. Выглянув наружу из спального мешка, Сергей охнул и сразу же посмотрел в угол, где лежал пистолет. Коллективизация на Чукотке была далеко не закончена, и тундровики совершенно не понимали, с какой радости они должны сводить воедино свои с таким трудом собранные оленьи стада и тем более отдавать их под управление самых никчёмных своих соплеменников. Кроме того, в местах концентрации зон и лагпунктов местные власти объявили аборигенам, что по одиночным людям в тундре они обязаны стрелять. За каждого убитого человека особисты давали аборигенам мешок муки и мешок сахара, тем самым отсекая зэкам путь для побега.
Иными словами, в тундре порой постреливали.
Но поглядев на безмятежное, хоть и серьёзное, лицо пастуха, Сергей застыдился. Если бы чукча захотел причинить ему вред, то он, Сергей, был бы уже давно мёртв. Он вылез из спальника.
Сразу же Сергей столкнулся с очень большой проблемой: русский язык пастуха был предельно ограничен. Они пили чай и пытались объясниться жестами. Сергей пытался показать, что самолёт сломан, сам он был нездоров, его товарищи ушли, а ему пришлось остаться. Пастух, которого звали Тевлянто (это Сергей понял), пил чай, улыбался и всё твердил: «Харасё».
В какой-то момент Сергей уловил в низине движение – стадо оленей, около тысячи голов, двигалось через тундру. Чуть поодаль от стада виднелась небольшая группа оленей и людей, возле них лежали вьюки и шкуры. Тевлянто встал и начал махать руками. От группы отделилась какая-то точка и направилась к ним. Через полчаса Сергей уже мог различить упряжку оленей, за которой тащилось какое-то диковинное сооружение – что-то вроде волокуши.
Сооружение сопровождали два молодых парня, почти мальчики.
Они остановились под склоном: видимо, не хотели рисковать оленями и волокушей среди камней.
Тевлянто снова замахал руками, пытаясь объяснить Слепцову, что ему надо взять свои вещи и идти вниз. Сергей послушался. Расставаясь с самолётом, он испытывал настоящую горечь: в течение месяца этот самолёт был его домом, и этот дом ему вряд ли суждено когда-нибудь вновь увидеть.
Через три дня молодые пастухи привезли его в аэропорт перегонного полка в посёлке Черский. Выяснилось, что все поисковые полёты проходили вдоль побережья Чукотского моря – в трёхстах километрах севернее их маршрута. Последние передачи с борта бомбардировщика были весьма неразборчивы, и потому командование и аэродромные службы пришли к выводу, что В-25 следует традиционным маршрутом.
Командир и штурман так никогда и не были найдены.
История третья. Анюйское сидение
Транспортный самолёт Г-2 с грузом американской тушёнки готовился к вылету по маршруту посёлок Уэлькаль – посёлок Сеймчан. Надо сказать, что этот транспортник – гражданская версия тяжёлого бомбардировщика ТБ-3 – изрядно устарел ещё до войны. Потому значительная часть этих машин была переделана в транспортные самолёты и задействована на значительном удалении от линии фронта – в частности, некоторая доля этих машин обслуживала трассу перегона Аляска – Сибирь. На самолётах «АлСиба» в сражающийся Советский Союз поступали также продукты питания, медикаменты и некоторые малогабаритные, но исключительно ценные виды сырья. Но упомянутый борт вёз с собой только один вид груза – тушёнку для персонала аэропорта «Сеймчан». Экипаж самолёта насчитывал три человека – командир Алексей Чепурных, бортмеханик Тельман Гусейнов и штурман Александр Кухонин. Накануне экипаж праздновал день рождения одного из приятелей и поэтому находился в слегка «перегруженном» состоянии.
Г-2, или, иначе, АНТ-6, один из крупнейших самолётов, работавших на трассе «АлСиб», на первый взгляд был хорошо приспособлен к суровым арктическим условиям. Недаром пять этих машин, специально оснащённых для арктических условий, активно использовались в первых арктических исследованиях: именно они высаживали на Северный полюс группу под руководством Папанина, один из самолётов АНТ-6 был модифицирован для рекордного перелёта Леваневского. Заметным плюсом Г-2 была его большая грузоподъёмность – около одиннадцати тонн.
Самолёт взлетел и взял курс на Сеймчан.
Через два часа после начала полёта Г-2 попал в полосу сплошной облачности.
Посовещавшись, экипаж принял решение проложить маршрут через горный хребет, вместо того чтобы облетать район облачности по северной или южной дуге.
Включение антиобледенительных приборов не привело ни к каким результатам. В довершение ко всему лёд оборвал радиоантенну, и самолёт оказался без связи с аэропортами по пути следования.
– Ближайшие площадки – Марково, Щербаково, Верхнее Пенжино и Кедон, – рассуждал командир. – До каждой не меньше пятисот километров. Марково, пожалуй, поближе, но там погода начала портиться раньше, и сейчас она уже, наверное, совсем ни к чёрту. Надо искать площадку, садиться.
Внизу торчали остроконечные горы Колымско-Анадырского водораздела, и выбрать точку, более-менее подходящую для вынужденной посадки, было весьма и весьма проблематично. Кроме того, командир Чепурных понимал, что на этой точке самолёт будет находиться как минимум два дня – пока погода не улучшится. Потому в соседстве было желательно иметь какой-нибудь участок лесной растительности. Два мотора аэроплана уже работали с перебоями, когда под крылом Г-2 показалась длинная мохнатая полоса речной поймы.
Здесь надо заметить, что в тридцатые-сороковые годы понятие «вынужденная посадка» отнюдь не являлось синонимом слова «катастрофа». Самолёты зимой были снабжены лыжами, посадочной полосой для них служило любое большое озеро или отрезок речного русла. В случае обнаружения какой-нибудь неполадки, мелкой поломки или просто сплошного фронта непогоды самолёты садились прямо по маршруту следования и их экипажи тем или иным способом улаживали неприятности. Очень подробно об этом написано в замечательном романе Вениамина Каверина «Два капитана». Так что командир Чепурных дважды прошёл над руслом реки, вдоль которого тянулась длинная лента пойменной тайги, оценил направление ветра, состояние снегового покрова, и через пять минут Г-2 загрохотал лыжами по твёрдым застругам.
На этот раз вынужденная посадка обернулась серьёзными неприятностями. Под снежным покровом притаилось несколько крупных валунов, одна из стоек шасси самолёта подломилась, машина развернулась, рухнула набок, вспахивая снег концом одной из плоскостей, да так и застыла.
Экипаж с руганью посыпался в снег.
– Да, залипли мы тут, – высказался по сути дела Чепурных. – И ведь хрен кто найдёт нас тута – только случайно. Последний раз с землёй связывались, когда Марково пролетали.
– Щас-то мы где? – резонно спросил Гусейнов.
– Как где? – изумился Чепурных. – Я же сказал – в двух часах от Марково.
– Хорошо хоть, тушёнку везём, – встрял рассудительный Кухонин. – С голоду не сдохнем.
– Или сдохнем, но не сразу, – изобразил не свойственный ему пессимизм Чепурных.
– Или нас расстреляют за хищение социалистической собственности в военное время, – заметил осторожный Гусейнов.
– Для того чтобы потом расстреляли, надо сперва выжить, – логично заметил Кухонин.
– Мы здесь что – дохнуть собрались? – изумился Чепурных.
– А что, нет? – спросил Гусейнов.
И все трое захохотали.
На первый взгляд ситуация к веселью совершенно не располагала. Их было трое в полутысяче километров от ближайшего населённого пункта, в районе, не посещаемом оленеводами, и далеко-далеко от точки последней связи. В их активе были: две тысячи килограммов свиной тушёнки, несколько больших полотен брезента, два примуса, спальные мешки, два пистолета ТТ, старая винтовка «Маннлихер» времён Первой мировой войны и к ней тридцать патронов, две тонны авиационного бензина и всякая мелкая всячина, которая со временем поселяется в любом крупном транспортном средстве, – от кружек и ложек до тайных заначек чая и сахара.
Всё тщательно выскребалось из углов, раскладывалось на полу кабины и переписывалось рассудительным Кухониным. Который оказался ещё и хозяйственным к тому же.
– Надолго нам тут хватит? – спросил Чепурных.
– Если только мяса – в банках, конечно, – то на три года, – удовлетворённо ответил Кухонин. – С цукером хуже – не больше чем на месяц. С чаем совсем худо.
– Вместо чая можно какие-нибудь цветы заваривать, – мрачно сообщил Гусейнов.
– Цветы? Где ты видишь здесь цветы? – оторопело переспросил Чепурных.
Все не сговариваясь огляделись.
– Наглядный плакат из серии «О вреде суеверий», – сказал Чепурных, и все снова захохотали.
Вокруг расстилалась снежная равнина, и только вдалеке на высоком берегу в вихрях пурги маячили чёрные ободранные деревья. Это был единственный островок жизни в радиусе человеческого взгляда из самолёта.
– Тьфу ты, чёрт, – посерьёзнел Чепурных. – Но мы, похоже, здесь всерьёз и надолго…
– Всё, что мы знаем, – проговаривал он собравшимся у горящего примуса товарищам через полтора часа после того, как фюзеляж самолёта был приведён в относительно пригодное для жилья состояние, – это то, что мы рухнули в бассейн какой-то речки, впадающей в Колыму. В устье Колымы стоит посёлок Черский, там находится один из наших аэродромов. Если идти по этой речке вниз – и так до Колымы, то потом по Колыме и до Черского дойдём.
– Вряд ли мы до него дойдём, – хмыкнул рассудительный Кухонин. – До него тыщи две километров. Ни по снегу, ни без снега мы такого пути не осилим.
– По снегу не осилим, – согласился Чепурных. – По реке – запросто. Дождёмся весны, свяжем плот и сплавимся хоть до океана.
– До океана… Хммм… – задумался Кухонин. – А ты твёрдо уверен, что мы в Колымском бассейне упали?
– Мммм, – задумался Чепурных. – Да… Наверное…
Он вытащил карту с большим количеством белых пятен. Направления рек и отдельные вершины на ней обозначались пунктирами и точками.
Сомнения Кухонина имели под собой глубокую почву.
Сегодня для нас это удивительно, но в начале сороковых годов значительная часть советского Севера ещё не была покрыта топографической съёмкой, и неисследованные территории на картах выпуска ВГУ – Высшего геодезического управления – обозначались самыми что ни на есть настоящими «белыми пятнами». Подавляющая часть направлений рек была указана верно, но в местах, где сходились несколько бассейнов, ошибки бывали неизбежны. Собственно, в таком месте они и оказались.
– И что, если мы где-то в верховьях Баранихи или Угаткына? – вступил в разговор Гусейнов как самый младший.
– Ну что… всё то же. Ждём весны, плывём до окияна, а там двигаемся берегом на восток. На побережье полно народу. Как на Невском, – подчеркнул Чепурных своё ленинградское происхождение. – Там Чаун, Певек, Шмидт, Ванкарем… Впрочем, мы всё-таки на каком-то притоке Колымы.
– Это почему?
– Я верховья Угаткына хорошо знаю, – снова заговорил Кухонин. – Мы точно не там. Я год назад куропачил[1] там с Алиевым дня три. Это не Угаткын. Посмотри на деревья.
– Ну. И что? – пожал плечами Чепурных.
– Это лиственница. Ты на Чукотке лиственницу видал?
– Видал, – быстро сказал Чепурных, – возле Маркова. Там её совсем немного, но есть. И на Ерополе.
– Ага. Но что Анадырь, что Еропол текут на восток. А здесь река течёт на запад. Или на юго-запад.
Чепурных встал, взял компас и вышел наружу.
– Метёт чёрт-те как, ничего не видно, – вернулся он, отряхиваясь. – Но, похоже, не на юго-запад, а точно на запад. Значит – Колыма. Значит, плыть нам до Черского по весне.
– На чём поплывём-то? – пожал плечами Гусейнов.
– Нам бы дожить до весны. А там найдём, на чём, – сказал оптимистичный Чепурных. В конце концов, зима заканчивалась, в самолёте лежало две тонны тушёнки, они все были крепки, здоровы, и на троих им было меньше семидесяти пяти лет…
Началась длительная весновка.
Надо сказать, что все три члена экипажа с энтузиазмом брались за любую работу по обустройству их временного лагеря. В трёхстах метрах под деревьями они обустроили стационарный бивак, на который постепенно перетащили постели, кухню, большинство необходимого снаряжения и запас продуктов. Ели преимущественно тушёнку, однако как-то раз вышедший прогуляться буквально на полкилометра Кухонин завалил случайно оказавшуюся рядом самку лося. Тушёнка была немедленно забыта, бульон заменил чай, и только вечерами, сидя у ярко горящего очага, Чепурных с Кухониным поминали бедному Гусейнову его «чай из цветов».
Собственно, именно из-за возможности отогреваться у открытого огня лётчики и перебрались из фюзеляжа самолёта в импровизированное убежище из брезента, засыпанное по краям снегом. Стоит заметить, что оно, как и многие (не сказать чтобы большинство, но многие) импровизации, оказалось весьма удачным. Сперва экипаж заготовил три десятка длинных лиственничных жердей метров в пять-семь длиной. Жерди связали у вершин и поставили шалашиком, как это видели у речных анадырских юкагиров. Этот шалаш накрыли брезентом, оставив на самом верху отверстие-дымоход, а края засыпали снегом, так что из сугроба торчало от силы полтора метра кровли с постоянно курящейся вершинкой. Снег создавал теплоизоляцию, и в этом странном «вигваме» временами оказывалось вполне уютно.
Валежника кругом было с избытком, и в центре хижины не угасал огонь.
Внимательно рассмотрев потерпевший крушение аэроплан, Кухонин решил, что некоторую часть его конструкции можно использовать для строительства плавсредства. А именно баки, находившиеся в плоскостях. Под его руководством Чепурных и Гусейнов размонтировали крылья, извлекли оттуда ёмкости для горючего, слили весь запас топлива в один бак и с помощью верёвок, проволоки и тех же лиственничных жердей, которые годились здесь абсолютно на всё, собрали весьма вместительный плот. Плот этот они втащили на крутую кромку берега рядом со своим «чумом».
– Чтобы как только вода пойдёт, сразу прыгнуть на него – и ходу! – резюмировал неунывающий Чепурных.
Неленивый Кухонин заготовил для управления плотом три здоровенных шеста и три весла чуть меньших размеров. Никто из них раньше никогда ни на чём не сплавлялся и если и наблюдал за сплавом со стороны – то только в кино, в кадрах кинохроники. Естественно, из киношных воспоминаний никто ничего путного не вынес. Поэтому и шесты, и вёсла Кухонин заготовил, только исходя из умозрительной теории процесса. Шесты и вёсла он уложил сверху на брезент, чтобы они прижимали его плотнее к жердям каркаса.
Шло время, и экипаж постепенно начала одолевать леность. На самом деле они оказались в условиях с избытком пищи и топлива, температура за пределами их обиталища с начала марта не падала ниже минус тридцати, усилия, необходимые для жизнеобеспечения, были минимальными. Конечно, лётчики продолжали тревожиться за родных – почти наверняка их уже списали как пропавших без вести, – но с этим уже было ничего не поделать.
Снег начал потихоньку проседать и наполняться водой. На речной косе напротив, там, где сиротливо завалился набок их незадачливый небесный тихоход, стали появляться проталины. Ещё немного – и по ним запрыгали бело-чёрные арктические воробьи – пуночки. Начинался весенний пролёт птиц.
Лётчики экипажа настолько привыкли к тому, что в любой момент можно сходить к самолёту, лежащему напротив, что в какой-то момент не поверили своим глазам, увидав, как натоптанная стёжка, пересекавшая русло реки, наполнилась тёмно-синей водой. Теперь прогуляться к фюзеляжу можно было только рано-рано поутру, когда верхний слой снега смерзался в прочнейший наст – такой, какой выдерживал вес одного человека без лыж.
Конечно, экипаж понимал, что лежащий на косе самолёт обречён. И тем не менее все они в последний раз перешли на другой берег, тщательно осмотрели фюзеляж, то, что осталось от плоскостей, и перенесли на свою сторону максимальное количество самых разнообразных вещей (а то и просто длинных металлических деталей). С самолёта сняли все таблички с номерами и опознавательными знаками. Теперь покинутый фюзеляж лежал на серой, уже почти полностью оттаявшей галечниковой косе, как гигантская доисторическая рыбина-амфибия, выползшая из какого-то тайного убежища в горах, да так и подохшая на берегу реки, не добравшись до вольготного полноводья океана.
Весна, как это обычно бывает на Севере, наступала стремительно.
В какой-то момент перестал держать наст, сугробы размокли, как рулоны туалетной бумаги, внезапно напитавшиеся водой, каждый шаг по снегу стоил изрядных усилий. Изменилась погода. Вместо палящего весеннего солнца на небе повисла низкая серо-коричневая тёплая хмарь. Временами из неё начинал валить мокрый крупный снег, который тут же таял на земле и становился незаметен на поверхности сугробов. Иногда из-за этого влажного ватного облачного покрывала доносился звон пролетающих гусиных стай.
Река тоже менялась. Сперва снег на русле напитался водой и приобрёл странный бело-голубой оттенок, похожий на тот, который образуется, когда в известь чуть-чуть добавляют синьку. Все следы в этом снегу мгновенно заполнялись водой, которая почему-то по контрасту казалась чёрной, поэтому и цепочки следов лётчиков, и лосиные стёжки, и просто ямы под берегом выглядели, как жирные чернильные точки.
Выше и ниже лагеря на реке появились промоины. Утром и вечером на них садились и взлетали маленькие стаи крохалей.
– Нет пролёта, – качал головой Гусейнов, поднимая взгляд к небу, откуда на его лицо опускались разлапистые, словно пауки, снежинки.
– Есть пролёт, – говорил рассудительный Кухонин, живший на Севере уже почти восемь лет. – Только он за облаками, мы птицу и не видим. А садиться ей здесь некуда: кормовых мест мало.
– А чего же в Уэлькале весной утки прямо миллионы прут?
– Наверное, там ей гнездиться есть где, – рассеянно отвечал Кухонин. Он уже в триста который раз проверял вязку плота и добавлял в его конструкцию какие-то ведомые только ему усовершенствования.
Тем временем снег на реке словно растворился, и лёд подвсплыл по всему руслу. Был он серый, ноздреватый, в фурункулах и воронках, как кожа кита, выброшенного на берег, – такого они видели в Уэлькале.
А ещё природа вокруг задышала.
Нет, это не значит, что в феврале и марте они жили внутри кольца абсолютной тишины, – время от времени то трескалась ветка в лесу, то вихрем пролетала стая зимующих чечёток, то со вздохом оседал край сугроба. Но в конце апреля – начале мая звуки издавало буквально всё. Шуршали сбрасывающие с себя снежный покров ветви кедрового стланика, потрескивали расправляющиеся ветви деревьев, вздыхал и трескался под напором прибывающей воды лёд.
И, конечно, кругом говорила вода…
Она журчала, стекая с крутых берегов на серый речной лёд, ручейками тянулась под угрюмыми покосившимися шапками сугробов, протекала в глубь толщи льда, и тонкие иголки льдинок внутри этой толщи звенели, как камертоны.
Это была весна.
И в какой-то день уставшие уже от бездействия мужчины увидели, как лёд оторвался от берегов и двинулся вниз по реке.
Вода поднималась, и караван шуршащих и трущихся о берега льдин подходил всё ближе к их «вигваму». Отдельные ледяные поля, ударяясь о берег, выворачивали кубометры грунта, словно ковши экскаватора. Другие перемалывали упавшие поперёк русла деревья, как кусты под напором бульдозера.
– Ещё два дня такого подъёма – и нас вместе с чумом смолотит, как на мельнице, – горевал Гусейнов.
Но ледоход длился всего сутки – лагерь потерпевшего бедствие экипажа стоял в самых верховьях реки, и большому количеству льда здесь просто неоткуда было взяться. Но лёд прошёл, а уровень воды всё лез и лез вверх. Река вспучивалась на глазах и из тонкого чёрного спокойного канала превратилась в бурый вспененный, изуродованный водоворотами поток.
– И что, нам по нему плыть? – с неодобрением посмотрел на воду командир Чепурных на следующий день после того, как последняя льдина ушла за поворот.
– Наверное, не сегодня, – усмехнулся Кухонин. – На хрена мы здесь два месяца сидели? Чтоб утопнуть под ближайшей корягой? Плот наш хоть и здоровый, но, думаю, маневренности у него не больше, чем у мясницкой колоды.
– Зато быстро долетим, – хмыкнул Гусейнов. – В отряде нас уже небось давно похоронили.
– Ну вот и не хрен оправдывать их ожидания, – обрубил Чепурных. – Начнёт вода падать – мы и двинемся. Кроме того, слышал я про здешние реки. Здесь ледоход с верховий начинается. Среднее течение нашей речки ещё стоит небось. А на Колыме, куда нам, собственно говоря, и надо, вообще зима зимущая.
Вода продолжала подниматься. Причём делала она это настолько стремительно, что экипаж даже установил вахты. Лётчики напряжённо следили за тем, в какое время пенная кромка воды сглатывала расставленные вешки.
– Эдак нам хошь – не хошь на плот перебираться придётся, – хмыкнул Чепурных.
Надо сказать, что с наступлением оттепели и более того – устойчивого тепла проблем у потерпевшего крушение экипажа прибавилось. В пору умеренных морозов и устойчивого антициклона их врагом выступал преимущественно холод в чистом, так сказать, виде. Основным окружавшим их веществом был чистый сухой и умеренно рыхлый снег. Снег этот практически не прилипал к одежде, легко стряхивался, а если и таял, то смачивал только поверхность. Но как только снег начал таять, он стал промачивать одежду и обувь буквально «до тела» в считанные минуты работы на улице. Сушка же промокших вещей также стала занимать значительно больше времени: если при морозах сырой от пота полушубок можно было просто повесить на улице дня на два, чтобы влага вымерзла из ткани, то сейчас приходилось круглосуточно палить костёр в чуме. Дрова таяли на глазах.
– Скоро ещё комары полетят, – «радовался» оптимистичный Чепурных.
– Не, до комаров мы отсюда точно смоемся, – возражал рассудительный Кухонин. – Или нас смоет.
И глядел под берег, в несущуюся мутную воду.
Паводок не достал до чума буквально сантиметров сорок. Зато он развернул фюзеляж самолёта аккурат вниз по течению, так что могло показаться, будто рыбина-гигант пытается совершить бросок к недосягаемому для неё морю.
Но раньше бросок к морю решили совершить лётчики.
Шла вторая неделя половодья, и Чепурных практически уверился в том, что путь до Черского уже свободен. Как бы то ни было, начиналось лето.
Горячий Гусейнов всё пытался ускорить отплытие, утверждая, что после появления в аэропорту их расстреляют как дезертиров. Чепурных и Кухонин настаивали на задержке, утверждая, что на Севере выживают только те, кто действует медленно и наверняка. Логические рассуждения действовали на азербайджанца с трудом, зато он легко поддавался простому запугиванию и предпочитал верить на слово, что лучше пожить до расстрела ещё полтора месяца, нежели сразу сгинуть на ближайшем повороте, нырнув под корчи.
Наконец, когда на ивах начали распускаться первые листья, экипаж стащил на воду свой нынешний «самолёт». Площадь плота была около двадцати квадратных метров, его основу составляли два связанных поплавка-бензобака. Поверх них красовалась платформа, связанная из лиственничных жердей, с натянутым поверх неё брезентом. На платформе лежали завёрнутые в другой кусок брезента спальные принадлежности и полушубки, а также несколько ящиков с тушёнкой, инструментами и снаряжением.
Это напоминало всё что угодно, только не плавательное средство.
Лётчики взошли на его настил и оттолкнулись от берега. Наполовину затопленный фюзеляж самолёта смотрел им вслед, пока странное чудище, состоящее из частей его тела и души, не скрылось за поворотом…
Очень быстро экипаж понял, что, во-первых, плот на реке практически не управляется кормовым веслом и требует постоянной гребли с обоих бортов, во-вторых, причаливает он (а точнее – вылезает на берег) в соответствии со своим настроением и по собственному разумению.
Река в паводок «тянула» плот с большим энтузиазмом – со скоростью пять-восемь километров в час, так что Чепурных и Кухонин еле-еле успевали отталкиваться от берегов, мелей и коряг. Гусейнов же сидел посреди плота и потихоньку причитал, прощаясь с жизнью. После первого причаливания он схватил в охапку личные вещи и со скоростью обезьяны, преследуемой тигром, вылетел на самую высокую точку берега, откуда с обиженным видом наблюдал за дальнейшей разгрузкой.
На каждой стоянке экипаж устанавливал брезентовый тент, разводил костёр, сушился, готовил пишу, немного отдыхал, затем грузился и плыл дальше. Через переход незадачливые «сплавщики» поняли, что самое выгодное время для движения – с трёх часов утра до полудня – когда снег в горах перестаёт таять, подъём воды прекращается и течение замедляется.
Сплав на плоту в условиях паводка требовал от лётчиков такой же собранности и внимательности, как и при полёте над неизвестной местностью и в сложных погодных условиях.
Река становилась всё шире и шире. Наконец перед ними распахнулось широкое водное пространство: это Колыма катила свои воды в Северный Ледовитый океан…
Меньше чем через сутки после выхода в Колыму странный плот с тремя заросшими, предельно грязными и столь же счастливыми персонами прибился к пристани посёлка Черский.
В части экипаж встретили как героев, причём давно и глубоко похороненных.
Бортмеханик Гусейнов пытался рассказывать, как они хорошо жили после авиакатастрофы, много ели и ничего не делали. По молчаливому согласию оставшегося экипажа и командования части его быстренько отправили на фронт.
Покинутый самолёт больше никто никогда не видел – видимо, он был размолот на куски несколькими последовательными ледоходами и паводками.
История четвёртая. Пожар в избушке
Начинался ноябрь – самый, наверное, мрачный месяц всего изобретённого человечеством календаря. С его постоянно укорачивающимся днём, длинными утренними и вечерними сумерками, короткими пасмурными днями. А может, и не пасмурными, просто небо над тайгой в Приполярье кажется в этом месяце серым и низким, даже если на нём не висит ни облачка. А в пасмурную погоду оно буквально садится на макушку, придавливая к земле затерянного в природе человека. Холод, сумрак, снег…
Именно в начале ноября и начали свой промысловый сезон в верховьях реки Чёломджи промысловик Виталий Рюмин со своим напарником Сергеем Бабцевым.
Самолёт Ан-2 выбросил их вместе с нехитрым скарбом на речную косу, несколько минут постоял, работая двигателем, а затем развернулся, разогнался, смешно подпрыгивая, по пологому берегу и улетел в сумерки набегающего заката.
Наверное, обычай смотреть вслед уходящему судну или улетающему самолёту – это некий обряд, который если и исчезнет, то только вместе с последним представителем мыслящих существ во Вселенной. По крайней мере, оба охотника не двигались с места, пока силуэт биплана не растворился в быстро темнеющем горизонте.
Спешить и впрямь смысла не было. Вместе с охотниками прилетело всего около трёхсот килограммов продуктов и снаряжения – по мешку муки, консервов и сахара, увесистый тючок с инструментами, спальные мешки, оружие, полсотни капканов, пила «Дружба», полбочки бензина…
Избушка находилась в полукилометре от берега, к ней через захламлённый лес вела извилистая тоненькая тропа. Тропа эта, проложенная в обход упавших колод и выворотней, функционировала от силы месяц в году – до глубокого снега. Настоящая, «рабочая», тропа, по которой носили воду в избушку, таскали дрова и выносили мусор, была ровно в шесть раз короче и выходила на берег ближайшего притока реки – Дигдикана. Здесь на ручье находилась глубокая не замерзающая зимой яма, которая и снабжала обитателей избушки водой весь промысловый сезон. Эта же тропа служила и началом основного промыслового путика.
Нагруженные скарбом мужчины медленно отправились через высокоствольную захламлённую пойменную тайгу – урёму.
Триста килограммов вещей они вдвоём перетащили к избе за три ходки, а полбочки бензина вкатили на высокий речной берег.
Затем сняли с окон тяжёлые деревянные ставни, утыканные гвоздями (так защищают в тайге окна избушек от проникновения медведя), вынули засов из двери и растопили изготовленную из половины железной бочки могучую зимовочную печку. Затем Рюмин достал из лабаза матрасы, посуду и мешок с капканами и начал готовиться к промыслу.
Виталий Рюмин промышлял в тайге соболя больше пятнадцати лет и, хотя по меркам старожилов, имевших за спиной тридцать и более сезонов, считался «зелёным», всё равно был уже опытным охотником. Этот участок он получил от госпромхоза четыре года назад и уже покрыл сеткой троп с установленными на них капканами – так называемых путиков. С этих капканов он ежегодно снимал от тридцати до семидесяти соболей, половину которых сдавал в контору, а остальных продавал перекупщику за вчетверо большие деньги, нежели государству.
Кроме того, ежегодно Рюмин брал на участке пять-шесть сохатых и, по традиции, ловил в петлю медведя. Мясо лосей тоже шло на сдачу в госпромхоз, а медведя Рюмин убивал просто так – чтобы не зазнавался. Считалось, что каждый добытый на участке медведь хоть как-то снижает вероятность разорения избушки.
Медведей в этих краях не любили.
Кроме капканов, в промысле Рюмин употреблял малокалиберную винтовку ТОЗ-16 и карабин калибра 8,2. Но основным его оружием была всё же мелкашка.
Сергей Бабцев был молодым стажёром, которого Рюмину подсунул замдиректора госпромхоза. Замдиректора был якут, и Серёга Бабцев тоже был якут. Направляя Серёгу в напарники-подмастерья, замдиректора упирал на то, что Бабцев по сути таёжный человек, потомственный охотник и уже пару раз бывал на промысле.
Виталий вовсе не был в восторге от навязанного ему компаньона. Он не без оснований предполагал, что Бабцев приставлен от начальства госпромхоза следить за его промыслом, и если оное начальство сочтёт, что Рюмин утаивает от него слишком большую долю добычи, то участок перейдёт к другому хозяину. Возможно, к тому же Серёге. Который будет отдавать «лишних» соболей не перекупщику Ильхану Хаджиеву, а тому же замдиректора, и не за вчетверо, а лишь за втрое большую цену, нежели они доставались родному государству.
«Ладно, война план покажет, – подумал про себя Рюмин, осматривая невысокого сухощавого паренька. – Глядишь, припрёт тебя в тайге без радио и девок – сам сбежишь».
Радио и девок Рюмин полагал неотъемлемой частью «молодого» образа жизни. И, по сути, не очень в этом ошибался.
Сразу по прилёте Виталий занялся обустройством капканных путиков, оставив всё хозяйство на напарника.
Вести хозяйство на зимнем промысле – дело, в общем-то, нехитрое, но занудное. Его суть в высоких широтах может характеризоваться двумя словами – борьба с холодом. Нет, конечно, сюда входит и запасание воды, и поддержание проруби в нормальном состоянии, и готовка пищи… Но больше всего времени и энергии у человека забирает заготовка дров.
Потому Рюмин вручил молодому человеку бензопилу и объяснил, какие деревья в радиусе полукилометра от базы можно свалить, а какие трогать не стоит. Это разъяснение было абсолютно необходимым, потому что Рюмин, несмотря на козни начальства, намеревался охотиться на своём участке ещё минимум лет пять, и ему вовсе не хотелось иметь вокруг избы вырубленную пустыню. Потому деревья на дрова он валил с большим разбором – одну на пять-семь лесин. Кроме того, в некоторых случаях он щадил даже сухостой: например, рядом с избой торчала сухая дуплистая лиственница, где каждую весну селился дятел-желна. И эту колоду Виталий не собирался пилить ни в коем случае.
Вокруг избы лежало достаточное количество ветровальных деревьев, и именно с них Рюмин порекомендовал Бабцеву начать трудовую деятельность.
Сказал, взял за плечи мешок с капканами, мелкашку, котомку с парой банок тушёнки и буханкой хлеба и ушёл обустраивать путики и ставить капканы.
По возвращении Виталий понял, что в напарнике он ошибался. Сергей Бабцев превзошёл худшие его ожидания.
Может, он и выезжал когда-то с родственниками на промысел, но, похоже, на этом промысле ему даже кашу варить не доверяли. Все наличные пилы – и даже бензопила «Дружба» – оказались «задавлены» в кряжах разной степени мощности, и Рюмину пришлось потратить полтора дня, чтобы высвободить их из цепких древесных объятий. Изба оказалась изрядно загажена, мусор напарник предпочитал выбрасывать сразу за углом, а не выносить на пятьдесят метров в сторону, посуду не мыл, а естественную нужду справлял сразу за домиком. Рюмин сгоряча наорал на него, но про себя поставил на «молодом» крест. По здравому размышлению он даже решил, что нет худа без добра: такой охламон вряд ли разберётся в хитросплетениях промысловой жизни, и Рюмину не составит труда убедить его, что сам он еле-еле сводит концы с концами.
Жизнь, однако, собиралась преподать Рюмину урок. Только он этого пока не ведал.
Так, с переменным успехом в борьбе с природой и компаньоном, прошли три самые важные промысловые недели. Все путики были расчищены от нападавшего на них за лето валежника, старые капканы расставлены и насторожены, изготовлены стационарные площадки для новых ловушек. Рюмин с нетерпением уже ждал снега, чтобы начать лов соболя «под след».
Но раньше снега, как это обычно и бывает, пришёл мороз.
Это был настоящий мороз, не чета лёгким осенним двадцати или даже тридцати градусам ниже нуля. Сквозь атмосферу сюда достал настоящий космический холод. Именно он, наряду с летними комарами, и делает эти места абсолютно непригодными для долговременного проживания белого человека. И холод вцепился в этот край света своими когтями до самого марта. Щёлкнули, почти мгновенно замёрзнув, крупные озёра и большая река. Застонала почва, которую принялись корёжить и пучить грунтовые воды. Заскрипели и затрещали деревья.
А через три дня после прихода холодов Сергей Бабцев сжёг избу.
Как это происходило, Виталий не видал: он был на промысле. Возвратившись же, он застал ещё тёплое пожарище и дрожащего возле него Серёгу.
Со слов Бабцева, дело происходило так: он решил развести горючее маслом. Бензин отказывался растворять автол при такой температуре, и парень ничтоже сумняшеся решил канистру с топливом нагреть. Поставил ёмкость на печь, а сам вышел на улицу рубить дрова. Про свою рациональную придумку он, как водится, забыл через пять секунд. И вспомнил только, когда через три минуты изба превратилась в пылающий костёр. Спасти что-либо из избы не представлялось возможным, потому что запасливый Рюмин держал под нарами два ящика патронов, и изба трещала выстрелами, пока не сгорела дотла.
Сперва Рюмин сгоряча собирался надавать своему напарнику подзатыльников, но, поглядев на несчастного парня, понял, что никакими побоями делу не поможешь.
А ситуация складывалась очень и очень серьёзная.
Участок Рюмина располагался на самой окраине госпромхозовских угодий, и расстояние до ближайшего соседа составляло восемьдесят километров. Примерно столько же, если не больше, было до одного из ответвлений Колымской трассы. Однако путь до соседа-охотника пролегал по захламлённой густой тайге. А в самом начале зимы каждая яма, каждое понижение в почве могли скрывать главного врага человека в зимнем лесу – подснежную воду, выдавленную морозом из-под земли. Конечно, значительную часть пути можно было пройти по самой Чёломдже, да вот только быстрая Чёломджа в конце ноября ещё не совсем замёрзла, и покрывающий её лёд был неравномерен и некрепок. Потому движение по реке было чревато неоправданным риском. Дорога же до трассы лежала вдоль самого Дигдикана, и если протолкаться через полтора километра низинной тайги, то путник выходил на длинную ровную лесотундру, тянущуюся до самых предгорий. Кроме того, сама речка замерзала раньше и прочнее, чем главная водная артерия этих мест. В сторону трассы вёл невысокий перевал, который даже не очень подготовленный человек преодолевал за полдня.
С перевала уже открывалась трасса, и хотя до неё идти было больше пятнадцати километров, всё-таки в виду какой-никакой обитаемой земли у человека сил в ногах само собой прибавляется.
Это всё передумал Рюмин за полчаса, пока пил сваренный на пепелище избушки чай. Но основной его мыслью оставалось пустить в дорогу многократно проштрафившегося Серёгу Бабцева, а самому остаться в тайге и продолжить промысел.
Идея эта была не настолько безумной, как может показаться на первый взгляд.
Рюмин, как и большинство бывалых таёжников, изрядное количество различного снаряжения держал не в избушке, а в специально построенном для такого случая лабазе.
О, я вам сейчас расскажу, что такое настоящий промысловый лабаз!
Промысловый лабаз – это поднятый на высоту пятишести метров над землёй сруб под крышей довольно значительных размеров, установленный на двух-трёх стоящих рядом деревьях. Выбранные деревья отпиливаются на значительной высоте – это делается для того, чтобы ветер, раскачивая их кроны, не развалил всю жёстко сколоченную конструкцию. Затем стволы схватываются между собой прочной рамой, и на неё уже крепится платформа пола. После сооружения платформы наверх поднимаются брёвна – на четыре-пять полноценных венца. Эти венцы в конце концов прикрываются крышей – двускатной или односкатной, это уж у кого на что хватает терпения и времени. Вообще-то двускатные крыши преобладают, потому что они устойчивее к ветру – а именно ветер, а не медведь или росомаха, является основным врагом этого поднятого над лесом склада-гнезда.
Попасть на лабаз можно только по лестнице, которую каждый раз после использования склада хозяева отставляют далеко в сторону. Потому что даже забравшаяся на три минуты наверх роска[2] может произвести в хозяйстве промысловика огромное опустошение.
Надо сказать, что кондиции лабаза напрямую зависят от трудолюбия строившего его человека. Самые могучие могут служить человеку убежищами во время непредвиденных ситуаций вроде случившейся. Человек может стоять в них в полный рост, а пол плотно проконопачен, чтобы снизу не сквозило холодом.
Самыми примитивными были лабазы бродячих эвенов – просто настилы из жердей, устроенные вокруг одного-двух деревьев, и скарб на них хранился под открытым небом – просто прикрытый брезентом.
Лабаз Виталия Рюмина был среднего качества – высок и обширен, но жить в нём было нельзя. Зимой-то – уж точно.
Итак, похлебав горячего чая, Виталий залез на лабаз и прикинул размеры хранящегося там богатства.
Мешки с мукой, сахаром, консервами, ящиками макарон, матрасы, некоторое количество запасной одежды, инструменты и лыжи были на месте.
Когда Виталий спускался с лабаза, его лицо было нарочито удручённым.
– Ну что, паря, надо валить отсюда.
– На избу к Богданову? – вяло отреагировал горе-напарник. – Не дойдём, там наледи…
– Думаю, надо к трассе идти, – сказал Виталий и в течение десяти минут излагал резоны.
Мальчишка просто кивал головой, видимо, ничего не соображая.
– Ладно, хрен ли сопли разводить, – разозлился Рюмин и начал готовиться к переходу.
Он сгрёб с лабаза два овчинных полушубка, которыми обычно не пользовался на промысле вследствие их громоздкости, десяток банок мясных консервов, двухкилограммовый мешочек сахара.
– Надо поторапливаться, пока снег не лёг.
– Чего? Сейчас? – с ужасом всхлипнул Бабцев.
– Ну да, сейчас. Под любым выворотнем нам будет так же удобно, как и тут, на угольках, – сказал Рюмин, вывернул из пожарища печку так, чтобы она торчала трубой вверх, заткнул в рюкзак топор и двинулся в путь.
Ночевали они уже на границе лесотундры, преодолев, по мнению Виталия, самый «гнилой» участок пути – тайгу. Теперь им предстояло идти вверх и вверх по плотному удутому снегу.
Горы Северо-Востока выглядят на первый взгляд (особенно когда покрыты снегом) довольно устрашающе. Но впечатление это обманчиво. По большей части это даже не горы, а высокие холмы с пологими склонами и каменистыми вершинами. Труднопроходимыми их обычно делают не рельеф, а заросли кустарниковой кедровой сосны – стланика, растущие так густо, что иногда даже опытный ходок может передвигаться по ним со скоростью всего полкилометра в час.
Однако в большинстве случаев долины ручьёв дают возможность пройти заросли кедрача насквозь. Именно таким путём и двигались сейчас Рюмин и незадачливый стажёр Бабцев. Вторая ночёвка у них пришлась на плечо сопки, по которому много лет назад пронёсся пожар. Обгорелые стволы стланика валялись повсюду, словно гигантские серые кораллы или одеревеневшие щупальца осьминогов.
– Здесь остановимся, – сказал Рюмин, опуская свои пожитки на чуть присыпанный снегом ягельник.
Бабцев очумело вертел головой. Вокруг не наблюдалось ни укрытия, ни даже бугорка, который бы защитил их от ветра. Только и было, что гладкая, как коленка, вершина с разбросанными на ней останками кустов-деревьев.
– Шансов на пургу немного, – снизошёл до объяснений Рюмин. – Зато здесь дров сколько угодно, палить всю ночь можно. От стланика огонь самый жаркий. Давай таскай ветки. И помни: дров мало не бывает!
Уже совсем смерклось, когда на вершине «лысины» заплескалось двухметровое полотнище костра. Усталый Бабцев свернулся калачиком на куске брезента с подветренной стороны, а Рюмин остался дежурить, следить за огнём.
«И чего мы за эти шкурки проклятые такой крест принимаем? – думал он, глядя на пламя. – Чтобы проклятые бабы друг перед другом в кинотеатрах шубами и шапками хвастались?»
Прикорнул он перед самым рассветом и проснулся, едва серый сумрак лизнул вершины сопок.
– Просыпайся, паря, идти пора!
Идти по чуть присыпанным снегом валунам в долине ручья было весьма и весьма непросто. Рубчатые подошвы обрезиненных валенок оставляли на камнях нашлёпки из снега. Рюмин опирался на вырубленную ещё на террасе лиственничную палку и заставил пользоваться такой же незадачливого Бабцева.
– Палка жизни в горах очень помогает. Это третья нога у тебя, однако! Смотри, ставишь её между камнями и, как чувствуешь, что упёрлась, переносишь на неё весь вес тела.
Постепенно снег становился глубже и глубже, но при этом плотнее и плотнее. Наконец они вышли на самую седловину.
– Вот она, трасса, – Рюмин устало махнул рукой на север. – Вниз – не вверх, хоть боком катись. Иди до дороги, лови попутку, сообщи в госпромхоз, что у меня случилось. А я обратно двинул, мне соболевать надо.
Лицо Бабцева исказилось от изумления. Такого поворота он совершенно не ждал. И не столько потому, что сочувствовал Рюмину, которому сейчас в чёрт-те каких условиях придётся выполнять госпромхозовский план, сколько потому, что ему приходилось оставшуюся часть пути преодолевать самостоятельно. Честно сказать, и сам Рюмин не раз думал, не оставить ли ему незадачливого помощника у себя, ибо, как известно, «в природе есть масса вещей, невозможных для одного человека, но практически незаметных для двоих». Но уж слишком незадачлив был его нынешний компаньон, и Рюмин чувствовал себя гораздо увереннее, отправляя этого парня по известному адресу, чем если бы он был вынужден надзирать за ним в лесу.
– Сильно не спеши, – дал он ему последний совет, – до сумерек тебе надо добраться к краю леса, там закостришься и переночуешь. К трассе завтра выйдешь. А я на последнее ночевое место двинул.
Провожая Бабцева, Рюмин, конечно, терял четыре драгоценных промысловых дня.
– Но не мог я такого придурка просто так пустить тайгой к людям выходить, – рассказывал Виталий об этом впоследствии, прихлёбывая чай в заново построенной избушке. – Он бы сгинул буквально на первых метрах, а я потом перед замдиректора отвечай! Так-то, конечно, такому хмырю сдохнуть – никакого ущерба для общества. Но отвечать придётся. Так что хрен с ним, пришлось выводить его к перевалу. И то потом весь сезон мучился – вышел он в конце концов на трассу или заблукал в трёх лиственницах…
Возле сгоревшего зимовья Рюмин соорудил что-то вроде палатки: связал каркас по типу козел из пяти шестов, обтянул его брезентом, а внутри установил печку, которую выковырял из пожарища. На пол импровизированной палатки он наломал полуметровый слой тонких лиственничных веток, получился упругий и очень приятно пахнущий матрас – этому способу обустройства ночлега он научился у тех же бродячих эвенов. Поэтому уже через день после возвращения с перевала Рюмин смог почти всё внимание уделять промыслу.
– По сравнению с тем, что могло бы случиться, ущерб был минимален. По сути, сгорели только изба, спальные принадлежности, карабин и запас патронов. Самый важный предмет в тайге, бензопилу, Бабцев ухитрился снова заклинить в одном из деревьев неподалёку, такая же судьба постигла двуручную пилу и ножовку, топоры в момент взрыва находились под рукой на улице, посуду немытую парень, опасаясь моего скорого прихода, собрал в кучу и вытащил на улицу. Спальный мешок и запасной матрас у меня вместе с брезентом лежали на лабазе, там же, где лыжи, – слава богу, глубокого снега ещё не выпало. В общем, даже и выпало бы – я б лыжи себе сделал из сухой чозении, дело-то не очень хитрое, но всё время, время, понимаешь…
– Не холодно было в палатке?
– Ну, в палатке никогда тепло не бывает. Топишь печку – жарко, через пять минут как перестало гореть – дубак такой же, как на улице. Брезент тепла не держит. Особенно первое время тяжело было, пока снег не выпал.
Зато пока снега не было, по путикам легко ходить было. Соболь шёл в ту осень хорошо, лучше, чем обычно, я ещё и из-за этого в тайге остался.