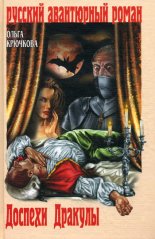Час расплаты Хоуг Тэми

Наступила тишина, нарушаемая лишь позвякиванием тарелок в раковине и звуком голосов, когда Клара повела Рейн-Мари в свою мастерскую.
– Меня беспокоит, что я недооценивал содержимое ящика для одеял, – сказал Оливье, добавляя изрядную порцию взбитых сливок к уже сервированному муссу. – Но больше всего меня беспокоит другое: я не понимаю, что я делаю. Меня беспокоит, что я обманщик.
– Меня беспокоит, что много лет назад, будучи психотерапевтом в Монреале, я давала клиентам плохие советы, – сказала Мирна. – Я просыпаюсь посреди ночи в ужасе, не направила ли я кого-нибудь по ложному пути. При свете дня я в порядке. Большинство моих страхов приходит с темнотой.
– Или когда горят свечи, – добавил Арман.
Мирна и Оливье посмотрели на него, не вполне понимая, что это значит.
– Вы и вправду опасаетесь неудачи? – спросил Оливье, насыпая кофе в кофеварку.
– Я принял несколько очень рискованных решений, – ответил Арман. – Подобные решения могут пойти как во благо, так и во зло.
– Когда я чего-то боюсь, я всегда спрашиваю себя: что может случиться самое худшее? – сказала Мирна.
Осмеливался ли он задать себе такой вопрос?
Ему придется уйти в отставку, и академию возглавит кто-нибудь другой. Но это будет наилучшим выходом в случае его неудачи.
А наихудшим?
Он свел вместе Сержа Ледюка и Мишеля Бребёфа. По определенной причине. Но что, если этот план обернется против него? Может произойти катастрофа. И катастрофа такого рода уничтожит не только его.
Он привел в действие очень опасный механизм.
– Я бы этого не советовала, – сказала Клара.
– Чего? – спросила Рейн-Мари.
Они стояли в мастерской Клары в окружении полотен и кисточек в старых жестянках, среди запаха красок, скипидара, кофе и банановой кожуры. В углу стояла собачья кровать, на которой прежде спала Люси, золотистый ретривер Клары, пока сама Клара творила, что нередко случалось по ночам. Анри пробрался за ними в мастерскую и тут же заснул на кровати Люси.
Однако внимание Рейн-Мари привлекло то, что привлекло бы внимание любого человека, – холст на мольберте. Вблизи это было буйство красок, смелые мазки фиолетового, красного, зеленого и голубого. Все крошечные точки на руках Клары были разбрызганы на холсте в увеличенном размере.
Но стоило сделать шаг назад – и то, что казалось хаосом, обретало очертания женского лица. Определенно лица Клары.
– Я бы никому не советовала писать автопортреты, – сказала художница, удобно устроившись на табурете перед мольбертом.
– Почему? – спросила Рейн-Мари, обращаясь к Кларе, изображенной на холсте.
– Потому что в конечном счете это означает, что ты часами глазеешь на себя. Ты когда-нибудь видела автопортрет, на котором человек не выглядит слегка безумным? И теперь я знаю почему. Ты можешь улыбаться, делать умный вид или задумчивый. Но чем дольше ты смотришь, тем больше видишь. Все эмоции, мысли, воспоминания. Все то, что мы прячем. Портрет обнажает внутреннюю жизнь, тайную жизнь человека. То, что художники пытаются уловить. Но одно дело искать внутреннюю жизнь в ком-то другом, и совсем иное – навести этот пистолет на себя.
Только сейчас Рейн-Мари заметила зеркало, прислоненное к креслу. И отражение Клары в нем.
– У тебя начинаются видения, – продолжала Клара. – Ты видишь странные вещи.
– Ну ты прямо как Рут, – сказала Рейн-Мари, пытаясь снять напряжение. – Она видит на карте что-то такое, чего не видят остальные.
Она села на диван, ощущая пружины там, где их просто не могло быть. Лицо на портрете, поначалу казавшееся строгим, стало обретать выражение любопытства.
Удивительный эффект. Настроение лица на портрете отражало настроение реальной женщины. Живая Клара тоже проявляла любопытство. И удивление.
– На одном из поэтических чтений в прошлом году она видела У. Б. Йейтса[19], – вспомнила Клара. – А в прошедшее Рождество узрела лицо Христа на индейке. У вас дома, помнишь?
Рейн-Мари прекрасно помнила, какой скандал устроила Рут, пытаясь убедить их не разделывать птицу. Не потому, что верила в божественность тушки, а потому, что ее можно было бы продать на аукционе eBay.
– Я думаю, что «странность» и Рут неразделимы, – сказала Клара.
Рейн-Мари согласилась с ней. Как-никак Рут держала у себя утку.
Выражение лица на портрете снова изменилось.
– Так что тебя беспокоит? – спросила Рейн-Мари.
– Я боюсь, что то, что мне видится, действительно существует. – Клара показала на зеркало.
– Портрет превосходный, Клара.
– Ты могла этого не говорить, – улыбнулась Клара. – Я просто шутила.
– А я не шучу. Он и в самом деле замечательный. Не похож ни на одну из твоих прежних работ. Другие портреты – следствие вдохновения, а этот… – Рейн-Мари снова посмотрела на холст, на сильную, уязвимую, удивленную, испуганную женщину средних лет, изображенную на нем. – Этот – гениальный.
– Merci. А ты?
– Moi?
Клара рассмеялась:
– Oui, madame. Toi[20]. Что беспокоит тебя?
– Обычные дела. Я волнуюсь за Анни и за ребенка, думаю о том, как поживают Даниель и внучки в Париже. И еще меня беспокоит то, чем занят Арман, – призналась Рейн-Мари.
– Как глава Полицейской академии? – уточнила Клара. – После того, что он пережил, это мелочи. Игра в оловянные солдатики. Ничего с ним не случится.
Но Рейн-Мари, конечно, знала больше, чем Клара. Она летала вместе с мужем в Гаспе. Видела выражение лица Армана.
Пока они сидели за столом, надвинулись тучи и принесли густой снег. Не метель, а непрерывное вертикальное падение крупных хлопьев, которые придется разгребать утром.
У дверей, уже облачившись в уличную одежду, Оливье спрятал карту под курткой и застегнулся.
Друзья попрощались с Кларой и, утопая ногами в свежем снегу, зашагали сквозь снегопад по одной из дорожек, проложенных через деревенский луг. Габри шел рядом с Рут и нес Розу, прижимая к груди.
– Из тебя получилась бы неплохая перина, верно? – прошептал он на ухо утке. – Она становится все тяжелее. Неудивительно, что утки ходят вперевалку.
Шедшая сзади Мирна тихо сказала Рейн-Мари:
– Мне всегда нравились мужчины с большими утками[21].
Рейн-Мари покатилась со смеху и тут же налетела на Армана, который остановился на пересечении дорожек, откуда Мирна свернула к своему жилищу на чердаке над магазином.
Они пожелали друг другу спокойной ночи, но Арман продолжал стоять на месте, глядя на сосны, на рождественские огни, чуть раскачивающиеся на ветерке. Анри смотрел на него, чуть помахивая хвостом в ожидании, когда ему бросят снежок.
Рейн-Мари доставила псу это удовольствие, и Анри нырнул в высокий сугроб за добычей.
– Идем, – сказала Рейн-Мари, взяв Армана под руку. – Поздно и холодно, ты уже становишься похожим на снеговика. А на деревья можешь полюбоваться из окна.
Они пошли дальше, прощаясь на ходу с другими, но тут Арман опять остановился.
– Оливье! – крикнул он в темноту и трусцой побежал за владельцем бистро. – Одолжите мне карту ненадолго.
– Пожалуйста. А что?
– Хочу проверить одну вещь.
Оливье вытащил карту из-под куртки.
– Merci, – сказал Гамаш. – Bonne nuit[22].
Рейн-Мари и Анри ждали его, а еще дальше впереди Габри медленно вел Рут и Розу домой. Рут повернулась и посмотрела на Армана. В свете лампочки на ее крыльце было видно, что она чем-то очень довольна.
– Ты спрашивал, для чего сделана эта карта, – прокричала она. – А не лучше ли подумать, почему ее спрятали в стену?
На следующее утро Арман позвонил Жану Ги и спросил, не хочет ли он стать его заместителем в академии.
– Я уже заточил карандаши, patron, – ответил Жан Ги. – И прикупил блокноты и новые пули для пистолета.
– Ты не представляешь, какие чувства вызывает у меня это известие, – откликнулся Гамаш. – Я говорил со старшим инспектором Лакост. Изабель даст тебе отпуск на один семестр. Вот все, что мы имеем.
– Хорошо, – сказал Жан Ги, переходя на серьезный тон. – Днем я приеду в Три Сосны, и мы обсудим ваши планы.
Явившись в деревню, Жан Ги отряхнул снег с шапки и куртки, налил себе кофе и прошел в кабинет к тестю. Вопреки его ожиданиям, Гамаш не изучал учебные программы, досье персонала или список новых кадетов. Вместо этого он разглядывал старую карту.
– Почему вы так долго не приглашали меня в заместители?
Гамаш снял очки и внимательно посмотрел на зятя:
– Потому что знал: ты согласишься, а я не уверен, что делаю для тебя доброе дело. В академии творится черт знает что, Жан Ги. У тебя своя карьера. Сомневаюсь, что должность моего заместителя в академии – шаг вверх по карьерной лестнице.
– А вы думаете, меня интересует повышение, patron? – произнес Бовуар с еле сдерживаемым гневом. – Неужели вы так плохо меня знаете?
– Просто мне очень небезразлична твоя судьба.
Бовуар вдохнул и выдохнул, прогоняя раздражение.
– Тогда почему приглашаете меня теперь?
– Потому что мне нужна помощь. Нужен ты. Одному мне это не поднять. Мне нужен человек, которому я могу доверять всецело. И потом, в случае неудачи мне нужен кто-нибудь, на кого можно свалить вину.
Жан Ги рассмеялся:
– Всегда рад помочь. – Он посмотрел на карту, лежащую на столе. – Что тут у вас? Карта сокровищ?
– Нет, но в ней есть какая-то тайна. – Гамаш протянул карту Жану Ги. – Взгляни, может, увидишь в ней что-то необычное.
– Я полагаю, вы знаете ответ. Это испытание? Если я его успешно пройду, должностишка моя?
– Такую должностишку вряд ли можно назвать призом, – заметил Гамаш и направился к выходу, давая зятю возможность изучить потертую, драную и грязную старую карту. – И она уже твоя, нравится тебе это или нет.
Некоторое время спустя Жан Ги прошел в гостиную к Арману и Рейн-Мари, но и там увидел на диване нечто потертое, драное и грязное.
– Ну что, недоумок, я слышала, что Клузо наконец-то пригласил тебя заместителем, – проворчала Рут. – Я всегда знала, что ты прирожденный заместитель.
– Мадам Зардо, – торжественно произнес Жан Ги, словно обращаясь к медиуму Викторианской эпохи. – Фактически он попросил, а я согласился.
Он сел рядом с ней на диван, и Роза перебралась к нему на колени.
– Ну, ты разобрался? – спросил Гамаш. – Выяснил, что странного в этой карте?
– Вот это. Три сосны, – сказал Жан Ги, обводя пальцем нарисованные деревья. – Три Сосны. Ни на одной официальной карте деревни нет, а здесь она есть.
Он поставил палец на изображение деревни. И тогда стало очевидным кое-что еще. Все дороги, дорожки и тропинки вели туда. Возможно, они проходили и через другие поселения, но заканчивались здесь, у трех сосен.
Арман кивнул. Жан Ги своим острым глазом увидел на карте самое необычное среди всего второстепенного.
Это была не карта Трех Сосен, а карта, показывающая путь в Три Сосны.
– Как странно, – прошептала Рейн-Мари.
– На самом деле странно не то, что деревня есть на этой карте, – сказал Жан Ги, – а то, что ее нет ни на одной другой карте. Даже на официальных картах Квебека. Почему? Почему она исчезла оттуда?
– Damnatio memoriae, – произнесла Рейн-Мари.
– Что-что? – спросил ее зять.
– Эту фразу я встречала только один раз, – сказала она. – Когда просматривала старые документы. Фраза настолько необычная, что я ее запомнила, но она, конечно, иронична.
Все уставились на нее, не понимая, в чем тут ирония.
– Damnatio memoriae означает «изгнанное из памяти»[23], – сказала она. – Не просто забытое, а изгнанное.
Четыре пары глаз уставились на первую, и последнюю карту с изображением их деревеньки перед ее исчезновением, изгнанием.
Глава шестая
Амелия Шоке сложила руки на груди и откинулась назад, сидя за своим столом. Она удостоверилась, что рукава ее формы закатаны и татуировки выставлены на обозрение, при этом она то высовывала язык с продетым в него металлическим штифтиком, то убирала его. То высовывала, то убирала. Демонстрировала, что ей скучно.
Потом она сползла пониже на стуле и огляделась. Это у нее получалось лучше всего. Никогда не участвовать, но всегда наблюдать. Внимательно.
В данный момент она наблюдала за человеком в передней части аудитории. Крупным, но не толстым. Скорее дородным, подумала она. Плотным. По возрасту он годился ей в отцы, хотя ее отец был старше.
Она оценила аккуратную, без вычурности одежду преподавателя: пиджак, галстук, шерстяные брюки.
Вид ухоженный.
Его голос, когда он обращался к кадетам-первогодкам, отличался от лекторского тона многих других преподавателей. Он говорил так, будто предлагал им выбор – соглашаться или нет с тем, что он говорит. Выбор за ними.
Она постучала штифтиком по зубам, и девица, сидевшая перед ней, повернула голову и стрельнула в нее недовольным взглядом.
Амелия презрительно ухмыльнулась, и девица вернулась к своему конспекту, видимо пытаясь дословно записать то, что говорил преподаватель.
С начала занятий прошла уже неделя, а Амелия сделала всего несколько записей в своем новеньком блокноте. Хотя, если честно, она все еще удивлялась тому, что вообще оказалась здесь.
Она явилась в Полицейскую академию в первый день, ожидая, что ее развернут обратно. Сообщат, что произошла ошибка и ей не место в академии. Однако ее впустили внутрь, и она стала ждать, что теперь ей прикажут убрать весь пирсинг. Не только тот, что в языке, но и в ноздрях, на губе, в брови, в ушах наподобие гусеницы. Если бы они знали обо всех остальных, которые не видны, то определенно сказали бы, что и от них нужно избавиться.
Она предполагала, что в течение нескольких недель перед началом занятий ей пришлют предупреждение: крашеные волосы и татуировки в академии не допускаются.
Но прислали лишь список книг, которые нужно прочесть, и коробку.
Получив письмо и коробку, Амелия заперла дверь своей спальни в меблированных комнатах, где она жила, и, пробежав список книг, открыла коробку.
Внутри оказалась аккуратно сложенная форма. Новенькая. Никто прежде не носил ее. Амелия поднесла ее к лицу и вдохнула.
Форма пахла хлопком и картоном. Свежая и чистая. И неожиданно мягкая.
Там лежала и фуражка с эмблемой академии и какими-то словами на латыни.
«Velut arbor aevo».
Амелия осторожно водрузила фуражку на свои колючие черные волосы. Подумала, что же означают эти слова. Да, она знала, как их перевести, но что они означали – загадка.
Она разделась и надела на себя форму. Одежда сидела как влитая. Тогда Амелия украдкой посмотрела в зеркало. И увидела молодую женщину, которая жила в мире, ничуть не похожем на мир Амелии. В мире, который мог бы стать ее миром, если бы она повернула налево, а не направо. Или направо, а не налево.
Если бы она говорила или молчала. Открывала дверь или закрывала ее.
Амелия могла бы быть девицей в зеркале. Сияющей, аккуратной, улыбающейся. Но она не была ею.
Она швырнула фуражку на кровать и тут услышала шаги в коридоре. Стрельнула глазами в замок – заперт ли.
В дверь резко постучали, и любезный голос пропел:
– Просто хотела узнать, получила ли ты посылку, ma belle[24].
– Пошла в жопу.
Молчание, затем удаляющиеся шаги и тихий смешок.
В первую ночь, проведенную здесь Амелией, хозяйка неожиданно распахнула дверь и заглянула в ее комнату. Амелия поспешно затолкала под кровать то, что держала в руках. Но она вызвала любопытство у этой дряблой женщины, от которой воняло куревом, пивом и потом.
– Услышала шум и подумала, не заболела ли ты, ma petite[25], – объяснила она.
Вместе с ней в комнату проник запах мочи, впитавшийся в ковер в коридоре.
Женщина обшарила помещение своими маленькими глазками.
Амелия захлопнула перед ней дверь, успев заметить потрескавшиеся губы толстухи, нос картофелиной в красных прожилках, угреватое лицо. И слезящиеся глаза. Наполненные хитростью и планами.
С тех пор Амелия всегда запирала дверь, даже если отлучалась всего на минутку – в туалет или в душ.
Амелия ненавидела хозяйку. И знала почему. Как только она вошла в дверь этих меблированных комнат, ее охватила внезапная и ошеломляющая уверенность, что она никогда отсюда не выйдет.
Эта хозяйка была ею.
А она была этой хозяйкой.
Амелия подозревала, что когда-то давно эта женщина, молодая и стройная, приехала из провинции в Монреаль в поисках работы. С сертификатом об окончании курсов машинисток в одной руке и с небольшим чемоданом – в другой.
Она сняла здесь комнату на время, не понимая, что пересекла порог. И возврата нет.
Она так и не вышла обратно. Сгнила тут.
То же будет и с Амелией. Уже началось.
После четырех месяцев безуспешных попыток найти какую-нибудь неквалифицированную работу Амелия начала снижать планку и докатилась до минета на рю Сент-Катрин. И наконец приняла ведро, предложенное хозяйкой.
Это и стало ее работой. Чистить туалеты. И душевые. Пробивать заторы, вытаскивая оттуда клочья волос и все, что там оказалось.
Случались ночи, когда она стояла на коленях в мужском душе и плакала в сливное отверстие. Она понимала тогда, что ее жизнь никогда не будет лучше. В двадцать лет лучшее для нее уже осталось позади.
Она начала глушить себя наркотиками, которые приобретала у оборванца, живущего в том же коридоре, в обмен на минет. Прежде она обещала себе не падать так низко, а теперь прикидывала, куда еще может упасть и где нащупает дно.
Пока что она не опустилась до крэка и героина, но лишь потому, что не могла их себе позволить за ту цену, которую просили.
В конце концов потребность заглушить боль стала сильнее всех ограничений. Травка больше не помогала. Перед тем как выйти из дому, Амелия приняла душ и надела чистое белье, совершая некий последний акт самоуважения и осознавая всю нелепость этих действий. До точки невозврата оставалось всего ничего. Так уж лучше перешагнуть эту линию с запахом мыла и детской присыпки, хотя Амелия подозревала, что теперь застоялый запах мочи тянется за ней повсюду, как рудиментарный хвост.
Она спустилась по лестнице, которую только что выскребла.
Ступеньки стали чище, чем в день ее приезда. Как и туалеты, душевые, ковры. На это начали обращать внимание другие постояльцы, кое-кто из них даже стал больше следить за собой.
Но борьба была проиграна, даже не начавшись. Грязь в доме лежала не на поверхности. Дезинфекция тут не помогала. Гниль проникла слишком глубоко.
– Ты куда? – спросила хозяйка через приоткрытую дверь своей квартиры.
– Не твое вонючее дело, – ответила Амелия.
– Не глотай, – посоветовала хозяйка со смехом. Она сидела в кресле, широко расставив потные ноги. – Но это ты и без меня знаешь, малютка.
Телевизор у нее был включен, шел репортаж об убийстве в деревне к югу от Монреаля. Сначала нашли тело ребенка, решили, что это несчастный случай, но позже признали убийством. А потом последовала вторая смерть.
Амелия остановилась, глядя сквозь приоткрытую дверь. Увидела на экране довольно молодую женщину, дающую интервью. Ее представили как главу отдела по расследованию убийств Квебекской полиции.
Амелия шагнула ближе к двери.
На женщине был хороший костюм. Юбка, светло-голубая рубашка и приталенный жакет. Совсем не мужской. Женского покроя. Практично, но привлекательно. Просто.
На шее у нее висел бейджик, на бедре – пистолет в кобуре.
Крупные мужчины в форме стояли позади нее. Уважительно.
Хозяйка пошевелилась в кресле, ее голые ноги произвели визгливый звук, скользнув по синтетической обивке.
– Как ты думаешь, на что она пошла, чтобы получить такую работу?
На толстых губах хозяйки блестела слюна, а ее смех преследовал Амелию, пока она не вышла на улицу.
Амелия нашла ответ на этот вопрос тем же вечером.
Но не на рю Сент-Катрин. Она нашла его в квартире своего единственного друга – гея из той же деревни, из которой приехала она сама. Он поселился в Монреале годом ранее и устроился на работу танцором в мужском стрип-клубе.
– Что за ерундой ты тут занимаешься? – спросил он, протягивая косячок Амелии, которая сидела за его ноутбуком и стучала по клавиатуре. – Гуглишь копов?
Амелия не ответила.
В свою комнату она вернулась со стопкой распечаток, каждая из которых содержала требования, предъявляемые к поступающим в разные полицейские учебные заведения. На следующий день, вычистив туалеты и душ, она написала несколько писем и отправила резюме по разным адресам.
Конечно, резюме не были абсолютно правдивыми.
– Тебя никогда не примут, – сказал ее друг. – Посмотри на себя. Ты же по ту сторону тюремной решетки. Ты – та, кого они пытаются арестовать.
Они посмеялись над его словами, понимая, что в них есть немалая доля истины. Однако, в отличие от своего друга, Амелия надеялась оказаться с другой стороны. Среди тех, кто носит хорошие костюмы и моет волосы. И чтобы за ее спиной стояли крупные мужчины, но не пялились на ее задницу, а исполняли ее приказы.
Может быть, она сумеет стать женщиной, наделенной властью. И пистолетом.
Сначала она получила отказ от Монреальского полицейского колледжа. Потом из Шербрукской полиции. Потом из полиции Квебек-Сити. Ее не захотел принять даже крохотный частный колледж, наверняка разместившийся в сарае какого-то крестьянина где-нибудь в глухомани.
Полицейская академия Квебека вообще не удостоила ее ответом. Ну разумеется.
Амелия снова занялась полами и пробивкой засоров. А в один холодный вечер оказалась на Сент-Катрин. И там за стрип-баром сделала то, что клялась себе не делать никогда. И даже еще хуже.
На вырученные деньги она купила кокаин. А потом героин.
За два дня она приняла две дозы, и, хотя это ее одурманило, цель состояла не в том, чтобы получать удовольствие. А в том, чтобы смягчить боль.
Она подозревала, что еще одна доза – и назад пути не будет. Да и некуда ей было назад. И вперед тоже.
Но с первым снегом пришло письмо.
Амелию приглашали в Полицейскую академию Квебека на зимний семестр. Говорилось, что она будет получать полное довольствие. За ее знание латыни. Все было оплачено.
– Futuis[26] меня, – пробормотала она и села на кровать, сжимая в руках письмо и уставившись в пространство.
Амелия спрятала письмо в карман и держала его при себе, пока скребла полы и чистила унитазы. Она не осмеливалась прочесть его еще раз – вдруг что-то неправильно поняла. Но наконец в мужском душе она вытащила письмо и перечитала. Стоя на коленях, она плакала в сливное отверстие.
И вот в конце января она оказалась здесь. Сидела в классе и шевелила языком так, чтобы штифтик стукался о зубы. Обхватив себя руками и полулежа на стуле, смотрела на преподавателя из-под полуприкрытых век.
Она изображала скуку, но не пропускала ни слова. Впитывала каждый звук, каждое действие. Всё-всё.
Сидевший рядом с ней и увлеченно слушавший лекцию молодой человек, рыжеволосый и с такой гейской аурой, что ее, вероятно, чувствовала даже грифельная доска, шикнул на нее.
– Завидуешь моему штифтику? – прошипела она по-английски.
Он побагровел, и Амелии стало интересно, чего он больше стыдится – того, что он гей, или того, что он англо.
Он ей нравился. Непохожий на других, он изо всех сил старался быть похожим.
– Слушай внимательно, – сказала Амелия, показывая на преподавателя, и заметила, как рыжеволосый надулся от раздражения.
Этот курс читал сам коммандер академии, и до сих пор оставалось непонятным, о чем, собственно, этот курс.
Что такое учебные стрельбы, было ясно. Однако к оружию кадеты пока не прикасались, хотя коммандер Гамаш уже вскользь упомянул «прицельное слово».
– «Я не почувствовал, как прицельное слово попало по назначенью, – ответил он на вопрос одного из кадетов: когда им будут выдавать оружие. Голос преподавателя звучал низко и спокойно. – И в тело мягкой пулей вошло».
Он улыбнулся им, потом повернулся и написал на доске фразу.
Это случилось в первый день. И каждый день впоследствии он писал новую фразу, стирая предыдущую. Кроме первой. В верхней части доски. Она до сих пор оставалась там.
Амелия спрашивала себя, знает ли этот человек с сединой в волосах и задумчивыми глазами, что он цитирует ее любимого поэта.
- Меня повесили за то, что я жила одна,
- за то, что я голубоглазая и загорелая.
Амелия могла бы процитировать все стихотворение. Она заучила его, лежа в постели. И когда эта чертова хозяйка ворвалась к ней в первую ее ночь в меблированной комнате, Амелия спрятала книгу под кровать.
Не еду. Не наркотик. Не украденный кошелек.
Нечто гораздо более драгоценное и опасное.
Книга стихов присоединилась к другим спрятанным там. К книгам на латыни и греческом. Поэтическим и философским книгам. Амелия изучала древние языки и запоминала стихи. Среди грязи. Заглушая скрип кроватей, бормотание, крики и вопли других постояльцев. Шум спускаемой воды в туалетах, ругань и вонь.
Все это стиралось поэзией.
- И да, еще за груди
- и грушу сладкую, что скрыта в моем чреве.
- Как только разговор о демонах заходит,
- все это пригождается[27].
Хозяйка боялась крыс и копов.
Но на самом деле ей следовало бояться слов и идей. Амелия понимала это. И понимала, что именно потому наркотики так опасны. Потому что они вышибают мозги. Не сердце – мозги. А затем сердце. А затем и душу.
Амелия подалась вперед и, пока профессор стоял спиной, торопливо записала фразу дня.
«Главнейший смысл счастья, – строчила она быстро, чтобы не увидел коммандер, – в том, чтобы человек был тем, кто он есть».
Амелия уставилась на написанное, а потом, почувствовав на себе чей-то взгляд, подняла голову и увидела, что коммандер смотрит на нее.
Она высунула язык и подвигала им туда-сюда, показывая штифтик. Чтобы он знал, кто она есть.