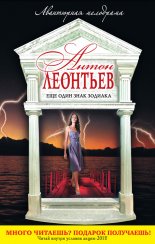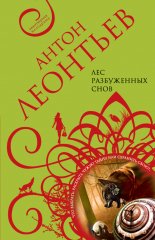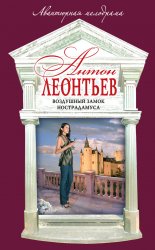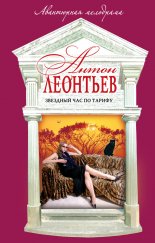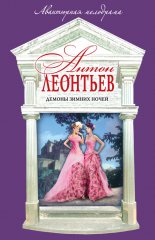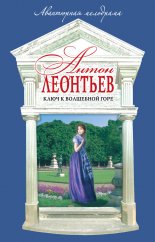Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! Фейнман Ричард

Я обратил внимание на то, что все там вечно спешат, просто носятся по залу, и как-то раз, шутки ради, оставил чаевые, которые всегда составляли десять центов (в то время это было нормой), двумя монетами и под двумя стаканами: в каждый из них я налил до самого края воду, опустил по пятицентовику, а затем, накрыв стакан картонкой, перевернул его и поставил вверх дном на столик. После этого я быстро выдернул обе картонки (вода наружу не вытекала, поскольку воздух в стакан не проникал – его края слишком плотно приникали к поверхности стола).
Чаевые я разложил по двум стаканам как раз потому, что знал – там все делается в спешке. Если бы десять центов лежали в одном стакане, официантка, торопясь подготовить столик для следующего клиента, просто схватила бы стакан и разлила воду – тем бы все и кончилось. А после того, как она проделает это с первым стаканом, ей придется подумать: что, черт побери, делать со вторым? Просто поднять его ей смелости не хватит!
Уходя, я сказал моей официантке:
– Осторожнее, Сью. Вы принесли мне какие-то странные стаканы: они налиты доверху, а в дне – дырка.
Когда я пришел туда на следующий день, меня обслуживала уже другая официантка. Прежняя не желала больше иметь со мной дела.
– Сью на вас очень сердита, – сказала новая официантка. – После того как она подняла первый стакан и залила все водой, ей пришлось позвать босса. Они поломали немного головы, но не ломать же их целый день, так что в конце концов сняли со стола и второй стакан, и вода разлилась опять, по всему полу. Беспорядок получился ужасный, а Сью потом еще и поскользнулась в луже. Они все очень злы на вас.
Я расхохотался.
Официантка сказала:
– Ничего тут смешного нет! Интересно, как бы вам понравилось, если бы такую штуку проделали с вами, – как бы поступили вы?
– Я бы взял суповую тарелку, осторожно сдвинул стакан к краю стола и дал бы воде вытечь в тарелку – на пол ничего бы и не попало. А потом достал бы из стакана монету.
– О, хорошая мысль, – сказала она.
В тот вечер я оставил чаевые под перевернутой кофейной чашкой.
Назавтра меня обслуживала та же новая официантка.
– Зачем вы вчера оставили монетку под перевернутой чашкой?
– Ну, я подумал, что, даже при вечной вашей спешке, вы сходите на кухню, принесете суповую тарелку, а после мееедленно и осторожно сдвинете чашку к краю стола…
– Я так и сделала, – обиженно сказала она, – да только воды-то там не было!
Однако лучшую мою проделку я совершил в общежитии братства. Как-то утром я проснулся очень рано, около пяти, и никак не мог заснуть, а потому вышел из спальни и спустился этажом ниже. Там я обнаружил подвешенные на веревках таблички, на которых значилось что-то вроде «ДВЕРЬ! ДВЕРЬ! КТО УКРАЛ ДВЕРЬ!». А затем увидел, что одну из дверей кто-то действительно снял с петель и унес – в проеме ее висела табличка «ЗАКРЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДВЕРЬ!», которая раньше как раз эту дверь и украшала.
Я сразу сообразил, в чем тут дело. В этой комнате занимался парень по имени Пит Бернейс и с ним еще двое студентов, трудились они в поте лица и вечно требовали тишины. Если ты заходил к ним, разыскивая что-то или желая узнать, как они решили ту или иную задачу, то при твоем уходе в спину тебе неизменно кричали: «Пожалуйста, закрой дверь!».
Кому-то это явно надоело, вот он и утащил их дверь. Ну так вот, дверь-то на самом деле была двойная, как во всем здании, и у меня родилась хорошая мысль. Я снял с петель и вторую дверь, отнес ее вниз и спрятал в котельной, за резервуаром с топливом. А потом тихо поднялся наверх и улегся в постель.
Попозже утром я изобразил пробуждение и спустился вниз позже обычного. Там уже собралась целая толпа, Пит и его друзья были страшно расстроены: дверь пропала, а им заниматься надо – и так далее и так далее. Я еще сходил по лестнице, а меня уже спросили:
– Фейнман! Это ты двери унес?
– О да! – ответил я. – Моя работа. Видите царапины у меня на костяшках? Это я их о стену ободрал, когда волок дверь в подвал.
Ответ мой их не удовлетворил – на самом деле мне просто никто не поверил.
Те, кто утащил первую дверь, оставили слишком много улик – например, таблички написали от руки, – так что их вычислили быстро. Моя идея состояла в том, что все, обнаружив похитителей первой двери, решат, что они же украли и вторую. Так и вышло: ребят, унесших первую дверь, мурыжили, мучили и донимали все, кому было не лень, и лишь ценой очень больших усилий и страданий они убедили своих истязателей, что взяли, каким бы невероятным это ни казалось, только одну дверь.
Я наблюдал за происходящим, страшно довольный.
Вторая дверь отсутствовала уже неделю, и для тех, кто занимался в этой комнате, возвращение ее становилось делом все более и более важным.
В конце концов происходит следующее: когда все мы сидим за обеденным столом, президент братства заявляет:
– Мы должны решить проблему второй двери. Сам я решить ее не смог, поэтому мне хочется услышать от вас предложения насчет того, как все уладить, – Питу и остальным надо заниматься.
Кто-то вносит одно предложение, за ним кто-то еще – другое.
Подождав немного, я встаю и вношу мое собственное.
– Хорошо, – саркастическим тоном говорю я, – кем бы ты ни был, человек, укравший дверь, мы уже поняли: ты великолепен. Ты такой умный! Догадаться, кто ты, мы не в состоянии, отсюда следует, что ты, наверное, супергений. Ты можешь не открывать нам своего имени, нам нужно знать только одно – где дверь. Поэтому, если ты оставишь где-нибудь записку, в которой будет указано местонахождение двери, мы будем чтить тебя и на веки вечные признаем сверхсовершенством, умником, который сумел унести вторую дверь, не оставив ни единого следа, позволяющего установить твою личность. Ради бога, просто подбрось куда-нибудь записку, и мы будем вечно благодарны тебе.
Предложение вносит еще один студент.
– У меня другая идея, – говорит он. – Я думаю, что вы, как президент, должны попросить каждого – под слово чести перед лицом братства, сказать: он украл дверь или не он.
Президент говорит:
– А вот это мысль очень хорошая. Слово чести перед лицом братства!
И он начинает обходить стол, задавая каждому вопрос:
– Джек, это вы унесли дверь?
– Нет, сэр. Я ее не уносил.
– Тим, это вы унесли дверь?
– Нет, я не уносил ее, сэр!
– Морис, это вы унесли дверь?
– Нет, я не уносил ее, сэр!
– Фейнман, это вы унесли дверь?
– Да, это я ее унес.
– Перестаньте, Фейнман, дело серьезное! Сэм, это вы унесли дверь?… – Так он всех и обошел. И все просто пришли в ужас. Оказывается, в нашем братстве завелась самая что ни на есть паршивая крыса, никакого уважения к братству и к слову чести не питающая!
Той ночью я оставил, не помню уж где, записку с изображением резервуара с топливом и двери рядом с ним, и назавтра дверь отыскали и вернули на место.
Некоторое время спустя я снова признался в покраже двери – и все сочли меня вруном. Никто не вспомнил, что я говорил раньше. Все запомнили лишь заключение, к которому пришли после того, как президент обошел стол по кругу, задавая каждому один и тот же вопрос, и никто ни в чем не признался. Запомнили общую идею, но не слова.
Во мне часто видят обманщика, а ведь обычно я честен. На свой манер, разумеется, – так что, как правило, никто мне не верит!
Итальянский или латынь?
В Бруклине была итальянская радиостанция, и мальчишкой я постоянно слушал ее. Мне НРАвились расКАтистые ЗВУки, которые раскачивали меня, как легкие океанские волны в хорошую погоду. Я сидел перед приемником и преКРАсный итальЯНский яЗЫК омывал меня, словно вода. В программах этого радио то и дело возникали семейные конфликты – споры и ссоры между отцом и матерью семейства:
Пронзительный голос: «Nio teco TIEto capeto TUtto…»
Голос громкий и низкий: «DRO tone pala TUtto!!» (звук пощечины).
Роскошно! Так я научился изображать любые эмоции – плакать, смеяться – все, что угодно. Замечательный язык – итальянский.
В Нью-Йорке по соседству с нами жило немало итальянцев. Как-то раз я катался на велосипеде и некий итальянец, водитель грузовика, почему-то разозлился на меня, высунулся в окошко и, отчаянно жестикулируя, прокричал что-то вроде: «Me aRRUcha LAMpe etta TIche!»
Я почувствовал себя оскорбленным. Да, но что он мне сказал? И что мне следовало проорать в ответ?
Я спросил об этом моего школьного приятеля, итальянца, и он посоветовал: «Скажи просто: „A te! A te!“ Это означает: „И тебе того же! И тебе того же!“»
Отличная мысль, решил я. Вот так я и буду отвечать: «A te! A te!» – жестикулируя, разумеется. А поскольку я обрел уверенность в себе, то решил совершенствоваться и дальше. И когда я снова поехал кататься на велосипеде и какая-то женщина на машине подрезала меня, я крикнул: «PUzzia a la maLOche!» – она просто в комок сжалась. Нахальный итальянский мальчишка обругал ее самым безобразным образом.
Опознать в моем итальянском подделку было далеко не просто. Однажды, уже в Принстоне, я въезжал на велосипеде на парковку у Палмеровской лаборатории, и кто-то вдруг преградил мне дорогу. Я отреагировал привычным для меня образом: прихлопнул одной ладонью поверх другой и крикнул: «oREzze caBONca MIche!»
Неподалеку тянулась длинная полоса травы, на которой высаживал что-то садовник-итальянец. Он выпрямился, взмахнул руками и с великой радостью воскликнул: «REzza та LIа!»
Я крикнул, возвращая приветствие: «RONte BALta!» Он так и не понял, что я ничего не понял, – и я не знал, что он прокричал, и он не знал, что я крикнул в ответ. Ну да ладно! Все было отлично! Сработало же! В конце концов, услышав знакомую интонацию, они мгновенно распознают ее как итальянскую – может, это не римский диалект, а миланский, какая, к черту, разница? Главное – он итальЯнец! Так здорово! От вас при этом требуется только одно – полная уверенность в себе. Стойте на своем, и ничего с вами не случится.
Однажды я приехал домой на каникулы и застал сестру в полном расстройстве, почти плачущей: ее организация девочек-скаутов устраивала банкет, на который им полагалось привести своих отцов, а наш был в отъезде, он тогда занимался продажей военного обмундирования. И я сказал, что пойду с ней, будет брат вместо отца – подумаешь! (Я был на девять лет старше, так что идея выглядела не такой уж и безумной.)
Когда мы пришли на банкет, я уселся рядом с отцами, но вскоре они мне наскучили. Все они привели своих дочерей на милый маленький праздник, однако говорили только о рынке акций – они и с собственными-то детьми разговаривать не умели, а уж тем более с детьми своих друзей. Во время праздника девочки развлекали нас, исполняя сценки, читая стихи и так далее. Потом они вдруг вытащили этакую странную штуковину вроде фартука – кусок ткани с дыркой для головы посередке. И объявили, что теперь отцам предстоит развлекать их.
Ну и каждому отцу пришлось просовывать голову в эту дырку и что-нибудь говорить – один прочитал «У Мэри был ягненок», – в общем, они не знали, что им делать. Я тоже не знал, однако, когда настал мой черед, сказал, что собираюсь прочитать небольшое стихотворение – прошу извинить меня за то, что оно не английское, однако я уверен, что девочкам понравится:
– Poici di Pare
- TANto SAca TULna TI, na PUta TUchi PUti TI la.
- RUNto CAta CHANto CHANtaMANto CHI la TI da.
- YALta CAra SULda MI la CHAta PIcha PIno TIto BRALda
- pe te CHIna папа CHUNda lala CHINda lala CHUNda!
- RONto piti CAle, a TANto CHINto quinta LALda
- О la TINta dalla LALta, YENta PUcha lalla TALta!
Я продекламировал три или четыре таких строфы, изображая все эмоции, какие слышал по итальянскому радио, и девочки, поняв, что происходит, просто по полу катались от смеха.
Когда банкет закончился, ко мне подошли вожатая скаутов и школьная учительница, – они сказали, что у них возник по поводу моего стихотворения спор. Одна считала, что оно итальянское, другая утверждала, что это латынь.
– Так кто же из нас прав? – спросила учительница.
– Да вы у девочек спросите, – ответил я, – уж они-то отлично поняли, что это за язык.
Вечный уклонист
Учась в МТИ, я ничем, кроме науки, не интересовался, да ни в чем другом особо и не блистал. А между тем в МТИ существовало правило: студенту надлежало прослушать несколько гуманитарных курсов, чтобы стать человеком более «культурным». Помимо курса английской литературы мы должны были пройти еще два факультативных, – я просмотрел их список и обнаружил в нем «гуманитарную» науку астрономию! И целый год отделывался астрономией. В следующем году я снова просмотрел список, французскую литературу и прочее в этом роде отверг и выбрал философию. Ничего более близкого к естественным наукам мне отыскать не удалось.
Прежде чем я расскажу вам о том, что со мной приключилось во время занятий философией, позвольте рассказать о курсе английской литературы. Нам полагалось сочинять эссе на самые разные темы. К примеру, Милль написал что-то такое о свободе, а мы должны были его раскритиковать. Однако вместо того, чтобы заняться следом за Миллем свободой политической, я написал о свободе в отношениях между людьми – о проблеме, связанной с тем, что если ты хочешь выглядеть воспитанным человеком, тебе приходится жульничать и врать, о том, что эти постоянные махинации приводят к «разрушению нравственной ткани общества». Вопрос интересный, но вовсе не тот, который нам следовало обсуждать.
В другой раз нам надлежало выступить с критикой сочинения Хаксли «О куске мела»; он пишет о том, что кусок мела, который он держит в руке, – это остатки костей животных, о силах, которые вытолкнули эти остатки на поверхность земли, обратив их в белые скалы Дувра, а потом там устроили карьер, добыли этот мел и теперь используют для передачи мыслей, которые записывают им на доске.
И снова, вместо того чтобы критиковать заданное эссе, я написал пародию на него – «Об облачке пыли», о том, как пыль окрашивает солнечный закат, смывается дождем и так далее. Я вечно мухлевал, вечно пытался уклониться от темы.
Но вот когда нам пришлось писать о «Фаусте» Гёте, деваться мне было уже некуда! Произведение это слишком велико, чтобы написать пародию на него или придумать что-то еще. Я метался по нашему братству, твердя: «Этого я сделать не могу. Мне просто не справиться. И я не справлюсь!»
Один из товарищей по братству сказал мне:
– Ладно, Фейнман, не можешь так не можешь. Но профессор-то решит, что ты просто поленился. Напиши хоть о чем-нибудь, лишь бы слов побольше, и припиши в конце, что «Фауста» ты понять не сумел, что у тебя к нему душа не лежит, вот ты и не смог ничего о нем написать.
Так я и сделал. Я написал длинное сочинение «Об ограничениях разума». В нем говорилось о научных методах решения проблем, о том, что они сталкиваются с определенными ограничениями: нравственные ценности научными методами не определяются – тра-ля-ля и так далее.
Потом еще один из друзей по братству дал мне новый совет.
– Фейнман, – сказал он, – этот номер у тебя не пройдет, ты выбрал тему, не имеющую никакого отношения к «Фаусту». Ты должен как-то связать ее с «Фаустом».
– Да это же просто смешно! – ответил я.
Однако другие студенты сочли эту мысль разумной.
– Ну хорошо, хорошо! – недовольно проворчал я. – Попробую.
И добавил к уже написанному полстраницы о том, что Мефистофель олицетворяет разум, Фауст – дух, а Гёте пытается показать ограниченность разума. В общем, как-то все это перемешал, прицепил одно к другому и сдал сочинение профессору.
Профессор требовал, чтобы мы приходили к нему по одному и обсуждали с ним свои работы. Я пошел – ожидая самого худшего.
Он сказал:
– Вводный материал хорош, а вот о самом «Фаусте» написано маловато. Но в общем совсем неплохо: четыре с плюсом.
Я снова вывернулся.
А теперь о философии. Курс ее читал старый бородатый профессор по фамилии Робинсон, говоривший очень невнятно. Я приходил в аудиторию, профессор что-то мямлил, а я не понимал ни единого слова. Другие студенты вроде бы понимали профессора лучше, но и те слушали его без особого внимания. У меня в то время появилось откуда-то маленькое сверло, примерно на одну шестнадцатую дюйма, и я коротал время в аудитории, вертя сверло в пальцах и высверливая дырки в подошве своего ботинка – и так неделя за неделей.
Как-то раз профессор Робинсон произнес в конце занятия: «Бу-бу-бу-бу-бу…» – и все вдруг разволновались! Начались разговоры, споры, и я догадался, что он, слава богу, сказал наконец нечто интересное! Вот только что?
Я задал кому-то этот вопрос и услышал:
– Мы должны написать сочинение и сдать ему, срок – четыре недели.
– А тема?
– То, о чем он с нами целый год разговаривал.
Меня словно громом поразило. Единственным, что мне удалось расслышать за весь семестр, было произнесенное на повышенных тонах «бубубупотоксознаниябубубу», а следом – плюх! – снова словесная каша.
Этот самый «поток сознания» напомнил мне о задачке, которую много лет назад предложил мне отец. Он тогда сказал: «Допустим, на Землю прилетают марсиане и эти марсиане не знают, что такое сон, они вечно бодрствуют. Ну, неизвестно им это нелепое явление, которое мы именуем сном. И они задают тебе вопросы: „Что ощущает засыпающее существо? Что с вами происходит, когда вы погружаетесь в сон? Останавливается ли у вас мышление, или ход ваших мыслей становится все более иии боооолее меееедлееееенныыыыыыым? Как на самом деле происходит отключение сознания?“»
И тут мне стало интересно. Я решил поискать ответ на вопрос: как завершается поток сознания, когда человек засыпает?
И в следующие четыре недели я тратил послеполуденные часы на выполнение задания по философии. Я опускал в комнате шторы, выключал свет и ложился спать. И наблюдал