Яд Борджиа Линдау Мартин
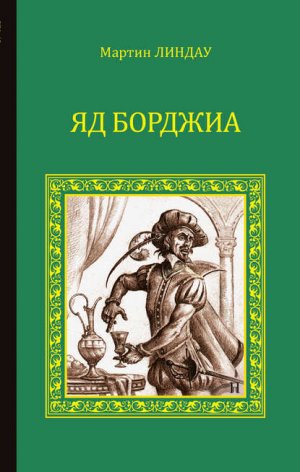
– Тогда, синьор Паоло, в предательстве по отношению к вам, и отец и сын протянули друг другу руки, – упрямо проговорил иоаннит.
Розу понюхать рыцарь хотел,
Розу понюхать он не успел:
Пчелка ужалила рыцаря в нос.
Рыцарь разгневался, рыцарь вскипел,
Выбранил розу и бросил в ручей.
Рыцарь, не слушай ты глупых речей! —
сымпровизировал шут, бросив на всех бессмысленный взор, как бы не понимая, что говорит.
– Нет, рыцарь, такое предательство действительно невозможно! – воскликнул Бембо.
– Разве и он накололся на шипы, что так горько жалуется? – снова начал шут, серьезно взглянув на иоаннита, но затем внезапно с выражением почти идиотской глупости перевел свой взгляд на Орсини, который в первый раз внимательно посмотрел на него.
– Господа, разве есть что невозможное для Борджиа? – воскликнул иоаннит, не обращая внимания на умоляющий взгляд Бембо. – Почему, говорят, убит герцог Гандийский?
– Один Роланд за одного Оливера. Цезарь стал герцогом Романьи! – со смехом сказал Лебофор.
– Но позвольте, – сказал посол, – ведь вам известно, синьор Орсини, что в интересы республики вовсе не входит упрочение мира между вашей партией и Цезарем. Но при печальном изменении обстоятельств у Борджиа, несомненно, были все причины действовать по отношению к вам, как к главному деятелю перемирия, открыто и честно.
– Кроме того, – сказал Орсини, хватаясь за подсказку, – Цезарь в доказательство своей искренности рассказал мне все о тайных переговорах, происходивших между ним и Марескотти из Болоньи, которые из ненависти к Бентиволли хотели сдать ему город.
– Он выдал их, потому что не верил, что они выполнят свое обещание, – ответил неуступчивый иоаннит.
– Во всех случаях он – позорное пятно рыцарства, недостойный изменник! – с жаром воскликнул Лебофор.
– Хватит ли у вас, рыцарь, мужества высказать это ему в Риме? – спросил Макиавелли.
– И в Риме, и в его логовище!
Легкий жест шута прервал ответ, готовый сорваться с языка Макиавелли.
– Нет, вы не можете винить яйца за то, что из них выходят крокодилы, – проговорил он со своим обычным ничего не выражающим взглядом, странно противоречившим его полным смысла словам.
– Мне больно слышать, господа, ваши неразумные речи, – сказал Бембо, – поистине, вы оскорбляете нашу святую матерь-церковь, понося таким образом его высшего земного главу. Кроме того, вы подрываете самое основание веры, ибо может ли быть божественной та религия, которая своим представителем имеет такое чудовище?
– Он избран благодаря симонии[14], и не по праву удерживает за собой власть, пока его не поразит небесный гром! – страстно возразил иоаннит.
– Или союз римского дворянства, который, как я слышал, замышляет это, – проговорил флорентиец.
– Небесное возмездие уже покарало его избирателей за их прегрешение против Святого Духа, и сделало это собственными руками избранника, – продолжал иоаннит. – Кардинал Колонна в изгнании, у Юлиана делла Ровере, Асканио Сфорца и Савелли – конфисковано имущество, и они, чтобы спасти себе жизнь, сами бежали из Рима, старый кардинал ди Капуа отравлен, кардинал Орсини и архиепископ флорентийский будут уничтожены со своими близкими в очень недалеком будущем.
– И все же возможно, что только пылкая и страстная душа, как у его святейшества, могла возвратить церкви ее блеск и отнятое у нее наследие и что ради этого Небо стерпело его возвышение, – неуверенно сказал Бембо.
– Юрист, солдат и священник! Разве по этому рецепту делают черта, дядя? – спросил шут. – А ведь Цезарь последовательно был ими.
– И все в такой высокой степени! – возразил флорентиец. – Папе Александру, бесспорно, приписали бесконечно больше дурного, чем он заслуживает. Его безмерная любовь к могуществу и к своим детям, его стремление к прославлению своего имени, его могучие, пылкие страсти – все это привело его к ужасным деяниям тирании, но всем этим действиям он дает такое верное направление, что к ним почти нельзя предъявить обвинение в несправедливости. Кто из его жертв не заслужил своей участи?
– Да как вы можете обвинять папу в симонии, когда во время его избрания ни один святой на небесах не славился столькими божескими и человеческими добродетелями, как он? – поддержал его Бембо.
– Возмутительное лицемерие! – возразил иоаннит. – Но я готов допустить, что его сын – наихудший из двух демонов и подстрекает упрямого старика на его ужасные поступки. С тех пор, как Цезарь[15] стал пользоваться влиянием, получилось такое впечатление, что Римом стал править ареопаг[16]. Говорят, что временами он даже чувствует угрызения совести, но поток уже захватил его, и он не может удержаться. Александр – безумный тигр, но Цезарь помесь змеи и тигра.
– Ради вас самих, благородный рыцарь, я дал бы вам совет помолчать в Риме о таких вещах, – очень серьезно сказал посол.
– Мой спаситель будет в Риме под моей защитой, – с горделивым румянцем на бледных щеках воскликнул Паоло Орсини, – мы, Орсини, не подчиняемся там ни папе, ни Цезарю!
– Я знаю, ваш род очень могуществен, благородный синьор, – ледяным тоном ответил Макиавелли, – но как-то странно звучит ваша речь для вассала святого престола.
– Если есть такая низость, которой не совершил бы Цезарь, хотел бы я знать, как он ее называет на исповеди! – сказал Лебофор. – О, в нашей стране его задушили бы при рождении, если бы можно было прочитать его душу на лице его.
– Почему же вы не умертвили своего короля, горбатого Ричарда, точный портрет Цезаря? – сухо спросил Бембо. – Освещало ли когда-нибудь солнце более мрачного злодея?
– Не смейте оскорблять короля Ричарда, или, клянусь небом… Впрочем, ведь вы не знаете, что это именно он был тем храбрым королем, который в утро перед битвой у Босуорта посвятил меня в рыцари и со своей шляпы отдал мне цветок дрока! – с жаром воскликнул Лебофор.
– Ого, смотрите-ка!.. Какой же великий подвиг совершили вы, рыцарь? Ведь, по-моему, тогда вам едва ли могло быть больше двенадцати лет? – спросил Макиавелли. – Скажите мне это, пожалуйста!.. Ведь я знаю, что этот король редко делал что-нибудь без достаточной причины.
– Мой отец, мой брат и их приближенные ночью покинули короля Ричарда, чтобы соединиться с Ричмондом, теперешним королем, – ответил Лебофор, – я же, будучи в полном неведении о злодеяниях Ричарда и восхищен лишь его рыцарской храбростью, потихоньку вернулся в его лагерь. Когда Ричард услыхал об этом, он поклялся святым Павлом, что я один стою больше всей моей семьи, и, воскликнув: «О, мой Босуорт, ты будешь твердыней!», обнажил свой меч и так сильно ударил меня, посвящая в рыцари, что я несколько недель чувствовал на спине это посвящение.
– Поистине, брат Реджинальд, хороший нотариус мало заработал бы, составив только реестр преступлений Цезаря, – снова начал неугомонный иоаннит.
– Преступления, которые приписываются ему, должны бы вы сказать, это было бы справедливее, – с жаром возразил Макиавелли. – Но что же доказано из преступлений Борджиа? Разве непреложная истина – обвинения его злейших врагов, которых он заставил отказаться от своих несправедливых и наглых притязаний? Папа Александр хочет восстановить права церкви над своими вассалами, они оказывают ему противодействие, он заставляет их подчиниться, и поэтому он – тиран! Князья церкви восстают против своего верховного главы, он отправляет их в изгнание, конфискует их имущество, поэтому он – угнетатель! Его старший сын падает под рукой неизвестного соперника, значит, его убил родной брат!
– Зятья папы один за другим погибают от руки убийцы, и молва твердит, что здесь дело нечисто, – насмешливо подражая Макиавелли, продолжал иоаннит. – Епископ цельтский отравлен, и в народе идет слух, что его убили, потому что он посмел утверждать, что Цезарь возил во Францию буллу, благодаря которой король Людовик мог развестись со своей худощавой кузиной и жениться на пышной вдове из Бретани[17]. Борджиа ведут войну с римским дворянством и уничтожают его, обращают затем свое оружие против вассалов Романьи, и тут простодушно пытаются уверить, что они на развалинах всеобщей свободы утверждают собственную тиранию.
– Некоторые старые беспутники умирают скоропостижно, следовательно, Цезарь отравил их? – начал снова задетый Макиавелли.
– Нет, и молодые также! – возразил иоаннит. – За жизнь своего бежавшего брата Зема султан Баязид обещал триста тысяч дукатов, и Зем умирает от яда в лагере французского короля, который думал, что он принесет ему пользу в крестовом походе против поганых турок.
– И из этого, конечно, следует, что в его смерти виновны Борджиа? – сказал флорентиец. – Если Баязид за жизнь брата хотел заплатить такую высокую цену, неужели он не мог найти для этой цели другие руки?
– Лучшим ответом на это может быть объяснение Цицерона. На вопрос: «Кто неизвестный виновник преступления», ответившим: «Тот, кому это выгодно», – сказал иоаннит. – Кто, как не Цезарь, получил все наследство после молодого турка, его гарем и все его сокровища, которые он после своего неудачного мятежа привез с собой в Италию?
– Государство – законный наследник всех чужестранцев, умирающих на чужбине и не оставляющих после себя наследников, – промолвил Орсини, и святейший престол был волен передать свои права кардиналу Валенсийскому, которым был тогда Цезарь.
– Вы хотите сказать, благородный синьор, что кардиналу Валенсии угодно было захватить это наследство, а протонотариусу Джованни Баттисто Феррара – передать ему от имени святейшего престола, – возразил иоаннит. – Кардинал Валенсийский! Вот почтенный священник!.. Ведь он похитил из монастыря постриженную монахиню, к тому же происходившую из самого благородного в Риме рода Колонна.
– Простите, рыцарь, Орсини не уступают в благородстве ни одному роду, наши вольные грамоты – самые древние, которые когда-либо представляла церковь, – с надменной резкостью произнес Паоло Орсини, задетый, с одной стороны, едкими замечаниями иоаннита относительно его невесты и ее родни, а с другой – ненавистью и вечным соперничеством, с незапамятных времен царствовавшими между родами Орсини и Колонна. – Кроме того, – прибавил он, – уже давно всем известно, что несчастную девушку увлек на вечную погибель султан Зем.
– Неправда! Благородный турок допустил это лишь как предлог, чтобы замаскировать отказ папы Александра разыскать девушку и покарать ее, как предписывают канонические правила, – серьезно сказал иоаннит.
– Скажите пожалуйста, мессир Бембо, в чем заключается эта кара? – спросил сир Реджинальд, обращаясь к священнику.
– Ее надлежало бы замуровать в стену, – с серьезным выражением лица ответил Бембо.
– Тогда честь и слава папе Александру и за то, что он не привел этого наказания в исполнение, я от души пью за его здоровье! – воскликнул Орсини, залпом осушая свой стакан.
– Господа, уже поздняя ночь, а наш разговор точно не доведет нас до добра, я предлагаю лучше отправиться спать, – зевая, заметил Макиавелли. – Вам же, синьор Паоло, покой необходимее, чем кому-либо другому.
– Но я не хотел бы долго предаваться ему, – возразил Орсини.
– Кто знает, что слышали и поняли из нашего разговора солдаты Борджиа и что у них на уме? – и его взор беспокойно упал на шута, уже несколько часов спавшему на своем неудобном ложе.
– Я хотел бы сторожить вас и бодрствовать, шагая взад вперед по комнате, – сказал Реджинальд.
– Мы будем с тобой меняться, брат, – серьезно предложил иоаннит, – а то ты завтра упадешь с седла, – проговорил он и улыбнулся.
– Это, бесспорно, будет самым лучшим, – заметил Бембо, которому очень хотелось спать и который вместе с тем боялся уснуть. – Если бы я не так устал от тряски своего мула, я с удовольствием согласился бы караулить всю ночь один.
С этими словами он стал устраиваться насколько возможно удобнее, и быстро заснул, не дожидаясь конца спора, начавшегося между Орсини и его спасителями, потому что Паоло также захотел принять участие в этой, по-видимому, ненужной и лишней охране. Но то, что рассказывалось о коварстве и жестокости Борджиа, произвело на всех такое сильное впечатление, что эта предосторожность никому не показалась смешной или ненужной.
Глава Х
От испытанных волнений и беспокойств Паоло Орсини почти всю ночь не сомкнул глаз. Он первый поднялся с восходом солнца и торопил путников к отъезду, чтобы до наступления жары добраться до долины. Его нетерпеливое желание быть в Риме перешло почти в страсть и приняло довольно неприличный характер, когда он потихоньку стал уговаривать Лебофора тронуться в путь, не дожидаясь Макиавелли и его свиты, по его объяснению, они могли только задержать их. Если бы Реджинальд согласился на такое нарушение приличий, все равно этот план был разрушен шутом, который внезапно вскочил со своего ложа и громко затрубил в лежавший около него рог. Этими звуками он мог пробудить окаменевшего короля Артура со свитой в уэльской пещере. Действие его было мгновенно, и Макиавелли, далекий от мысли расстаться с нежданными попутчиками, протирая глаза, стал упрашивать их не спешить, а он со своей стороны готов был скорее потерять лишний день, чем лишиться их общества.
Во всяком случае старания Паоло ускорили отъезд. Отслужили обедню, настоятель торжественно благословил всех, и путешественники, щедро одарив монастырь, после скудного завтрака, громыхая доспехами, словно горный поток, выехали из монастыря.
Отряд двигался в порядке, насколько допускала это извилистая горная дорога, то сбегавшая в долину, то поднимавшаяся на утесы, но все время следовавшая вдоль реки. Орсини и Лебофор совершали путь рядом, причем Паоло ехал на лошади одного из английских солдат, который и пешком не отставал от своих конных товарищей.
Быть может, именно в различии характеров итальянского дворянина и его нового друга был залог влечения, которое оба почувствовали друг к другу. Открытый, веселый и беззаботный характер англичанина доставлял некоторое удовлетворение мрачному, страстному и подозрительному состоянию духа итальянца. Живость и ничем не омраченное добродушие рыцаря солнца, совсем не в духе того страшного времени, показывали итальянцу природу человека. Для пресыщенного и образованного ума было приятно выслушивать простые рассуждения человека, почти не вкусившего книжной премудрости. В описываемое время английское дворянство выделялось, главным образом, своим физическим развитием.
Бембо и Макиавелли вели между собой серьезный разговор, и оба напрягали все свои усилия, чтобы скрыть свое истинное мнение и выпытать что-либо друг у друга. Иоаннит, по-видимому, не слишком вслушивался в разговор и лишь изредка по его лицу пробегала насмешливая улыбка, когда Паоло Орсини расточал чрезмерно горячие похвалы донне Лукреции. Шут носился кругом, словно мотылек, то впереди, то сзади поезда. Он подшучивал над кем-нибудь из путников, и в следующее мгновение уже гнался за пчелой, и снова возвращался, увенчанный репейником и чертополохом. Орсини время от времени беспокойно посматривал на него, но на подвижном лице шута трудно было что-нибудь прочесть.
Путешественники почти не встречали людей на этой пустынной дороге, лишь изредка им попадался одинокий пилигрим, или в отдалении виднелся молящийся отшельник, вышедший из своей пещеры. Путники продвигались по извилистой дороге у подножия горы, и Бембо в прекрасном расположении духа развивал перед своими не особенно внимательными слушателями научные исторические теории. Вдруг они увидели перед собой разрушенные своды моста, построенного из громадных мраморных глыб и некогда соединявшего обе стороны узкого прохода. На вершине показались две фигуры: одной была серна, спокойно пасшаяся на краю разрушенной арки, другая, насколько можно было судить по яркому блеску, – латник в полном вооружении, быстро исчезнувший при их приближении. За скалистыми утесами под мостом высилась крутая гора, покрытая кипарисами и оливковыми деревьями, среди которых виднелись бесчисленные террасы цветущего города.
В первый момент Бембо пытался убедить себя, что он ошибся, что блестящее вооружение только показалось ему, но, пока он размышлял, в некотором отдалении раздался звук трубы, на который сейчас же отозвался другой, и внезапно из рощи появился отряд всадников в блестящем вооружении, с копьями наперевес и развевающимися знаменами. Наши путешественники немедленно остановили лошадей и с изумлением смотрели на приближающийся отряд.
– Может быть, это – паломники, направляющиеся в Рим? – нерешительно сказал Бембо.
– Зачем же они вооружены и повернулись к Риму спиной? – возразил иоаннит.
– Может быть это – друзья синьора Паоло, пожелавшие видеть своими глазами, как он добрался до цели своего путешествия? – пожав плечами, промолвил Макиавелли.
– Не думаю, чтобы мои друзья решились бы в таком количестве покинуть Рим, не зная, кого при своем возвращении могут встретить у его ворот! – воскликнул Орсини. – Но нет!.. Разве вы не видите? Это – знамя церкви: ключи креста на хребте и меч святого Петра!
– Эй, копья наперевес! – скомандовал сир Реджинальд, оборачиваясь к своим людям, но с удивлением увидел, что отряд, окружавший его, состоял из всадников свиты Борджиа, которые, тем не менее, моментально опустили копья.
– Берегитесь, господа, чтобы на вас не напали одновременно сзади и спереди! – тихо предупредил Макиавелли и насмешливо добавил: – Зато мы с вами, брат Бембо, можем быть вполне спокойны, теперь вы несомненно найдете необходимым принять на себя свою настоящую роль посланника герцога Феррарского.
– Приберегите свои остроты до более подходящего времени, мессир Никколо, – с беспокойством ответил Бембо. – Мы, во всяком случае – паломники, по обещанию направляющиеся в Рим на святой юбилей. А, может быть, эти люди – просто вассалы какого-нибудь дворянина, объезжающие лошадей, или фуражиры из Ронсильоне.
– Смотрите, и шут с ними! Надеюсь, что они ничего дурного не сделают болтуну, но зато я-то лично погибну! – со спокойствием отчаяния проговорил Орсини.
– Я, со своей стороны, не покину вас, жениха донны Лукреции, и в доказательство искренности своего обещания готов смешать свою кровь с вашей, – сказал иоаннит и, обнажив кинжал, слегка разрезал им руку, и окровавленное оружие подал затем Орсини.
Синьор Паоло воодушевленно разорвал свой камзол и, сделав кинжалом надрез на груди около самого сердца, смешал свою кровь с кровью иоаннита. Лишь только он выполнил эту часть торжественного обряда, как сир Реджинальд схватил, в свою очередь, окровавленное оружие, задумался ненадолго, как лучше ему доказать свою дружбу, а затем, обнажив свое левое плечо, вырезал на нем небольшой крест. Благодаря этому обряду, считавшемуся у рыцарства самым священным и ненарушаемым, три рыцаря стали братьями по оружию. Лишь только все было кончено, приближавшиеся всадники, гремя оружием, остановились под аркой разрушенного моста.
Худощавые, но высокие и мускулистые фигуры всадников, их камзолы из буйволовой кожи, неимоверно длинные копья, круглые щиты, большие бороды, небольшие, но огненные кони и масса оловянных образков, висевших на груди, – все это обличало в них испанцев или, вернее, каталонцев.
Один из всадников – по-видимому, предводитель – отделился от отряда и настолько медленно приближался к путникам, что они имели достаточно времени, чтобы хорошо рассмотреть его. Черты лица его были резки и грубы, а его крупные ноздри, толстые губы, оливковый цвет лица и жесткие волосы выдавали его арабское происхождение. Он был среднего роста, мускулист и подвижен. Выражение глаз было холодно, серьезно и решительно.
Приблизившись к паломникам, незнакомец в знак уважения склонил свое копье и внимательно, а не угрожающе осмотрел путников. Иоаннит пришпорил лошадь и гордо поднял свое копье, незнакомец моментально остановил своего коня, и оба встали как вкопанные.
– Что вам нужно от нас, кондотьер[18]? – спросил иоаннит, убедившись, что у его противника не было золотых рыцарских шпор. – Для чего вы преградили нам дорогу?
– Меня зовут дон Мигуэль де Мурведро, обыкновенно же – Мигуэлото, я – полковник и начальник стражи в Ронсильоне, достопочтенный рыцарь, – ответил каталонец. – Поэтому мне кажется, что я имею некоторым образом право спросить вас, что означает здесь, в Нарни, ваш вооруженный отряд? Я не намерен входить в долгие препирательства, так как имею точный приказ своего начальника, подесты Романьи, нетерпящий отлагательства и имеющий целью освобождение нареченного зятя его святейшества, высокоблагородного дона Паоло Орсини, которого захватили какие-то неизвестные разбойники и спрятали в пещере у Мраморного водопада.
– Тогда спокойно можете повернуть назад, ведь я освобожден и нахожусь в полнейшей безопасности, – сказал Паоло Орсини, подъезжая к иоанниту и бросая испуганный взгляд на закованного в железо всадника, пробудившего в его душе смутное подозрение и напомнившего своим видом, что перед ним человек, которого молва называла одним из самых ужасных орудий Цезаря Борджиа, участника всех его кровавых злодеяний.
– В таком случае, высокоблагородный синьор, я буду иметь честь сопровождать вашу светлость до Ронсильоне, – произнес кондотьер, сходя в знак почтения с лошади. – Дон Ремиро ожидает вас там, и оттуда сам будет сопровождать вашу милость в Рим.
– Благодарю вас, храбрый воин, благодарю и пославшего вас, – отвечал Орсини, – но в этом нет надобности. Я нахожусь сейчас в полнейшей безопасности.
– Покорнейше прошу вашу милость не забывать, что я – солдат, который должен повиноваться приказу, а подеста строжайше приказал мне доставить вас в Ронсильоне, – ответил Мигуэлото таким тоном, в котором одновременно слышались и лесть и угроза. – После такого ужасного случая дон Ремиро никому, кроме себя, не доверяет охрану вашей особы, которая важна для государства и так дорога герцогу, его повелителю. За свое же ослушание я могу поплатиться жизнью.
– Вы хотите сказать, что намерены захватить этого синьора против его воли? – спросил Лебофор, нетерпеливо махая копьем.
– Я обязан исполнить то, что мне приказано заместителем герцога Романьи, рыцарь, – отвечал каталонец с улыбкой, которая скорей омрачила, чем осветила его лицо. – И если я не ошибаюсь, то у вас и спереди, и сзади копья, которые принадлежат его светлости герцогу. Поэтому я прошу благородных рыцарей подумать хорошенько. На этом пути вы не можете и не должны идти иначе, как только под моей охраной и только в Ронсильоне.
Приведенный таким ответом в бешенство, Лебофор поднял свое копье, но Бембо и Макиавелли поспешно схватились за него, а каталонец, сделав вид, что ничего не произошло, низко поклонился и возвратился к своему отряду.
– Что же делать? – унылым голосом протянул Бембо. – Сопротивляться немыслимо!
– До тех пор, пока один идет против десяти, мои англичане не сдадутся? – воскликнул Лебофор.
– Я советовал бы вам поразмыслить, кто находится впереди и сзади вас, – промолвил Макиавелли.
– Нет, мои храбрые братья, ради меня вы не должны так безрассудно пасть в неравном бою, – печально произнес Орсини, но, немного погодя, более веселым голосом прибавил: – Дон Ремиро не так враждебно настроен против меня, но вот что касается этого Мигуэлото… Вы, пожалуй, будете смеяться надо мной, но мне кажется, что он и голосом, и фигурой походит на атамана той черной шайки, которая захватила меня!
– Так трубите атаку и, если эти негодяи сзади нас только двинутся с места, они увидят, кто у них в тылу! – горячо воскликнул молодой рыцарь солнца.
– Успокойся, брат, это была бы верная гибель! Но горе мне, если я покину кого-нибудь из моих кровных братьев! – проговорил более рассудительный иоаннит. – Мы будем сопровождать синьора Паоло в Ронсильоне, и, может быть, наше присутствие предотвратит злой умысел, если таковой имеется.
– Что иного можно ждать от Борджиа? – проворчал Бембо. – Кроме того, я не раз слышал, что подозрение наталкивает людей на дурное, как нагромождение мешков с песком ведет осаждающих всегда к самому опасному месту.
Но, несмотря на это и другие предупреждения предусмотрительного и трусливого Бембо, рыцари решили ехать вместе или вместе погибнуть. Орсини должен был сообщить об этом решении Мигуэлото, Макиавелли выразил согласие следовать вместе с ними, а Лебофор отправился к своим людям предупредить их на всякий случай.
Вскоре Орсини и Макиавелли вернулись с известием, что Мигуэлото вполне согласился принять поставленные ему условия.
Таким образом, дело уладилось к общему удовольствию, и Мигуэлото приказал своим людям ехать вперед в Нарни, а сам со стальным шлемом в руках ждал под аркой, пока не прошли рыцари, посланник и Бембо с английскими латниками. Затем проследовал конвой Цезаря, и получалось, что маленький отряд окружен со всех сторон.
Мигуэлото, вероятно, чувствовал, что его присутствие могло пробудить нежелательные для него воспоминания, поэтому держался на некотором расстоянии в арьергарде.
Вскоре появился истинный виновник его беспокойных поисков в лице шута. Свистя и напевая, он добежал до каталонца и с удивительной ловкостью вскочил сзади него на лошадь.
– Вперед! – повелительным тоном приказал он. – Если даже нас и заметят, так сочтут это дурацкой выдумкой с моей стороны. Клянусь Мадонной, немалого труда мне стоит привести в порядок все нити, так по-идиотски глупо спутанные твоей бандой.
– Клянусь бородой святого Яго, благородный господин, я здесь совсем не виноват! – ответил Мигуэлото. – Дон Ремиро так строго смотрит за всем, что без его позволения мои люди никак не могли ничего сделать. Но, когда я предъявил ему неограниченные полномочия вашей светлости, у него хватило наглости показать мне приказ, собственноручно подписанный его святейшеством, по которому он под страхом смерти обязан доставить дона Орсини в целости до ворот Рима, или, если благородный синьор предпочтет свое инкогнито, следить за тем, чтобы по дороге с ним не случилось какого-либо несчастья. Когда я спросил его, как он пришел к мысли, что против синьора Паоло замышляется недоброе, он ответил мне, что его святейшество только опасался, и если мое поручение не касается Орсини, то мне ничто не мешает исполнять приказания вашей светлости.
– Вот как? И больше ничего? – спросил шут.
– Нет, государь, когда я вынужден был ознакомить его с вашим решением, дон Ремиро битый час спорил со мной, что вы не могли задумать такое предательство, как он назвал это, и наконец, заявил, что он – подеста церкви, а не герцога Романьи.
– Ага, так он думает так? – воскликнул Борджиа. – Неблагодарная гадина! Для того ли охранял я этого кровавого судью, эту крысу от народных проклятий, защищал его от гнева отца, чтобы услышать такую дерзость?
– В Риме, вероятно, найдутся люди, которым будет приятно видеть, какую ненависть против вашего владычества породила безжалостная справедливость подесты в сердцах народа, – сказал каталонец.
– Прекрасно!.. Пусть видят, как я умею пользоваться людьми, чтобы они оказывали мне только добрые услуги, а не служили мне во вред, – воскликнул Борджиа. – Ремиро привел Романью к покорности и к повиновению. А что, если я отдам его народу, как козла отпущения?
– Я думаю, у ваших друзей не найдется достаточно причин еще любить его. Я знаю, что между Ватиканом и Ронсильоне происходит очень оживленная переписка, – проговорил Мигуэлото. – Даже когда я ясно высказал дону Ремиро ваше намерение, он побледнел, как гусиная печенка, и согласился только на то, чтобы я захватил Орсини и спрятал его до тех пор, пока он не услышит вашего желания из собственных ваших уст, то есть, пока он найдет время известить об этом Орсини в Риме и Вителли в Кастелло, и в случае моего неповиновения грозил распилить меня.
– Распилить тебя? Этот арагонец учит меня новому способу убивать, такого я еще до сих пор не знал… хорошая кара для изменника! Разве он к тому же и не богат? Богат, если принять во внимание недостаток средств в государстве и вымогательство у бедного люда!
– Поэтому-то он так усердно стремится к сиянию святейшего отца, – ответил каталонец. – Он больше ненавидит вас, чем любит, и потому повсюду ищет помощи. Свои награбленные богатства он ради безопасности хранит в Ронсильоне.
– Как ты думаешь, можно положиться на этих солдат? – с легкой улыбкой спросил Цезарь.
– Их страх перед Ремиро может быть побежден только вашим личным вмешательством. Я, как известно вашей светлости, – офицер почти без власти.
– Ну, ну, ты на пути к ней, – ответил Борджиа.
– При некоторых обстоятельствах вы дали мне милостивое обещание…
– Говорю тебе, что я не забыл его! Ты сам вредишь себе, напоминая мне про мои обещания, потому что я приберег для тебя гораздо лучшую награду! – с нетерпением перебил его Цезарь. – Разве я не осыпал тебя милостями, с тех пор как ты помог мне устранить ту тень, которая покрывала меня? Сколько времени прошло, негодяй, как ты был в Риме?
– Ваши приказания застали меня там, монсиньор, – ответил Мигуэлото.
– Ага, тогда я могу узнать новости. Что поделывает мой угрюмый отец? Что он думает о наших последних деяниях?!
– Как всегда, ваша милость, он радуется возвышению своего дома и пугается средств.
– Нет, это не все! Что сказал он моему посланному, который принес ему ключи Фаэнцы? – мрачно спросил Борджиа. – «Цезарь делает из меня великана, но великана в цепях!» Да?
– Действительно, его святейшество становится под старость ворчливым и подозрительным, – согласился Мигуэлото.
– Я слышал, что на время юбилейных торжеств комендантом замка Святого Ангела он назначил старого дурака, сиенского кардинала Никколомини? – резко спросил Цезарь.
– Какое же это может иметь значение, синьор, когда находящиеся в замке немцы и гасконцы до последнего человека преданы вам? Но становится грустно, когда подумаешь, как много зависит от капризов вспыльчивого старика, на которого еще находят порой угрызения совести!
– Маловерный, ты должен с большим уважением отзываться о наместнике святого Петра! – шутливым тоном воскликнул Цезарь. А какие вести из Милана? В то беспокойное время, когда я объезжал свои цитадели, я ничего не получал оттуда.
– Вчера через Ронсильоне проезжал герольд французского короля из Милана с неприятным, как я опасаюсь, посланием от короля его святейшеству и вам.
– Французский король в Милане? Шутишь, мой храбрый Мигуэлото! – с удивлением воскликнул Цезарь.
– Как, монсиньор? Неужели же вы действительно не слышали, что французы напали на Милан и уничтожили всех своих противников и что герцог Сфорца вследствие предательства швейцарцев в настоящее время – их пленник?
– Мигуэлото, ты сошел с ума! Этого не может быть! По последним известиям, их фуражиры были в Савойе! – недоверчиво проговорил Цезарь.
Но дальнейшие подробности, сообщенные ему его наперсником об удивительной победе, одержанной Людовиком Двенадцатым над миланцами после их вторичного возмущения, не оставляли места никаким сомнениям.
– Вот тема для нравственных размышлений о падении дурных правителей! – оправляясь от изумления, проговорил Цезарь. – Такая изобретательная голова, и с такой радостью принятый снова своими подданными – как это могло случиться? Может быть, Сфорца слишком дурно платил своим наемникам, или, наоборот, слишком хорошо? Вот загадка, которую ты должен разгадать мне, друг Никколо! Эти проклятые швейцарцы! Кто еще будет доверять им?
– Конечно, не ваша милость. Я сомневаюсь, чтобы они забыли кровавую бойню, которую вы устроили им в Риме за то, что их братья в войске короля Карла разрушили дом вашей матушки, – ответил Мигуэлото.
– Плохо ты знаешь людей, если думаешь, что их легковерию есть пределы! – заметил Цезарь.
– Тем не менее его святейшество, по-видимому, не разделяет того же мнения, так как тех, кого он своим вмешательством спас от наших мечей, он назначил в личную охрану донне Лукреции, моей повелительнице, – с особенным ударением проговорил Мигуэлото.
– А! – был единственный ответ Цезаря, который, тем не менее, имел глубокое значение для его наперсника.
– А при известии о счастливом возвращении вашей светлости, – продолжал Мигуэлото, – его святейшество присоединил к ним еще сотни легковооруженных албанских беглецов, которые наводняют всю страну около Непи.
– Непи! Что делает там донна Лукреция? – с напускным равнодушием спросил Цезарь.
– Молится и кается… должно быть, за чужие грехи, – ответил Мигуэлото с кривой усмешкой. – Вероятно, в честь ваших побед и вашего счастливого возвращения его святейшество провозгласил свою дочь герцогиней Непийской. Поэтому она очень часто бывает в Непи, где имеется сильная крепость.
– Не шути со мной, Мигуэлото! – сказал Цезарь таким суровым тоном, что насмешливое настроение его спутника исчезло в одно мгновение, но затем, как будто забыв об этом, он прибавил: – Однако, действительно, этот неожиданный успех французов меняет все мои планы! Кто мог бы предположить такую внезапную перемену счастья!
– Ваши враги, благородный господин, теперь повсюду поднимут голову, – озабоченно проговорил Мигуэлото.
– А все-таки из этого обстоятельства может получиться некоторая выгода, – возразил Цезарь. – Я не могу больше рассчитывать на французов, а папа разрешит мне для себя самого собрать итальянское войско, что, несомненно, посоветует ему и Никколо.
Мигуэлото с легкой гримасой покачал головой.
– Он скорее заключит мир с Колонна, чем даст вам в руки такую силу.
– Не говорил ли я, что даже эта неудача с Орсини предназначена судьбой к моему же благу! – воскликнул Цезарь. – На всякий случай мне необходим мир с его партией, чтобы не допустить Колонна, и потому я радуюсь его спасению. Но вернемся к нашим новостям. Что поделывает кардинал Борджиа, мой двоюродный братец? Ему что-то нездоровилось, когда он уезжал от меня из Фаэнцы.
– Ах, ваша светлость, он скончался по дороге в Рим от какой-то внезапной болезни, словно это была чума. Прошло уже три дня со дня его смерти, – с лицемерным выражением грусти произнес Мигуэлото.
– Он не был другом мне, и я только сожалею, что он умер, именно возвращаясь из моего лагеря. Будут говорить, что я отравил его, тогда как он слишком много ел дынь. Но у тебя найдутся лучшие вести о моем дорогом друге, монсеньоре Анвелли, архиепископе Козенцы, секретаре святого престола и вицелегате в Витербо?
– В день моего отъезда из Рима его нашли в постели мертвым, после хорошего ужина накануне! – расхохотался Мигуэлото.
– Бедняга, это произошло так внезапно! Но ведь такие святые люди постоянно готовы к своему последнему часу, – улыбаясь ответил Цезарь. – А какую же часть его наследства назначил мне отец?
– Как я слышал, оно все предназначено на торжество вашего приема и на празднества святой недели. Но меня удивляет, что ваша светлость ни разу не спросила о своей царственной супруге.
– Так она еще жива и в Риме? – равнодушно спросил Цезарь.
– Я не слыхал, государь, чтобы она умерла! – испуганно ответил Мигуэлото.
– Ну, тогда она, бесспорно, жива. Скажи, а донна Фиамма, должно быть, очень раздражена моим браком, – продолжал Цезарь.
– Ваша светлость должны были видеть ее, когда я полгода тому назад передавал ей ваше письмо из Франции с известием о вашей свадьбе, – проговорил Мигуэлото с легким ужасом, который у человека его натуры имел особое значение.
– Она, поди, металась, кричала и безумствовала, как всякая брошенная девушка? – с презрительной усмешкой воскликнул Цезарь.
– В продолжение нескольких минут, синьор, она не проронила ни звука, а уставилась на меня неподвижным взором. Ее лицо побледнело, как мрамор, и искривилось так, словно Медуза на Капитолии! – ответил Мигуэлото. – Затем у нее вырвался такой вздох, будто разорвалось сердце, и, тем не менее, у нее скатилась только одна слеза, большая и тяжелая, как капля расплавленного свинца. Она сейчас же презрительно вытерла ее и дала мне драгоценный перстень – за хорошую новость, как она сказала. Потом она расхохоталась, сказала, что день для свадьбы выбран удачно, и без чувств упала на пол!
– Я поквитался с ней за султана Зема, – поспешно проговорил Цезарь.
– Нет, ваша светлость. Если вы хотите знать мое мнение, то вы приревновали ее без всякого повода, – боязливо заметил Мигуэлото.
– Может быть! Может быть, я думаю так же, как и ты, но ты не знаешь, как приятно иметь наготове ответы беснующейся женщине!.. И ты увидишь, как легко уверить эти глупые души, когда они любят, если только дать себе труд произнести несколько ласковых слов и лицемерных обещаний. Сначала женщина будет плакать и безумствовать, но затем она успокоится, как море после бури, когда проглянет солнце. Ведь любовь в сердце женщины даже в то время, когда она раздражена, – солнце, лишь омраченное тучами. Стремительность ее собственной бури проложит путь золотому лучу, и после пережитых волнений все будет еще спокойнее и лучше. Посмотри, какой дивный ландшафт внизу!
Действительно, путешественники поднялись на возвышение среди гор, образующих долину Нара. Они видели отсюда тибрские равнины. Внизу долина была покрыта лесами, а посредине протекала знаменитая река, извиваясь, словно громадная золотая змея. У подножия горы, на которой находились путники, возвышались освещенные розовым светом колонны римских руин. По другую сторону реки простиралась бесконечная равнина, на которой паслись стада буйволов. Цепь синеватых гор закрывала вид с севера.
– Там Непи! – сказал Мигуэлото, останавливая лошадь и указывая налево, где на вершине крутой горы виднелись серебристые зубцы древнего собора.
– Какую же епитимью исполняет Лукреция в Непи? Может быть, она подражает паломничеству Изабеллы Висконти к святому Марку в Венеции, которое было настолько удачно, что при своем возвращении прекрасная дама должна была отравить своего супруга, чтобы защитить его уши от сплетников? – после краткого раздумья спросил Цезарь.
– Нет. Ведь за донной Лукрецией следит строгий доминиканец, – ответил Мигуэлото, – а это – такой человек, который может обуздать Венеру и готов обвинить Диану.
– Ах, доминиканец! Если бы я мог предположить, что Лукреция так высоко ставит Орсини и для его спасения послала монаха, то никакая политика не удержала бы меня, чтобы пощадить его, – сказал Борджиа. – Мне необходимо пролить свет в этом деле. А пока… Но вот они въезжают на мост, мы должны решить, что нам делать.
Предоставим на время итальянского полководца и его наперсника своим размышлениям и присоединимся к конному отряду в долине. Отряд только что переправился через реку, и Бембо в поэтическом экстазе процитировал и тут же перевел своим не понимающим латыни слушателям:
– Смотрите, вот возвышается снежок, покрытый Соракте! – И указал рукой на гору, громадным валом вздымавшуюся на горизонте.
– Святой Орест! – повторили все, и мгновенно обнажились все головы перед воображаемым святым.
– Нет, нет, братия! – промолвил озадаченный Бембо. – Впрочем, все равно, судя по коротким теням деревьев, теперь должен быть полдень, час молитвы Пресвятой Богородице против турок, и мы помолимся вместе.
С этими словами он остановил своего мула, сложил руки и, возведя очи к горячему синему небу, зашептал молитвы Пресвятой Деве, прося у нее защиты не только от турок, но от всех врагов, дальних и ближних, к которым он про себя от всей души присоединял всю династию Борджиа.
– Итак, благословясь, дета, смелей вперед!.. Я твердо верю, что в лице нашем или моих спутников, благочестивых паломников, никакой обиды не будет нанесено святой церкви!
В это время приблизился Мигуэлото. Он уже избавился от своего седока и с большой дороги повернул отряд в сторону, в печальную вулканическую местность, где на больших расстояниях на высоких, как казалось, почти недоступных, вершинах гнездились города и монастыри. Волнистая горная цепь, залитая горячим солнцем, закрывала вид со всех сторон.
Роскошная растительность, покрывавшая болото, скрывала бездонные глубины, которые выдавали исходившие из них сернистые испарения. Непрерывное кваканье лягушек и крики водяных курочек разоблачали эту предательскую роскошь. Наконец, исчезло и это обманчивое великолепие, и перед путниками простиралась черная, покрытая лавой равнина. Затем пошел темный лес, покрывавший спереди склоны горы.
Вид этой местности был не таков, чтобы могли рассеяться опасения Орсини, и, казалось, самому Макиавелли было не по себе, потому что он предложил снова ехать в Рим прямым путем. Но непродолжительное совещание с Мигуэлото успокоило его опасения, и рыцарский отряд вступил в лес, круто поднимавшийся среди высоких утесов. Когда путешественники перебрались через вершину на другую сторону и стали спускаться, дорога была обрамлена дубами необъятной величины и на каждом двенадцатом дереве висел человеческий труп. Судя по одежде, несчастные были крепостными какого-нибудь дворянина, которому вздумалось пометить их крестом на руке.
Шут снова присоединился к Мигуэлото, ехавшему теперь впереди отряда. Окинув равнодушным взглядом трупы повешенных, отравлявших воздух гниением, он спросил, кем и за что они повешены.
– Доном Ремиро из любви к Колонна! – злорадно ответил полковник из Ронсильоне. – Там находится крепость Агапита Колонна, которую он, вопреки приказу подесты и вашему положительному решению, снабдил жизненными припасами и вассалами. Но вместо того, чтобы начать безопасное и легкое обложение, подеста уведомил его, что до тех пор, пока Колонна не согласится сдать крепость, он каждый день будет вешать одного из его крепостных, пока не останется ни одной живой души. И вот результаты. А Агапит не сдается, и бог знает, когда этому будет конец.
– Какой же негодяй этот Ремиро! Он щадит замок только потому, что Агапит – родственник его жены! – с жаром воскликнул Цезарь. – Я скорее простил бы ему, если бы он отправил на тот свет сотню дворян, чем убийство этих рабов! Какая польза мне от этих трупов?
– Подеста – настоящий кровожадный тиран! – сказал Мигуэлото.
– Это верно, – подтвердил Цезарь, – и, прежде чем лишиться такого драгоценного орудия, я должен убедиться в его измене! Твой замысел слишком ясен, мой Мигуэлото, но не воображай, что я поставлю тебя подестой на его место. Ты мне нужен для других целей. Я хочу управлять народом таким образом, чтобы он преисполнился особой любовью ко мне. Но ты, кажется, говорил мне, что Ремиро при помощи почтовых голубей вел изменническую переписку с моими врагами в Риме?
Мигуэлото вытянул свою сухую шею, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости, и затем тихонько ответил:
– Нет, благородный господин. Я говорил, что он сообщался со своей прекрасной женой, Беатрисой Колонна.
– Лишь только ты дашь знать дону Ремиро, что я прошу его впредь до моих дальнейших распоряжений охранять Орсини и что я тайно уехал в Рим, он, если он действительно – предатель, каким я по твоим речам должен считать его, несомненно отправит с этими новостями своих голубей, сказал Цезарь. – И вот, когда ты тайно доставишь меня в крепость, я выберусь в башню ветров и стану со своим соколом Горебеком, который никогда не упускает своей добычи, ждать отправки доном Ремиро голубя. Ты ведь хорошо ходил за ним?
Даже Мигуэлото испугался этого коварного и злобного намерения. Но у него не оставалось времени отговаривать Цезаря, если бы он даже захотел. Пушечный выстрел внезапно разбудил дремавшее озеро, к зеркальной поверхности которого они спускались. Направление выстрела и дым, поднявшийся в тихом вечернем воздухе, указывали, что их приближение было замечено из крепости и их желали встретить с необыкновенным почетом. Это убеждение усилилось, когда при входе в узкою долину появилась группа мужчин, которые, по-видимому, ожидали путников. Цезарь обменялся еще несколькими словами со своим полковником и затем фантастическими прыжками исчез из вида.
Дон Мигуэлото выехал вперед и вскоре достиг ожидавшей их группы, состоявшей из таких же испанских солдат, как и отряд Мигуэлото. Впереди на белоснежном муле, в мантии и шапочке доктора права, в длинной золотой цепи, указывавшей в нем подесту, ехал худощавый сгорбленный человек. Его лицо от забот и дум было изборождено морщинами. Длинные седые волосы, серьезное, озабоченное лицо, сумрачный и беспокойный взгляд – таковы были отличительные признаки безжалостного губернатора Романьи, дона Ремиро.
Мигуэлото выразил подесте желание поговорить с ним наедине, и они поскакали вместе в долину.
Подеста был, очевидно, одурачен известием, принесенным ему ночью африканским скороходом, и с удивлением и страхом слушал теперь, что переодетый герцог соединился с Мигуэлото близ Нарни и приказал ему немедленно принять меры к освобождению синьора Паоло Орсини и что его светлость, узнав дурные новости из Милана, нисколько не сердился на подесту за препятствия, которые тот устроил ему на пути к устранению изменника, но считал необходимым до тех пор задержать Орсини, пока он не убедится, как обстоят дела в Риме, куда он и отправился тайком сам. Поэтому подеста должен был задержать Паоло Орсини в Ронсильоне впредь до дальнейших приказаний, со всем почетом, но не спуская с него глаз.
Глава XI
В продолжение этого донесения черты лица подесты приняли свое обычное выражение. Его внутреннее беспокойство, правда, не улеглось, но привычка скрывать свои истинные чувства сделала свое. Потом Мигуэлото равнодушно прибавил, что герцог Цезарь устроил таким образом, что один из его слуг, переодетый монахом, указал каким-то паломникам место, где был спрятан Орсини, и те освободили его. Это известие, по-видимому, устранило всякие сомнения в душе дона Ремиро, и он ответил, что повиновение приказам своего повелителя составляет его радость и обязанность. Но взор его устремился с пытливым недоверием на своего подчиненного, ненависть и честолюбие которого, вероятно, не составляли для него тайны.
Однако в это время приблизился весь отряд. Подеста обернулся и был немало изумлен, увидав такое многочисленное и знатное общество, но, лишь только он узнал Орсини, он слез со своего мула, чтобы приветствовать его. На эту вежливость римский дворянин немедленно ответил тем же. Они пешком пошли друг другу навстречу и, согласно церемониалу того времени, поцеловались в обе щеки. Подеста принял молодого Паоло с горячими приветствиями по поводу его освобождения из власти бандитов, которые, как он узнал, к своему величайшему огорчению, напали на него в пределах его округа и потребовали с него выкуп.
– Не стоит говорить об этом, – прервал его Орсини. – Наши черные банды покушались на самого императора. Но теперь я в безопасности под верной защитой моих спасителей, и притом не так легко сбиться с пути в Рим через Кампанью. Но, как я ни рад, дорогой подеста, видеть вас здоровым и невредимым, я, тем не менее, весьма сожалею, что вы заставали меня сделать такой большой крюк, и, чтобы наверстать потерянное время, я вынужден сократить удовольствие нашего свидания, так как думаю провести эту ночь в Сутри или Непи.
– По длинным теням, ложащимся от гор, вы можете видеть, благородный господин, что близок закат, – возразил Подеста решительно и строго. – Путь, которым вы намерены идти, проходит по болоту, лесам и пустынной местности. Ваши лошади измучены так же, как и лошади моих людей. Кроме того, синьор, у меня нет полномочий отпустить в Рим дворянина, о котором известно всему свету, что он восстал против церкви. Поэтому я должен униженно просить вашу милость остаться в Ронсильоне, пока я не получу от его святейшества необходимых указаний.
– Как, уважаемый подеста? Вы хотите насильно удержать меня, в то время как я везу в Рим мирный договор? – страстно воскликнул Орсини.
– Я должен исполнить свой долг, – с многозначительным видом заявил подеста, – и наступит время, когда ваша милость узнает, что я – ваш преданнейший и искреннейший друг, был им, есть и буду.
– И супруг одной из Колонна! – воскликнул Паоло.
– Колонна не любят Орсини, но других зато еще меньше! – возразил подеста, и приятное воспоминание о молодой жене заставало его улыбнуться.
– Наш святой отец сам пригласил меня в Рим, а меня насильно засаживают в эти башни! Мои друзья помогут мне, и вам придется умертвить меня перед лицом всей Италии, так как все, что вы совершаете, она будет видеть глазами вот этого синьора, флорентийского посланника.
– Слава пресветлому сенату! – воскликнул подеста, склоняя свою обнаженную голову перед посланником. – Вашим спутникам я должен предложить такое же гостеприимство, – с замечательно просветлевшим лицом прибавил он. – И если правда, что вы приглашены его святейшеством, то чего же вам бояться незначительной задержки, пока я получу подтверждение из Рима?
– В таком случае, благородный подеста, дайте нам обещание, что синьор Паоло не будет разлучен с нами, его друзьями, и, когда мы покинем Ронсильоне, он будет сопровождать нас, – проговорил иоаннит.
Ремиро очень охотно дал свое согласие, а так как сопротивление было действительно невозможно, то путешественники были вынуждены удовольствоваться этой шаткой порукой.
Таким образом, подневольные гости стали подниматься к воротам крепости. На губах Макиавелли блуждала неопределенная улыбка, потому что и он не знал, что может случиться, но чувствовал, что должно было произойти несчастье.
Размеры и мощь этой крепости стали заметны только теперь, когда из-за утесов стали выступать во всех направлениях многочисленные башни и зубцы. Ее можно было считать крепостью вдвойне, так как за первым кольцом готических укреплений возвышалось строение в сарацинском стиле из белого камня, посередине которого стояла высокая круглая башня с подковообразными бойницами, называвшаяся башней ветров.
Но внутри крепости везде можно было наткнуться на новшества, являвшиеся результатом требований времени, так как даже укрепление мрачных Борджиа проявляло повсюду следы роскоши и любви к искусству, пробудившейся в Италии. Комнаты, отведенные гостям, были поистине великолепны, а большой зал, где вскоре после их прибытия был устроен обед, был украшен мастерскими живописными фресками. Столовые приборы были из серебра, и среди них можно было уже заметить однозубые вилки.
Рыцари отказались снять оружие, отговариваясь тем, что, согласно данному обету, они должны были все время находиться в полном вооружении. Бембо с удовольствием заметил, что английских солдат угощали в том же зале, за отдельным столом. В этом он видел доказательство того, что сейчас по отношению к ним не замышлялось никакого предательства, его эпикурейское сердце было преисполнено радостных ожиданий превосходного обеда.
Стол, наконец, был, по-видимому, совсем накрыт, зажаренный целиком дикий кабан, роскошные окорока, громадные паштеты, обложенные со всех сторон дичью, всевозможные рыбы и на первом плане громадный жареный журавль – это были главные блюда. Отсутствовал только сам хозяин, который, по словам Мигуэлото, отправился в свои покои, чтобы написать несколько писем. Бембо с голодной жадностью глядел на стол и затем, со вздохом, перевел свой взор на озеро, серебрившееся за окном. Он вспомнил о старинном предании, утверждавшем, что на дне озера покоится большой город, как вдруг его взгляд упал на голубя, вылетевшего из одной башни с чем-то белым на шее. Сначала он летел в прямом направлении на юг, затем вдруг его полет изменился, он стал описывать круги и опустился к озеру.






