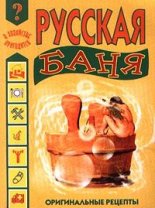Не отрекаются, любя (сборник) Нонна Доктор

Не отрекаются, любя
Это просто кошмар какой-то.
Лера вывернула шею, пытаясь получше разглядеть, что там сзади. Но гигантское, в полшкафа зеркало ничего хорошего не показывало: все та же рыхлость, все те же бугорки да ямочки. Никакой тебе «изумительно гладкой кожи», которую наперебой обещают все эти хваленые кремы, гели и тоники. Мажь не мажь, а пятьдесят пять – это пятьдесят пять. Даже если до них еще целый день.
Ужас, в общем.
Прорвавшийся сквозь плотную облачную пелену солнечный луч заставил прижмуриться. Лера, обернувшись к окну, вздрогнула – шторы, конечно, нараспашку – и тут же рассмеялась. Подумаешь, голая! Ни напротив, ни рядом ни одной высотки, некому подглядывать. Разве что пташкам небесным, а они пусть смотрят, не жалко. Тем более что не так чтобы и ужас. Ну не двадцать пять, конечно, – Лера покосилась на дочь, с недовольным видом перебирающую наряды, – но и в старухи рано себя записывать.
– Мам, к этим джинсам какой пиджак лучше, рыжий или оливковый? Или вообще маренго? Тогда можно не рубашку, а бирюзовый топик… – Юля, хоть и обращалась к матери, разговаривала, кажется, сама с собой.
– Ну и зачем ты меня спрашиваешь? – Лера едва справлялась с раздражением. – Что бы я ни сказала, ты же все равно по-своему сделаешь. И почему опять джинсы? Есть же общепринятый дресс-код…
– Ой, да ладно! – Юля передернула безупречными плечами. – Я ж не напяливаю на себя перья и блестки, как в клуб. Джинсы черные, с пиджаком будет вполне официально. И вообще! Главное – что у меня в голове, остальное вторично. Хоть голая ходи, жалко, климат не позволяет! – Она демонстративно покрутила попкой.
Лера невольно залюбовалась дочерью: высокая, до «модельных» ста восьмидесяти совсем немного не хватает, упругая грудь гордо «торчит», практически не нуждаясь в бюстгальтере, талию, кажется, двумя ладонями, можно обхватить, крутой изгиб бедер плавно переходит в длиннющие, почти бесконечные, безупречно стройные и гладкие ноги…
Где-то в подвздошье болезненно завозился червячок зависти – словно изящество двадцатипятилетней (впрочем, до двадцати пяти ей, как и Лере до пятидесяти пяти, оставался еще день) Юли было украдено у нее, у Леры. В двадцать пять и она выглядела не хуже. При том, что Юлька, вертихвостка, до сих пор только для себя живет, а она, Лера, к двадцати пяти уже…
Максима, высоченного яркоглазого красавца, обожали все: суровые операционные медсестры и улыбчивые палатные медсестрички, молоденькие докторши, студентки-практикантки, санитарки – от ветеранш хирургического отделения, восхищенно охавших: «Золотые руки у Максим Дмитрича!» – до совсем юных, зарабатывавших после школы «профильный» стаж для поступления в мед. На этих Лера смотрела несколько свысока: сама-то она была уже на третьем курсе, а в Склифе подрабатывала. Уже третий год, к слову сказать, с первого курса. Во-первых, чтоб на жизнь хватало (ждать помощи от матери не приходилось: в своем очень дальнем Подмосковье она получала сущие копейки, а в последние годы и вовсе поговаривала о пенсии «по состоянию здоровья»), во-вторых, для практики. Давно ведь известно: реальная медицина – это совсем не то, о чем рассказывают на лекциях, и даже не то, что показывают в анатомичке.
Лера, учась на дневном (и неплохо, надо сказать, учась), дежурила все больше по ночам, выматываясь иногда так, что на утренних лекциях клевала носом, сердясь на преподавателей – неужели нельзя рассказывать о своем предмете не так монотонно! Но когда дежурным хирургом был «Максим Дмитрич, золотые руки, будущий Пирогов!» – весь следующий день Лера летала жаворонком, и не вспоминая об усталости или, боже упаси, сонливости.
Нет-нет, никакого такого романа у них не было. Собственно, «будущий Пирогов» Леру вовсе не замечал – что ему какая-то санитарка, пусть даже молоденькая и хорошенькая, когда на него врачихи (и не только хирургического, а и двух соседних отделений) гроздьями вешаются.
Только однажды…
К полуночи – ноябрь затянул дороги плотным гололедом, да еще снежком сверху присыпал – привезли «тяжелое ДТП». Дежурные хирурги не отходили от столов: собирали раздробленные кости, сшивали порванные сосуды, селезенки и бог знает что еще – спасали пострадавших.
– Максим Дмитрич, вы бы хоть кофейку выпили, – раздался за Лериной спиной голос бабы Глаши, старейшей в отделении санитарки. – На вас же лица нет. Дежурство когда еще закончилось, а вы все штопаете да вышиваете…
В подслеповатое лестничное окно робко заглядывал поздний зимний (кто сказал, что ноябрь – осенний месяц?) рассвет. Девятый час. Лере давно пора было уходить, но она, пристроив на подоконник лестничной «курилки» пальтишко, из рукава которого торчал связанный во время все тех же ночных дежурств длинный пестрый шарф (очень стильный, прямо как во французском журнале мод, принесенном в группу невесть кем и зачитанном будущими медичками почти до дыр), все медлила – черт с ней, с первой лекцией, ну опоздаю или пропущу, подумаешь – вдруг Он выйдет из операционной…
И вот – дождалась.
Максим прикурил только с третьей спички – руки дрожали. Лера, как завороженная, смотрела на эти длинные узкие пальцы с коротко, как у любого хирурга, срезанными ногтями.
– Что удивляешься? С ночи еще и не так трясти может. Скоро сама убедишься. – Он усмехнулся. – Санитаришь и учишься? Какой курс?
Лера почувствовала себя пациенткой на приеме – он допрашивал ее быстрым, специфически «врачебным» голосом: на что жалуетесь? температура есть? какие лекарства принимали?
– Третий, – едва слышно пискнула она.
Максим, окинув девушку цепким, таким же «врачебным» взглядом, вдруг спросил:
– Сейчас куда? В общагу?
– Я… нет… – Лера вспомнила о лекциях. – То есть… да…
– Так нет или да? – Он опять усмехнулся.
От его усмешки сердце проваливалось куда-то в живот и даже ниже, в ноги. Как будущий медик Лера точно знала: сердце расположено там-то и там-то, вот тут, в грудной клетке, за ребрами, рядом с легкими, и никуда, ни в какой живот, тем более в ноги проваливаться не может. Но оно проваливалось! Только не в пятки, как твердит поговорка, а почему-то в коленки. И бьется там, под коленками, а вовсе не в грудной клетке, да что же это такое!
– Пошли! – Максим неожиданно взял Леру за локоть – она едва успела прихватить с подоконника рыженькое свое пальтишко с торчащим из рукава шарфом – и повел за собой.
Лера плохо помнила, как спускалась по лестнице (только и чувствовала, как сильные «хирургические» пальцы сжимают ее локоть), как лицо ожгло снежной крупой. Сразу за углом стояла его белая «копейка» (это потом, потом Москву наводнят разномастные иномарки, и даже первокурсники начнут кичиться друг перед другом, чья тачка круче, а тогда, в начале восьмидесятых, личный автомобиль делал своего владельца одним из «избранных»). Максим галантно распахнул пассажирскую дверь:
– Прошу!
Внутри пахло бензином, железом – и все той же неистребимой медициной. Ехали недолго.
Остановившись в каком-то дворе, Максим первым вышел из машины, подал Лере руку и больше не отпускал. Подъездная дверь хлябала на ветру, темная (тусклая лампочка едва освещала площадку второго этажа, на остальных царил едва разбавленный бледным заоконным рассветом мрак) выщербленная лестница тянулась бесконечно. Пахло горелой проводкой и, разумеется, кошками. В углу последней площадки (или не последней? на сколько же этажей мы поднялись, подумала вдруг Лера) горели два изумрудных глаза.
Максим, поковырявшись ключом в замке, рывком распахнул дверь и почти втащил Леру в квартиру.
– Бабуль, я дома! – крикнул он в глубину коридора, вталкивая девушку в какую-то комнату.
– Ухожу, Максюша! – донесся в ответ резковатый, очень отчетливый голос. – У меня сегодня две лекции, потом консилиум. Еда на плите! Холодное не хватай, разогрей обязательно!
Голос Максимовой бабушки показался Лере странно знакомым. Но вот откуда – нет, не сообразить. Она торопливо приткнула свое невзрачное пальтишко на что-то вроде табуретки, только мягкой, вот странно. Впрочем, странной была вся комната. Мебель, как из спектакля «Три сестры», пальма у окна, справа здоровенная, на полстены картина – в мелких трещинках, старая, должно быть. Изображало полотно густо заросший лесом берег не то реки, не то озера. Посередине заросли расступались, открывая песчаную отмель. Мускулистый красавец в белой рубахе с распашным воротом сталкивал в воду дощатую лодку, на корме которой, чуть выгнув спину, сидела соблазнительно улыбающаяся прелестница. Из-под воздушного, почти прозрачного одеяния заманчиво светилось розоватое нежное тело. Красавец был немного похож на Максима.
– Чаю хочешь? – раздалось вдруг над самым ухом.
Лера вздрогнула от неожиданности и, закусив губу, почти не дыша, отрицательно покачала головой.
Хлопнула входная дверь.
– Ушла! – Максим прижал девушку к себе с такой силой, что, казалось, захрустели ребра.
В Лериной голове, путаясь, стремительно мелькали обрывки вбитых пуританским провинциальным воспитанием правила: девушка должна быть гордой, целомудрие – главное сокровище, береги девичью честь и прочее в этом духе. Но тело – вопреки мыслям – плавилось и горело, как воск, под сильными «хирургическими» пальцами. У «правил» не было шансов.
– Надо же! Медичка, а такая робкая. – Жаркий шепот обжигал ухо, так что у Леры темнело в глазах, а тело начинала бить крупная, словно ознобная дрожь. – Медички все бесстыжие, а ты прям как средневековая невеста в первую брачную ночь.
Лера и чувствовала себя так – невестой в первую брачную ночь. Страшно, знобко и жарко.
Смятые простыни шершаво царапали нежную спину, придавившая сверху тяжесть не давала дышать…
Все ее тело вдруг насквозь, словно от паха до самого горла, пронзила мгновенная боль. Невыносимо острая, но столь же невыносимо сладкая – ведь это он, он сделал ей больно, только ему можно, только он, Максим, достоин забрать ее единственное сокровище…
– Что ж ты не предупредила? – укоризненно прошептал он, когда Лера вскрикнула, но не остановился. Движения становились все быстрее, дыхание все тяжелее, все горячее… хрипло выдохнув, он ударил в последний раз… и задышал реже, легче, тише…
Легонько чмокнул ее в висок и уронил голову на подушку.
Заснул.
Чувствуя, как от переполняющей сердце нежности к глазам подступают слезы, Лера глядела на умиротворенное лицо Максима и думала, как все у них будет. Сейчас надо потихоньку уйти (конечно, глупо вспоминать, что девушка должна быть гордой, после того как… но все же). А потом он подойдет к ней в Склифе или даже отыщет в институте, после какой-нибудь лекции (вот девчонки обзавидуются) – подойдет и скажет: «Ты моя единственная, я ждал тебя всю жизнь!» А потом, потом… суровая дама с алой лентой через плечо будет, как в недавно виденном фильме, хмурить брови и повторять: «Сойдите с ковра!» А потом они сбегут из-за свадебного стола и будут, смеясь, целоваться где-то на набережной. А когда она окончит институт, можно уже и… Если будет мальчик, они назовут его Максимом (Максим Максимович, так чудесно!), а если девочка – Анной, как Лерину покойную бабушку…
Конечно, ничего такого не было.
Никто не ждал ее после занятий, хотя после каждой лекции Лера делала шаг в коридор с ощутимым холодком в подвздошье – вот, сейчас, там будет стоять он, а она сперва как будто его и не заметит, ну пока сам не подойдет, не окликнет.
Никто не стоял в коридоре, никто не подходил, не окликал. А в Склифе она столкнулась с Максимом всего один раз: стремительно шагая в сторону операционного блока, он обошел стоявшую на дороге Леру и не поздоровался, не улыбнулся, не кивнул… кажется, он ее даже не заметил! Да запомнил ли он ее вообще?! Это была жуткая мысль, и Лера старательно ее отгоняла.
Через несколько дней, старательно записывая лекцию по пропедевтике внутренних болезней, она вдруг почувствовала себя дурно: в глазах темнело, отвратительная муть подступала, кажется, к самому горлу, вот-вот выплеснется. Ладно бы еще это была какая-то другая лекция, но у Веры Исааковны… Ужас. Этой суровой старухи по прозвищу Железный Диагност (а студенты шепотом называли ее Железка) боялись даже в деканате. Вера Исааковна была, разумеется, профессором и чуть ли не академиком, но главное – она была непревзойденным диагностом и вообще, с этим соглашались все, даже недруги, великим врачом. Веру Исааковну приглашали на самые сложные случаи, ее авторитет был незыблем, как памятник Пирогову напротив Сеченовки. И вот надо ж такому случиться, чтоб именно на ее лекции…
Но дурнота была нестерпима. Лера подняла руку и, почти теряя сознание, попросилась выйти.
– До конца лекции, голубушка, осталось десять минут, – не меняя «лекторской» интонации, сурово сообщила Вера Исааковна. – Что это вам вдруг приспичило?
Аудитория стала расплываться в глазах, темнеть, уши словно заложило ватой…
Очнулась Лера от все того же ледяного голоса. Только теперь он звучал прямо над ней:
– Да вы, голубушка, беременны. Тут и консилиума не надо. Принесите ей воды и продолжим на следующей лекции, – величественно кивнув сгрудившимся вокруг студентам, Вера Исааковна выплыла из аудитории.
«Консилиум» и «лекции» с характерным твердоватым «л» заставили Леру вспомнить… Господи! Максим – внук Веры Исааковны! Вот почему голос невидимой «бабули» показался ей в то утро таким знакомым!
Потрясенная этим открытием, Лера, толком не осознав сказанного, послушно подчинилась заботливой подруге Аде, выводившей ее из аудитории и нашептывавшей:
– Ну-ну, не куксись, все будет хорошо.
Жизнерадостная Ада, Лерина соседка по комнате, была человеком абсолютно неунывающим. До стипендии еще неделя, а денег ни копейки не осталось? Ничего, пошарим по сусекам, сварим прошлогодний горох, сдобрив его повешенным для синиц куском сала. Или мальчишек в гости зазовем – чтоб свои припасы приносили. Казалось, ни одна ситуация не может вогнать Аду в уныние.
– Ну ты тихушница! – Ада, доведя подругу до общаги, отпаивала ее чаем, подсовывала лимон и восхищенно качала головой. – И мне ни полсловечка!
– О чем? – Лера недоуменно нахмурилась.
– Здрасьте! Ты ж не святым духом залетела? Да ладно, ладно, не спрашиваю. Не хочешь говорить – кто, и не надо. Будем считать, что ветром надуло!
Лера поглядела на верную Аду – и вдруг расхохоталась. Ада, разумеется, подхватила. Они глядели друг на дружку и смеялись, смеялись, смеялись – словно незапланированная беременность – просто ужас какая веселая штука.
А с другой стороны… почему бы и нет? Ребенок есть ребенок. Он уже есть – там, внутри. Крошечное, почти неразличимое зернышко – но живое ведь! Учеба, конечно, в самой середине, но… Лера вспомнила – не то в книжке читала, не то рассказывал кто – как малыш, оставшийся сиротой, когда его родители-альпинисты погибли под лавиной, «поставил на ноги» совсем было уже собравшуюся помирать бабушку. Не то чтобы бабушка была так уж стара и больна – скорее, просто устала от жизни, потому и начала «коллекционировать» пенсионерские хвори, стала, что называется, не жить, а доживать. Ну а внук-сирота (своя ведь кровиночка, не бросишь, в детдом не сдашь, надо заботиться, растить, воспитывать – и радоваться, как он растет) моментально вернул ей вкус к жизни. Лера подумала о своей вечно усталой матери. Скучно ей жить. Неинтересно. Кажется, что все – Леру вырастила, жизнь покатилась под уклон. Да ведь и намекала как-то: хоть бы ты, доченька, выучилась поскорее да внучка бы мне родила, была бы радость в жизни.
Вот, значит, и для мамы «лекарство» родится.
– Мам, ты стоя спишь, что ли? Опоздаем ведь!
Лера, вздрогнув, словно ее застали за чем-то неправильным, сунула на полку неизвестно как оказавшуюся в руках (вот что значит – утонуть в воспоминаниях) фотографию «зернышка» – взрослую, свадебную. Хотя и не скажешь, что на снимке – невеста: нежно-кремовый костюм, элегантная шляпка (правда, с вуалью). Анна (да, Лера, как и мечтала, назвала ее в честь бабушки), помнится, категорически заявила, что белый кринолин – это оскорбление хорошего вкуса, а фата и вовсе – верх пошлости. Да и вообще брак сугубо гражданский, так что свадьба – чистая формальность, так, для ближайших друзей, не более того. Да уж, старшая дочь выросла предельно (даже беспредельно) самостоятельной. Тихая, что называется, беспроблемная, но – упрямая. У нее и в детстве-то с языка не сходило «я сама». А блестяще окончив московский иняз (английский, французский и итальянский), Анна сразу стала строить жизнь в соответствии с собственными представлениями. Работодатели приглашали ее наперебой. Объездив за несколько лет всю Европу, Анна со своим Полем (вообще-то он был Паша, но в соответствии с известной поговоркой «в Риме будь как римлянин» предпочитал французскую версию своего имени) поселились близ Парижа.
Лера зачем-то погладила холодное, как улыбка Анны, стекло. Она не виделась со старшей дочерью уже… сколько же? Так и не вспомнишь. Тридцатилетие Анна точно отмечала сама по себе. Если вообще отмечала. Отрезанный ломоть. Это вон Юлька про сестру чуть не все знает, созваниваются они регулярно. Ох, не уехала бы и эта туда же… Впрочем, пока ее вроде бы все устраивает.
Вот странно даже, подумала Лера: она и боится, что младшая упорхнет из дома так же, как Анна, и одновременно словно бы хочет этого. Юлька иногда ужасно раздражала – своим бесконечным эгоизмом, привычкой сваливать все домашние дела на мать, своим легкомыслием, а главное – своей ужасающей, недосягаемой молодостью. Рядом с этой юностью Лера иногда начинала себя чувствовать бесконечно старой, почти уродливой…
А впрочем…
Она бросила еще один взгляд в зеркало – а что? Очень даже ничего! Волосы – так и вообще, вон Катя-парикмахерша каждый раз комплиментами осыпает. Пышные, густые, не у каждой девушки такие. А при изумительном пепельном цвете (свой, не какая-то там краска!) можно и седину не закрашивать. Да и сколько там той седины-то – кот наплакал.
Где, кстати, кот-то? Небось уже на кухонном столе восседает в ожидании завтрака. И не отучишь ведь. При том, что умный – как три собаки. Но упрямый – ужас. Зато забот – вдесятеро меньше, чем с собакой. Накормить да лоток поменять. Именно эти соображения руководили Лерой, когда перед двадцатилетием Юля замучила ее просьбами – давай собаку заведем. Ясно же было, что на ежедневное выгуливание питомца у дочери ни за что не хватит терпения, а брать на себя еще и эту обузу не хотелось совершенно. Вот и выбрала подарок – трехмесячного сфинкса Пинка. Хотя Пинком назвала его уже Юля: кожа у абсолютно лысого, как и полагается сфинксу, «подарка» была розовая, как у поросенка. Спать он сразу приноровился под боком у Леры, но поутру рысью несся на кухню – завтракать.
Ну точно. Уже сидит, как египетская статуэтка, и ждет – чтобы, боже упаси, не забыли покормить. Хотя уж чего-чего, а забыть покормить Пинка – это немыслимо. Обожали его Лера и Юля хором. За ум, за ласковость, за собачьи повадки – он даже тапочки приносить пытался, становясь в этот момент похожим на гигантского розового муравья, который тянет крошку с себя размером.
Лера щелкнула кнопкой кофеварки, выложила в кошачью миску порцию корма, привычным движением подхватила Пинка и сунула его к плошке – на, лопай. Кот обожал внимание.
Ну да кто ж его не любит-то.
– О, чую божественный аромат! – Впорхнувшая на кухню Юля – уже в топике, но все еще без штанов – налила себе чашку, отломила кусок круассана и, сделав первый глоток, прижмурилась от удовольствия. Ну точно, как Пинк.
Но почему самоуправство Пинка (вот хочу сидеть на столе – и буду, и ничего вы мне не сделаете!) умиляет, а Юлино – раздражает? Стоп, привычно приказала себе Лера. Дыши! На вдохе: я спокойна! На выдохе: я улыбаюсь! Это упражнение обычно помогало, но сегодня (погода, что ли, действует? или, боже упаси, возраст свое берет?) раздражение выходило из-под контроля, грозя перерасти в скандал.
Может, и в самом деле пора отселить Юльку в отдельную квартиру? И что? Остаться вдвоем с Пинком? Терзаться – не случилось ли чего с девочкой – и (самое страшное!) лезть на стены от одиночества?
С привычным вздохом отодвинув от себя соблазнительно благоухающий пакет (нет уж, никакой выпечки, возраст женщины измеряется в килограммах), Лера вытащила из холодильника лоток с обезжиренным творогом и сыпанула туда горсть изюма – чтоб придать белой размазне хоть какой-то вкус.
Во время той беременности она так же давилась ненавистным творогом – как же! ребеночку нужен кальций! иначе мамины зубы «съест»…
Трудно сказать, творог ли помог или просто организм такой здоровый, но ни малейшего влияния на Лерины зубы беременность не оказала. Да и вообще прошла на удивление легко. После того обморока на лекции у Веры Исааковны ее еще дня три мутило – и все. Никаких проблем. Даже наоборот. Летнюю сессию Лера сдавала уже изрядно «на сносях», и экзаменаторы, видимо, опасаясь расстраивать столь глубоко беременную студентку, готовы были ставить «отлично» чуть не автоматом. Вообще-то Лера и так бы все сдала (в прошлые-то сессии у нее ниже «хорошо» не бывало – без всяких там скидок на беременность), но когда тебе через полтора вопроса говорят: «Давайте зачетку!» – это приятно.
Она еще успела доехать до родного города, сочинив по дороге какую-то душещипательную историю для мамы. История, впрочем, не понадобилась. Мама только руками всплеснула:
– Да счастье-то какое! Да ох, да тебе же еще учиться три года! – И после минутного размышления решительно заявила: – Оставишь со мной. Что я, с ребенком не управлюсь, что ли? Ну, подумаешь, будет без грудного молока, ничего страшного. Ты у меня тоже искусственница – и ничего, вон какая красавица да умница выросла.
Про то, что ее не кормили грудью, Лера не знала. И, должно быть, в этом было что-то наследственное. Потому что после родов – очень легких, вопреки всем Лериным страхам, – обнаружилось, что молока у нее нет. Хоть на голове стой.
Про «хоть на голове стой» она вспомнила уже в Москве, куда вернулась к началу сентября, оставив маленькую Анечку с новоиспеченной – и очень счастливой – бабушкой. Счастьем-то сыт не будешь. Лера набрала вдвое больше дежурств, экономила каждую копейку и все отсылала матери. Та души не чаяла в Анечке, надышаться на нее не могла, баловала всячески, но Анечка росла ребенком ни капельки не капризным, тихим и послушным. Слово «надо» было для нее законом. Лера, приезжая домой на каникулы, только удивлялась. Да и на себя, если честно – тоже. Гуляя или играя с дочерью, купая ее или укладывая спать, Лера не ощущала ничего. Ну кроме разве что чувства долга: ребенок есть ребенок, о нем нужно заботиться. Нет-нет, эти заботы не были ей в тягость, ни в коем случае. Анечка ее даже радовала. Но… Лера постоянно ловила себя на мысли, что точно так же она заботилась бы о любом другом ребенке, волею судьбы оказавшемся на ее попечении. И точно так же радовалась бы – просто потому что дети вообще радуют.
Но ведь это же не просто «любой ребенок»? Это же ее, Лерина плоть и кровь! И самое главное – ведь это же ребенок Максима!
Во время ночных дежурств они сталкивались нередко, но Лера так и не решилась сообщить любимому о его отцовстве. Вздрагивала, глотала слезы, кусала губы и… и ничего.
Через два года умерла Вера Исааковна. На ее похоронах собрался не то что весь институт – практически вся московская «медицинская общественность». Да и не только московская. Черная колышущаяся толпа залила, казалось Лере, все кладбище. Или по крайней мере половину. Только возле Максима почему-то было пустое пространство – словно его отделяла от всех невидимая стеклянная стена. Стена горя.
Лера едва решилась подойти:
– Максим, я… Мне очень жаль… – Она запиналась, как будто слова, растопырив ежиные иголки, цеплялись в горле, не желали выходить наружу. – Максим, я должна тебе сказать…
Она осеклась: Максим смотрел сквозь нее пустыми, невидящими глазами и, похоже, не слышал ни одного ее слова.
После этого внутри как будто что-то сломалось. Лера механически, словно по инерции продолжала исполнять все, чего от нее требовала жизнь: училась, дежурила в Склифе, готовилась к защите диплома. Наверное, нужно было добиваться, чтобы ее распределили в какую-нибудь из московских клиник, но Лера, точно застыв, отдалась на волю судьбы. Минск? Что ж, пусть будет Минск. Анечка уже подросла, наверняка ведь можно будет устроить ее в какой-нибудь садик?
Мама, однако, восстала против этого плана так, будто ей собирались отрезать ногу:
– Ты езжай по своему распределению, делай свою карьеру, а Анечка, пока у меня здоровья хватает, останется со мной!
Возражать у Леры не было ни сил, ни, честно говоря, желания.
В Белоруссии (кто мог тогда подумать, что меньше чем через десять лет она станет другим государством!) все катилось по той же инерции: больница, операции (словно назло Максиму Лера делала из себя хирурга), общежитие, больница, общежитие, больница… Только засыпая, она давала себе волю – и на обшарпанной общежитской стене перед ее глазами разворачивались сказочно прекрасные картины. Вот она возвращается в Москву, встречает Максима (тут воображение предлагало разные варианты: то они сталкивались на утренней планерке, то на медицинской конференции, то просто на улице), который за это время, конечно, все осознал, скучает, ждет… и под явственно слышимый вальс Мендельсона Лера погружалась в сновидения.
– Ну что, девочка моя, – главврач Валентин Германович, очень уже пожилой, иначе ее и не называл, – хирург из тебя получился – всем на зависть. Может, у нас останешься?
Лера только мотнула головой, забирая с начальственного стола полную превосходных степеней характеристику.
– И куда теперь двинешься?
Она пожала плечами:
– Как получится. В Москву, а там уж…
– А хочешь-то куда? – Валентин Германович хитро прищурился.
– В Склифосовского, – почти прошептала она.
– Ну тогда садись. – Он подмигнул. – Хорошему врачу – хорошую операционную. Так? Сейчас я напишу письмишко одному своему старому приятелю. Примет тебя – как родную.
Склиф! Склиф-Склиф! Склиф-Склиф-Склиф, выстукивали колеса поезда, увозящего Леру из так и не ставшего своим Минска в родную Москву. До счастья было – рукой подать!
Но бессменная, вездесущая и всезнающая баба Глаша, горячо одобрившая возвращение Леры в Склиф – а и правильно, и молодец, сколько уток ты тут повыносила, сколько полов перемыла, где, как не здесь, тебе и быть хирургом – в первое же дежурство вывалила на «блудную дочь» накопившиеся за время ее отсутствия новости:
– А Максим-то Дмитрич наш, как бабку свою железную схоронил, так почти сразу и женился. А и правильно, чего молодому мужику одному куковать. Сынки у него, двое, погодки…
В снятой не без помощи все той же бабы Глаши комнате (ну и что, что темная и мрачная, зато до Склифа совсем рядом) Лера проревела целый вечер.
А что делать? Работать, конечно. Дежурства, операции, планерки, постоянные столкновения с Максимом (два-три раза она даже ассистировала ему на операциях). И опять – дежурства, планерки, операции, дежурства…
– Здравствуй, доченька! – Голос в трубке звучал необыкновенно ласково. Это было странно: в последнее время мама, когда звонила, разговаривала коротко, раздраженно, как будто не с дочерью, а с нерадивой прислугой или с нелюбимой падчерицей.
– Да, мамуль, привет! Как вы там?
– Лера, – с минуту в трубке было слышно только тяжелое дыхание, – придется тебе, видно, забрать Анечку. Школа у нас неблизко, а у меня и водить ее сил нет, и ждать-беспокоиться… сердце не выдержит.
– Хорошо, мамуль, я что-нибудь придумаю! – бодро пообещала изрядно ошарашенная Лера.
– Некогда думать-то! – В мамином голосе опять прорезалось раздражение. – До школы всего ничего осталось, когда думать-то?
Тяжелое дыхание в трубке сказало Лере больше, чем любые слова. Да, с сердцем у мамы, похоже, не слишком все хорошо. Но что же делать? Забрать Анечку? И что? У нее, Леры, сплошная работа (а на что иначе жить, платить за комнату, есть-пить-одеваться, кормить-поить-одевать ту же Анечку?). Детские садики бывают и круглосуточные, а школа? Продленка? Сколько там той продленки? А вечером, тем более ночью? Семилетняя девочка будет оставаться дома одна? В коммуналке с не самым культурным контингентом? Один дядя Юра-алкоголик чего стоит. Нет, это не вариант.
Но все-таки Лера была хирургом – то есть человеком, приученным не только принимать решения, но и делать это быстро. В том числе и тогда, когда выбирать приходилось между неприятным, плохим и очень плохим.
– Мамуль, а может, ты тут с нами поживешь?
Это был как раз неприятный вариант. Все остальное было много хуже. Ну а жить вместе с мамой, у которой, кажется, окончательно испортился характер… Да ладно, можно и потерпеть, тем более домой (смешно называть эту длинную, кишкообразную темную комнату домом) Лера является только спать. Разместиться в этой конурке втроем будет сложно, ее даже и перегородить-то не выйдет, но уж как-нибудь.
– Ну хорошо, – помешкав, согласилась мама. – Ты пока школу подыщи, поговори там, а мы в августе приедем, я сообщу, встретишь.
Встретила.
Анечка, вылетев из вагона, как крошечная пестрая ракета, тут же повисла у Леры на шее:
– Мы теперь вместе будем жить? Всегда-всегда? А бабушка с нами или назад уедет?
Из вагонной двери медленно, с трудом переставляя страшно отекшие ноги, вышла сгорбленная женщина с серым лицом, на котором резко выделялись темные круги под глазами. Лера ахнула:
– Мамочка! Тебя же срочно госпитализировать надо!
Вместо школы для Анечки срочно пришлось подыскивать круглосуточный садик. Ничего-ничего, утешала себя Лера, в школу можно и годом позже, сейчас главное – маму подлечить, хорошо еще, удалось к себе положить, у нас в Склифе отличные врачи, они любого на ноги поставят.
Не поставили.
Организацию похорон, поминок и прочую тягостную посмертную суету неожиданно взял на себя Максим. Впрочем, «неожиданно» – не то слово. Неожиданно – это когда случается что-то, чего не ожидаешь. А Лере было как будто все равно. Врач, хирург, человек, казалось бы, привычный, после смерти матери она словно бы впала в ступор. Сквозь плотный кокон Лериного горя даже звуки проникали с трудом, а все остальное и вовсе оставалось где-то там, вовне. Дикость какая, думала она, ведь совсем недавно я что-то такое себе размышляла о том, что у мамы испортился характер, сердилась даже – а теперь, когда ее не стало, из меня точно батарейку вынули. Или не из меня, а из всего остального мира?
Максим, похоже, хорошо понимал ее состояние – сам прошел через подобное. И знал, что – отпустит. Надо только перетерпеть, пережить. После девяти дней точно станет легче. А пока надо помочь, поддержать. Он не спрашивал себя, почему поддержать Леру должен именно он, а если бы спросил кто-то еще – вопрос показался бы дикостью. Потому что. Потому что сил нет видеть это погасшее – такое же мертвое, как то, в гробу – лицо. Потому что чувствует ее боль, как свою. Да какая разница – почему. Потому что должен.
После поминок Лера, забившись в угол дивана, отстраненно глядела, как Максим общается с приведенной кем-то из садика Анечкой:
– Ты ужинала?
– Не-а, – девочка покрутила головой, – только обедала в садике! А мы ужинать будем? А еще, еще… я сегодня коленку стукнула, вот! – Анечка гордо задрала ногу, демонстрируя наливающийся синяк.
Максим, усадив ее на диван, профессионально сноровисто осмотрел слегка припухшее колено.
– Ой, больно! – вскрикнула «пацентка».
– Ну все уже, все, – улыбнулся Максим. – Сейчас подую, и все пройдет.
– А мама дует, только когда йодом мажет, – задумчиво протянула Аня. – А ты кто? Врач тоже?
– Тоже, – кивнул он, все еще улыбаясь.
Лера стиснула зубы, так хотелось на вопрос дочери выпалить – это твой папа! Эх, заплакать бы! А слез нет. Совсем. Вот ужас-то. От слез, говорят, легче делается. А она так и не смогла из себя ни слезинки выдавить, даже на кладбище. И пожаловаться некому – мамы нет. Мамы теперь нет. И никогда не будет. И слез, наверное, теперь никогда не будет…
Из коммунального коридора, где висел общий телефон, доносился голос Максима:
– Наташ, не жди меня сегодня… да… нет… Ну не сердись, ты же понимаешь… да… да… ну давай… мальчишек за меня поцелуй, скажи, папа завтра придет…
Он накормил Анечку поминальным пирогом, сводил в ванную, уложил в постель – Лера слушала радостный щебет дочери, как будто смотрела кино, как будто к ней самой все это не имело никакого отношения.
– Все, Аннушка, глазки закрывай и – спать, спать! – Максим подоткнул Анечке одеяло и, присев возле съежившейся в углу дивана Леры, обнял и принялся укачивать.
Как маленькую, думала она. Так спокойно в его руках. Так… безопасно. Так… тепло… Горячо…
Разбудил ее пробившийся сквозь неплотно задернутые шторы солнечный лучик. Лера повернула голову – рядом посапывал Максим. Господи! Она едва не вскрикнула от острого deja vu.
Солнечный луч продолжал настырно лезть в глаза. Жизнь продолжается, грустно улыбнулась Лера, чувствуя, что плотный, давящий, не позволяющий дышать кокон куда-то делся. Да, мамы нет, и это очень горько, но… но мы-то живы еще? Значит, надо жить. Готовить завтрак, вести Анечку в садик… да хотя бы вымыться для начала.
Поставив чайник, она закрылась в ванной. С наслаждением впитывая летящие из ржавого раструба колючие струи, она терла, терла и терла себя жесткой капроновой мочалкой. Как же ему сказать про Анечку? Как?
Выйдя в коридор, она столкнулась с почему-то смущенным Максимом:
– Соседи спят еще?
– Что ты! – Лера улыбнулась. – Все уже на работе, наверное.
– Я, – он кивнул в сторону ванной, – я сполоснусь?
– Конечно! – Она протянула ему полотенце.
Лера готовила немудреный завтрак и думала: вот оно, обычное счастливое семейное утро – муж в ванной, жена на кухне, ребенок сопит в кроватке…
Она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как подошел Максим:
– Ты молодец! – Он сжал ее локоть. – Сильная! Держись!
– Куда ж я денусь? – Лера, усмехнувшись, повела плечом. – Завтрак готов. Садись.
– Спасибо! – Максим почему-то замялся. – Я… я побегу, ладно?
И ушел.
Входная дверь щелкнула негромко, а Лере показалось – оглушительно. Как выстрел. Прямо в голову. Или нет. В сердце. В сердце. В сердце…
– Мамочка, я проснулась! – Анечка пришлепала на кухню босиком, в ночной рубашке, растрепанные спросонья кудряшки смешно топырились в разные стороны, на щеке алел след от смятой подушки.
– А дядя уже ушел? – Схватив лежащий на столе батон, она откусила от горбушки и, жуя, продолжала: – Он меня вчера искупал и голову помыл, а я не плакала, даже когда мыло в глаза попало! Мам! Ты меня не слушаешь! А еще он сказал, что у него есть два сыночка, только они меньше, чем я…
– Ты почему хватаешь со стола, не умывшись? И зубы наверняка не чистила! – Лера наконец очнулась.
Да уж, жизнь продолжается, и никуда от нее не денешься. Не до того, чтоб сердечные страдания страдать.
Тем более что прежняя жизнь ощутимо рушилась, а как выживать в новой, было не очень понятно. Ночные дежурства, очереди в продуктовых (спасибо Горбачеву за все его перестройки, шептались соседи и коллеги), поувольнявшиеся в одночасье санитарки (сами горбатьтесь за свои три копейки), круглосуточный садик. Господи, какое счастье, что Анечка такая здоровенькая! Редкие Лерины «недежурные» вечера они проводили вместе. И в этом был какой-то покой и даже что-то вроде счастья.
– Доченьки мои, сейчас я вас буду кормить! – приговаривала Анечка, рассаживая на диване кукол и раскладывая перед ними крышечки от кефирных бутылок – тарелочки.
– А почему только доченьки? – улыбалась Лера.
– Ну, мам, ты разве не знаешь, что кукол-мальчиков не бывает?
– Разве? – удивлялась Лера, думая, что магазины игрушек ей уже не по карману – зарплату начали выдавать какими-то странными частями, как хочешь, так и крутись, какие уж тут новые игрушки. Тут бы придумать, из чего ужин сообразить.
В кухонном шкафчике гордо стояла почти полная бутылка подсолнечного масла, рядом притулился пакет риса, у стенки сиротливо ютились луковица и подвявшая уже морковка. На «фальшивый» плов этого, конечно, хватит, а дальше что? Завтра? Послезавтра? Через неделю? Ладно, оборвала Лера собственные мысли. Завтра будет завтра – может, зарплату дадут, может, еще что-нибудь случится. А сегодня нужно чем-то Анечку кормить. Она, правда, не любит рис, но больше все равно ничего нет.
Лера поставила на огонь старенькую кастрюлю, почистила овощи.
От запаха разогретого масла неожиданно замутило, кухонные шкафчики, плита, холодильник, столы – четыре штуки, по числу «хозяев» квартиры – сдвинулись, поплыли, закружились… Лера тяжело осела на грязный (сколько не надраивай, не отмоешь) щербатый пол.
– Эй, соседка, ты чего? – Юра-алкоголик, заглянувший в кухню, засуетился растерянно возле бледной до зелени Леры, побрызгал на нее из крана, попытался поднять. В руках у него была отломанная с одного края буханка черного хлеба. Положить ее на стол дядя Юра почему-то не догадался, поэтому от помощи его толку было немного.
Лера с трудом, держась за ближайший стол, перетащила свое ставшее вдруг очень тяжелым, словно чужое, тело на табурет.
– Дядя Юра, плиту выключите… пожалуйста.
– Мам! Я есть хочу! – канючила прибежавшая из комнаты Аня.
– На! – Сосед отломил от заветренной буханки кусок и сунул ей. – Видишь, мне не жалко!
Анечка, вздохнув, принялась кусать подсохший хлеб, не забывая угощать куклу, которую держала на руках, как младенца.
Лера охнула, зажимая рот. Опять?! И… опять… от Максима?! Этого только не хватало! Вот курица безмозглая, ругала она себя. Врач – а на задержку внимания не обратила, решила, что нервное, из-за сплошных стрессов. И ведь какую задержку-то! Лера, лихорадочно собирая в кучу рассыпающиеся мысли, пыталась подсчитать – сколько прошло с маминых похорон. Мысли путались, но по всему выходило – отпущенные государством на дозволенный аборт двенадцать недель уже вышли. Попросить коллег из гинекологии? Чтобы сделали по якобы медицинским показаниям? Но близких знакомых у нее там нет, а неблизкие за поздний аборт запросят по полной таксе. Таксу Лера себе более-менее представляла. Таких денег у нее не было. И взять негде.
А даже если бы и было где – вся душа, все ее существо восставало против убийства того живого, что растет сейчас у нее под сердцем. «Доченьки», вспомнился вдруг Анечкин щебет. И – убить?
– Не журись, соседка, – бубнил где-то возле нее дядя Юра. – Это сосуды. Я вот расширяю их, – он поболтал в воздухе выдернутой из-под стола бутылкой, – и все в порядке. А так что чего ж, конечно, тяжко. Жарища-то вон как в духовке. Июль скоро.
Июль? Да, точно. До июля оставался еще почти месяц (это у Юры-алкоголика весь календарь схлопывался до невидимости), но слово, зацепившись, так и крутилось в голове.
Июль. Юлия. В ноябре у нее родится девочка (почему-то было совершенно ясно, что будет именно девочка), и Лера назовет ее Юлией.
По дороге Юля не отрывалась от телефона: строчила sms-ки, звонила, отдавая рабочие распоряжения…
Лера косилась на дочь и думала: может, зря я так сержусь на ее легкомыслие? Не такая уж она и легкомысленная – вон и в пробке (ох, московские дороги, похоже, только в середине ночи и бывают относительно проезжими) времени не теряет. А что в медицину не пошла – так ведь и Анна не врач, а переводчик. Да и сама Лера давно уже не столько врач, сколько администратор, в операционные заходит лишь с «ревизией» – не пора ли обновить оборудование. Так что никакая Юля не безалаберная. Финансовую академию очень прилично окончила, Давид ее своей правой рукой считает, говорит, что их медицинскому центру давным-давно нужен был толковый экономист. Да не просто толковый – таких можно найти, – а еще и свой.
Давид за годы их знакомства и партнерства почти не изменился – все такой же сухощавый, подтянутый, быстрый. Только седина в волосах все гуще проблескивает. Боже мой, четверть века прошло!
– Что вы! Вам же нельзя! – Худой чернявый парень перехватил у Леры ящик с виноградом.
Летний сарафан не мог скрыть уже явственно округлившегося живота. Нельзя, видите ли, ящики таскать! Конечно, нельзя. А что делать?
В первый свой рыночный день она ужасно стеснялась. Не живота, а вообще. Как это так: она, дипломированный врач, отличный хирург и вдруг – на рынке. А потом стало не до того.
Да и что там стесняться, других-то вариантов все равно не оставалось. Да, Лера была хорошим хирургом. А что толку? Зарплату задерживали, а новая начальница отдела кадров с ходу начала проворачивать какие-то свои делишки: выживала из отделения всех, кого могла, оформляя на освободившиеся ставки «мертвых душ». Сперва разбежались санитарки (осталась одна баба Глаша), потом настала очередь медсестер и даже врачей. Подумаешь, оперировать некому! На срочные операции есть кого поставить, а плановые подождут. Врачи, кстати, не слишком упирались. Кто-то начал собственное дело (Максим, по словам всезнающей бабы Глаши, открыл собственный медицинский центр), а кто и вовсе сменил профессию.
Соседка Клавдия Ивановна (та самая, что сдавала Лере комнату) пристроила ее на рынок. Здесь хотя бы платили. И Анечку наконец стало можно перевести из круглосуточной группы в обычную. Так что, подумаешь, какая беда – за прилавком постоять.
Непрошеный помощник сноровисто переставлял ящики, жарко посверкивая огненно-черными глазами. Невероятно худой, с резко выпирающим кадыком и мосластыми плечами он казался почти подростком. Но на смуглом безымянном пальце сияло обручальное кольцо. Да нет, вряд ли обручальное, он же мальчик совсем.
«Мальчик» переставил последний ящик:
– Как же вас муж отпускает? – Он укоризненно покрутил головой.
– Муж… умер, – солгала вдруг Лера. В конце концов, она не обязана объяснять случайному знакомому, что да как. И, мгновение подумав, добавила: – Кольцо не могу носить, руки отекают, кошмар просто.
Отекать в последнее время стали не только руки, но и ноги. Эта беременность, не то что первая, протекала тяжело. Не то от скудного питания, не то от непрерывного стресса. Как врач Лера прекрасно понимала, что отеки, скачки давления, головокружения – так называемый поздний токсикоз – угроза нешуточная. Надо бы лечь «на сохранение», но как быть с Анечкой? И вообще с жизнью? Что же делать? Малейшая мысль о будущем вызывала приступ панического ужаса. Какое там будущее, есть чем сегодня Анечку накормить – уже хорошо. А завтра…
Отыскать Максима, поплакаться ему? Мол, твои дети, помогай… Нет уж. В последнее время мечты о Максиме – о том, кто совсем недавно казался до темноты в глазах желанным и единственным, сама мысль о нем как-то отдалилась, поблекла, словно бы съежилась. Нет, Лера не пойдет ничего просить. Она сама.
Парень сокрушенно покачал головой:
– Если что, зовите меня. Меня Давид зовут, я вон там, рядом. Вам самой нельзя, – повторил он и нахмурился. – Я знаю, у меня жена тоже беременная.
– Сколько же вам лет? – Лера не смогла скрыть изумления.