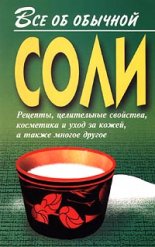Скитальцы Личутин Владимир

Тут дверь отпахнулась, в клубах мороза двое вошли: один под потолок, бурый от мороза, широкий, будто печь, пролезал в своем совике боком, второй – сухоребрый, с прямыми плечами и легкий на ногу, сразу по-птичьи обежал канцелярию и каменно во фрунт застыл.
– Ну, что у вас? – уставился судья посоловелыми глазами.
– Беглого матроза велено доставить с Дорогой Горы, – ответил Петра и на всякий случай поклонился.
– Это ты, что ли? – любопытно спросил капитан Шилов, забывая на время о вчерашнем.
– Как есть я, дурак, прости Господи, ваше высокоблагородие, – выгнул грудь Степка и пришлепнул мороженными тобоками, сбивая пятки вместе.
– Ну шутник ты, братец.
– Так точно, сроду такой, и татушка такой был, и дедо двоюродный. Скоморохи-с...
– Ну, братец, бежали зачем? Иль корм плохой в адмиралтействе, а может, отцы-командиры неподобно себя вели-с?
– Никак нет... Батюшке нашему богоподобному служил не щадя живота. А лонись пришла с нарочным из деревни гумага со слезными просьбами от татушки и матушки. Пишут они мне через старосту, Степушка, приезжай навести, быват, и помрем скоро. В избе не топлено уж кой день и некому хлеба подать, воды поднести. И такая тоска меня окрутила, ваше высокоблагородие, так немочно исделалось, что и сам не знаю, как побежал прошлой осенью, и вот доныне и бегаю.
– Складно ты врешь, братец, – светло и холодно блеснул глазами судья, а добрые губы разбежались в доверчивой улыбке. – Врун ты, братец, и записной врун ко всему прочему-с.
– Никак нет, – горячо воскликнул Степка, ловя в голосе капитана слабину. Он неожиданно в поклоне повалился на пол, темные волосы, беспорядочно и кудряво отросшие на свободе, осыпались на шею, на лицо, а ночные глаза омыло влагой и скорбью. – Не погубите, ваше высокоблагородие. Век молиться за вас стану. Бес попутал, жена у меня, дети малые, так стоскнулось. Мужик ведь, в соках самых, вдруг да что, все думается, бабы по ночам гоняются, мочи не стало...
– Ну-ну, братец, – смущенно отвернулся судья и тихо добавил: – Зачем опять врешь сказки. Мы ж пытали-с, откуда ты и чей, давно по тебе сыск объявлен и в кандалы велено тебя заковать и по этапу в Архангельск.
– Вру, и что с того? – насмешливо и готовно согласился Степка, поняв, что не отвертеться. Неловко поднялся с пола, – знать, мешал заколелый на морозе совик. – И что с того? Но сам объявился. Видит Бог, что не тать я, не убивец. Бывало, лежу в казарме, посреди ночи глаза отворю, вонища, хоть топор вешай; храп-от на все глотки, а мне лес вольный привидится, шумит он, манит. И задумал: побегаю и вернусь...
– Эй, Прошка, – кликнул судья высокого с круглой грудью драгуна. – Отведи беглого в арестантскую.
Степка весело подмигнул Петре и выпихнулся в дверь, а Петра еще топтался у порога, плотнее нахлобучивая треух. От волнения он взмок, и рубаха пристала к спине.
– Ну что еще? – безразлично спросил судья. – Он как-то сразу осунулся, мешки под глазами налились сыростью, и при мутном свете свечи он показался Петре совсем старым.
– У нас, значит, того... В Дорогой Горе мещанин Калинка Богошков есть, ваше высокоблагородие, – дрожащим голосом объявил Петра и споткнулся деревянным языком. – Ну, как бы это ловчее... До Пинеги-то он с матрозом Степкой Рочевым вместях бежал, да и амбар полевой брал. А разбойник возьми и проскажись. Вон оно как...
– Ну ладно, поди.
Петра еще что-то хотел добавить и забыл вдруг. Вышел отдуваясь: «Ну слава те, сбыл лиходея с рук». А на Мезени уже влажно темнело, к вечеру совсем от теплило, и снег скатывался из печально взвихренных облаков легкий и неслышный. Невесомый, совсем весенний ветер прошелся низом, омыл лицо, и Петре стало как-то не по себе, – может, от усталости или еще по другой какой причине. Захотелось выпить, ни о чем не думая посидеть в тепле и посудачить. И Петра завернул коня к божатке[12] Акуле Толстой, но в сани садиться не стал, шел рядом, тяжело ступая на волглый крупитчатый снег, чувствовал, как дорога проседает под ногами, а значит, конец февралю.
Петра завел коня во двор, поставил сани в дальний угол, часто поглядывая на мерцающие окна, на желтые проталины на сугробах. Из трубы слоисто и тяжело поднимался дым, пахло жильем. Он достал из розвальней одевальницу, оббил ее от трухи, слежавшееся сено забрал охапкой и кинул ворохом под морду коню. А как пошел в избу, нагнулся к саням за ременкой и что-то не нашел ее. Стал искать, встряхивать сено, заахал сразу, заматюгался, костя себя: знать, посеял в дороге иль разбойник этот куда закинул, и в самом передке неожиданно наткнулся на сверток, будто в холщовую тряпку хлебы завернуты. Еще по пустой мысли откинул его, а уж после подумал неладное, стал торопливо разворачивать холстину, и как услыхал серебряный звон, так все и понял. Тяжело задышал Петра, не считая денег, завернул их обратно в тряпицу.
– Каково подстроил, каково, а? Куда хошь девайся, – сразу перетрусил, стал припоминать, как это случилось, ведь будто и от саней не отлучался. Вот дьявол, ну и разбойник, поехать и заявить, поехать и объявить, мол, так и так, иначе с этими деньгами греха не оберешь. Сколько же их, посчитать? Степка-то баял, дак много, поди, там. Баба Ханзина в бедности не живала.
И Петра, стараясь не шуметь, воровски покинул божаткин двор, погнал коня мезенской улицей к расправе, чтоб пасть на колени перед капитаном Шиловым, повиниться в незнаемом грехе; вроде мужик с понятием, зря в морду не тычет и окриком не берет. Но окна в расправе уже черны и пустынны, слюдяные закраины едва просвечивали за крутыми забоями[13], – знать, судья ушел на отдых.
Еще недолго посидел Петра Чикин в розвальнях, оглядывая мезенскую расправу, и остыл от прежнего рвения.
– В Николы и заночую у кума. Восемь верст верхней дорогой, – вслух размышлял Петра, вроде бы забывая о свертке под задницей. – Знать, Божий промысел... чего уж. Нигде не бывал, никто не видал, а Бог напитал... А и то... Допытай, возьмись, на-ко выкуси.
И Петра с полоумной совсем головой повернул вороного к Дорогой Горе. На ночь глядя погнал коня к дому с одной лишь мыслью – как бы подалее деться от этих мест. В Николе к куму на ночлег не привернул, дорогой колоба стылого пожевал, да какая тут, к лешему, еда, и в самое утро заехал в свой заулок. «Бог дал, Бог и оборонил», – успокоил себя Петра и, воровато озираясь, сунул сверток под мерзлые кавалки навоза да сверху еще коровьих жидких олабышей выкидал из хлева. «Поди возьми тут. Спаси мя и помилуй, Никола-заступник».
А перед самой Евдокией случилось в Дорогой Горе такое, отчего разговоров было не убраться. В начале марта навестили Калину Богошкова мезенский исправник Казаков, староста Петухин Мартемьян, он сродни будет Богошкову, да десятский Мясников, тоже с ихней деревни мужик. Провели они повальный сыск, переполошили всех, в избе говори не вели, оценили мерина в подпалинах да корову красную, да корову нетель, да пятнадцать овчишек, да снасть рыбацкую и все прочее по цене девяносто три рубля пятьдесят копеек. И староста Петухин Мартемьян имение принял под присмотр и обязался хранить в целости и никуда не тратить до повеления нижнего земского суда. Тинка пластом лежала на полу, с нею плохо стало, когда Калину вывели из избы и посадили в сани-розвальни, где уже горестно сутулилась девка Павла Шумова.
А как съехали с деревенского угора, встретился о дорогу Петра Чикин в бараньем нагольном полушубке. Он оступился по колена в снег, когда розвальни раскатились в его сторону, пристально вгляделся рысьими глазами в немое лицо недруга Калины Богошкова и вскричал натужно, не таясь:
– Душегубец, кровь проступила на перстах твоих!
Глава пятая
Ему объявлено увещание, что истинное признание избавит от истязаний.
Вторую неделю добивались от Степки Рочева признаний в убийстве вдовой бабы Парасковьи Ханзиной да ее девки Варвары, но парень запирался, божился, вот те крест, ничего слыхом не слыхал и в тех местах веком не бывал. Исправника Казакова путал, сбивал с мысли, на Калину Богошкова доносил, что у Березницкой деревни примерно версты в четыре он да товарищ его Алексеев, остались у ручья в лесу, а он, Калина Богошков, в ночное время ходил в амбар, что напротив часовни, для покражи, и через крышу, зорив ее, взял белого крестьянского сукна две трубы, которое и поделили они меж собой, да рубаху мужскую держамую из синей пестряди, шубу овчинную, да семь фунтов масла коровьего, шестнадцать фунтов соли и пешню-острогу. Тряс обросшей кудрявой головой, чуть ли не слезу ронял Сгепка Рочев, а стоял на своем.
– Да побоись Бога, Степушка. Что ты со мной делаешь, пощади живота моего, – увещевал глухим голосом Калина Богошков. стараясь заглянуть Степке в глаза. У Калины щеки совсем запропали в светлой бороде, ему что-то нездоровилось, выбитая в колене нога разбухла, и уже третью ночь мужик толком не спал. Но каждый день водили его на расспросы, все допытывались, почему не сказался, что видел в бегах Степку Рочева, да как зорил полевой амбар, да где попрятал покраденное имение.
– Ну почему же тогда-с не доносили? – допытывался исправник Казаков, рано полысевший от неустроенной своей жизни и от служебных скитаний по уезду. Он уже о чем-то догадывался, но многого и не знал, потому как беглого солдата Алексеева случайно застрелили при задержании в тайбольской избе. Виновный уже под стражей, ему не миновать колодок, но дело стоит, потому исправник недовольничал, грозил батогами, но что-то медлил, словно не знал, с которого начать: иль с обросшего кудрявым волосом беглого матроза с шальными ночными глазами, иль с простодушного светлобородого мужика из Дорогой Горы, которого исправник каким-то образом припоминал.
– Ну почему тогда не повинились? – повторил исправник.
– Застращал, ваше благородие...
– Ну а ты, крестьянская девка Павла Шумова, отчего не открылась? – спросил у Павлы. Та сидела у двери, простоволосая, растерянная, с глупо открытым ртом, часто всплакивая, вспоминая татушку, которого покинула в сиротстве, в истопленной избе, некормленого-непоеного. Девку мутило, словно бы она что дурное съела, голова кружилась, хотелось запрокинуться на лавку и лежать. Порой взглядывала испуганно в Степкину сторону, и если бы он был побитым и печальным, она, пожалуй бы, молчала и под плетьми, но Степка весело похохатывал, порой резко склонялся, хлопал гулко ладонями по новой оленьей обувке, перевязанной под коленями шерстяной тесьмой. И эта Степкина веселость Павлу смущала и гневила, а парень, не скрываясь, раздевал ее взглядом донага нахально и больно. И девка прослушала вопрос, глаза ее закраснели, и родились крупные слезы.
– Простите, батюшка, глупу девку, неразумну. Я маленько вздремнула.
– Чурка с глазами, – вдруг сказал Степка, нагнулся и опять хлопнул по новехоньким тобокам из оленьих лап. И эта обувка смутила исправника; он заново перелистал дело, все допросы, где что пограблено было, и в дознаниях тобоки не числились, а значит, покрадены совсем недавно.
– Застращал он меня, батюшко. Спусти ты меня, у меня тата на печи голодный, холодный, – взмолилась Павла, боясь глянуть в Степкину сторону. – Ты-то молчи, зверина. Мы тебя, как родного, поили-кормили...
– Вот те и застращал, – толстые Стпкины губы расплылись. – Знать, и тебе сладко жилось? – добавил, намекая на что-то.
– Зверина ты, у-у, тьфу, нечисть. Ножом угрожал, батюшко. Глазищи-то у него, кого хошь перепугат. А у меня тага на печи да я, девушка. Уж спустите как ли.
– А тобоки отцовы? Захарий Шумов дал? – вдруг спросил исправник у Павлы, но мельком глянул на Степкино лицо и заметил, как дрогнули растерянно глаза.
– Не, в них и пришел. У нево и совик-то новый, с хорошего сукна, небось кого пограбил, да, как я показывала, в холсте зашито платья всякого да платов. А мне-то сказывал, что на свои деньги куплено. Дак спустите, батюшко, – взмолилась снова девка и повалилась на колени. – Куда я тепере, позорна, денусь. Только в пролубь головой...
Павла стала биться на полу и стенать, на том допрос неожиданно кончили и всех отвели в арестантскую, а на Степку Рочева исправник повелел колодки надеть. И еще неделю пришлось сидеть в холодной Калине Богошкову и Павле Шумовой, пока-то разыскивали в тундре самоедского пастуха Матвея Лытуева. Тот посмотрел на Степку и признал на его ногах тобоки своей работы: в прошлом годе шил и продал задешево по старой дружбе покойничку Ханзину.
– У, лопь косоглазая, – вскинулся Степка на низкорослого смуглолицего ненца, но не успел и половицу перешагнуть, как усадили на лавку умелые стражники. И поник головой Степка, понял, что запираться не след более, и много было в тот день работы для подканцеляриста Никифора Митрофанова.
И Степка Рочев показал: «... По осени в пустой промышленной избе жили немалое время, но покраденная ранее мука кончилась. А знал он, Рочев, что невдалеке от этой избы есть дом и живет там Дорогорской волости крестьянин Иван Ханзин с женой и дочерью. И о том сказал сотоварищу своему Алексееву, и тот поутру пошел туда просить хлеба, и того же дня вернулся обратно, и принес два житника прелых, и сказал, что хозяин недавно помер, а в доме живут только жена его и дочь. И Алексеев стал звать Рочева пойти и жену и девку убить, а имение пограбить, на что он, Рочев, сказал, что на убийство не пойдет. Тогда Алексеев без согласия взял с собою нож в ножнах и копье, которое они нашли в этой избе, и пошел один ко вдове Ханзиной. А вернувшись обратно, сказал, что жену и девку убил до смерти, а покраденное имение все притянул на чунке. Но всего имущества Алексеев не показал, а только хвастал бураком берестяным, в котором было денег ассигнациями шестьдесят пять рублей, да серебряных пятнадцать рублей, да медных пятиалтынников сколько, про то он, Рочев, не знает, потому что теми деньгами Алексеев не поделился, а забрал себе.
На товарище был покраденный ранее у березницкой деревни в амбаре суконный совик, а на совике том – кровь. Он ту кровь замыл, сапоги, которые по ветхости при побеге пропали, выбросил и надел тобоки покраденные, а вторые отдал мне. Что случилось в том доме, он, Рочев, знает только по словам Алексеева, который рассказывал так, будто пришел к избе Ханзина на лыжах уже вечером. Копье, дескать, оставил в сенях у дверей, а нож в ножнах взял с собой. Зашел в избу, просил у бабы Ханзиной денег двадцать рублей, хлеба и сказывал, что пойдет явиться. Но оная жонка хлеба и денег давать ему не стала, а бранила его, Алексеева. Тогда он осердился, вынул из ножен нож и тем ножом стращал Парасковью Ханзину и просил хлеба. Замахнулся он на оную жонку ножом, и она руками обороняться стала, попало ей по правой руке, по кисти. Она не убоялась страху, схватила Алексеева сзади за опояску, а девка Варвара убежала на улицу. Потом вытянул жонку из избы, взял в левую руку оставленное у дверей копье и тем копьем бабу Ханзину колол, во что угодить мог.
Мать девку к себе на помощь прикликала с улицы, Варвара прибегла и Алексеева сзади копьем в шею ткнула и проколола на нем суконный совик, а тела не повредила, после того свое копье бросила, а копье в руках Алексеева захватила и хотела его отнять. Тогда он ножом девке по руке чиркнул, и девка убежала в овечник, а мать упала на пол. Алексеев погнался за девкой и дверь в овечнике с внешней стороны завязал веревкой, а когда вернулся, то увидал, что баба Ханзина еще жива, и лежащую ее тыкал копьем два или три раза. А когда она стала мертва, то накрыл сверху оленьей полостью и пошел в клеть.
Искал там денег и найти не мог, пошел в амбар и там денег найти не мог, пошел в гумно и топором рассек две бочки с мукой, но кроме муки там ничего не было. Потом искал в доме денег и нашел во дворе под скотинными яслями прикрытый навозом берестяной бурак с медными деньгами и ассигнациями. Еще взял в сенях винтовку, топор, шубу овчинную небольшой руки, в клети разбил короб и взял из него рубаху мужскую красную александрийской пестряди, полурубашье набойчатое женское, да плат красный александрийской пестряди, обложен нитяным кружевом, да двои тобоки, шитые из оленьих лап; на улице на дворе нашел чунку, погрузил имущество, привез в тайбольскую избу и сказал мне, что жонку Ханзину и девку ее убил. А мне из пограбленного Алексеев отдал рукавицы женские, да две рубахи синие пестрые, двои портки, да холста белого восемь аршин с половиной, двои чулки шерстяные вязаные, да два платка набойчатые.
А что еще покрал Алексеев в доме вдовы Ханзиной, он, Рочев, того не знает, потому что тем же днем, боясь, чтобы не поймали, пошли из той избы на низ реки, где и спрятали ружье, а чунку сожгли. Потом он, Рочев, стал склонять Алексеева, чтобы явиться властям, пока убийство не открылось, дай Бог, посекут да обратно в адмиралтейство отправят, но товарищ не захотел, и они тут разминулись. А где он сейчас, того Рочев не знает...»
Следствие затянулось, и конца его не видать было. Калину Богошкова отослали к городничему под стражу, он совсем разболелся и пал духом. Однажды навестил его свояк, дорогорский староста Петухин, посоветовал отписать прошение властям, чтобы освободили на поруки ввиду крайней болезни. Калину осмотрели и нашли, что крестьянин Дорогорской волости Калина Богошков «подлинно одержим болезнию в ногах и лихорадкою, которые причиняют ему большую слабость и бессилие и имеется во внутренности изнурение его тела».
Калину отдали из-под стражи на поруки канцеляристу Патрикею Аксенову и мезенской команды драгуну Ивану Ершову, и взята была с мужика подписка, чтобы жил он на городе Мезени в верхней слободе и до решения дела никуда не отлучался, а еще было объявлено ему, «чтобы впредь с лихими людьми, татями и разбойниками обхождения не имел и об них, когда узнает, объявлял».
И только в самую весну Степку Рочева обули в колодки, потом секли прилюдно на Мезени и в Дорогой Горе и по этапу отправили в Сибирь. И, знать, набегался с той поры верховой няфтенский парень, потому что след его канул в полуночной стране, откуда редко кто являлся назад.
А Павле Шумовой и Калине Богошкову по всемилостивейшему указу царя плети заменили батогами, и на деревенском сходе прилюдно выпороли за их доброту. Павла к весне совсем сникла и постарела, снежный волос родился на голове, а на впалых щеках проступила пятнистая ржавчина: нежданно затяжелела девка. И когда ей бесстыдно заголили спину, заворотив на голову юбки, как в ту единственную ночь, она гак же покорно лежала и только выла, не сдерживая себя, и украдкой упиралась локтями, чтобы не давить животом в скамью.
Часть вторая
Одно начало, да разная дорога
Поморская поговорка
Глава первая
Тайку на этом свете не ждали.
Сына просил у Бога Петра Чикин, потому как все девки рожались, одна за другой, попридержать бы их, а нужен наживщик был, чтобы землю на него отрезали, чтобы за сохой мог стоять. Петра самолично двери настежь отворил, все замки спрятал; с Гутьки кольцо серебряное тонкое снял и косу расплел, только знай рожай сына, жонка. Да и Августе попреки в горле встали, рада хоть пятерых парней разом принести, только бы не точил мужик гнусливыми словами, да и понимала бабьим умом, что женские годы под гору покатились, вот и живот частенько постанывает ныне. Потому и крепилась Августа, и брюшину затягивала, чтобы в глаза людские не бросалась; скрывала она, что на сносях, как бы не сглазили колдуньи-еретницы.
Перед тем как Тайке родиться, было над деревней знамение. Еще утренняя заря не отгорела и печально и багрово потухала, покрываясь серым пеплом мглистого неба, и солнце еще не проклюнулось из снежных заводей, как за второй Пыей, на синих лесных склонах, родились и стали пухнуть два мутно-холодных шара. Они были подернуты изморосью и весь день тащили за собой похожее на донце медной кружки крохотное солнце и до самой вечерней зорьки колыхались, то вытягиваясь оранжевыми столбами, то странно расплющивались, иль стояли красными языками, подобием пламени великаньей свечи. За весь день тусклое солнце так и не проклюнулось сквозь розовое марево и вместе с ним вернулось в снежные облака.
Людям было страшно. В тот день в Дорогой Горе не гасили лампадок, крестьяне сулили всяких напастей, а где-то за полночь в самую потемь так закуревило – Божий страх. Метель билась в старые стены, тоскливо пуржила, накатисто ударяла в волоковые оконца, словно нащупывала слабину, и тогда казалось, что изба Чикиных скоро не выдержит и падет на колени. Порой ветер катился через поветь, совался в неплотно прикрытую дверь меж соломенными обвязками, и снежная пыль легко носилась над самым полом. Баба Васеня не стерпела, тяжело спустилась с печи, сняла с засторонка жирничок.
– Находальники, стомоногие жеребцы, носит взад-вперед, а уж двери прикрыть не помыслят, – захотела отпахнуть пошире дверь, чтобы заново прикрыть плотнее, но она отпотела, разбухла, а может, наросли на пороге наледи, – и пришлось брякать ногой. Тут и всполошилась неожиданно дочь, захлебнулась в крике. Баба Васеня с жирником побежала к Августе, закричала зятю...
– О-о-о, чешись больше. Осподи!
Петра скорее к повитухе Соломониде, хорошо рядом, на самых задах жила старушка-девица. Потом снег отвалил от бани, запалил каменицу. Березовые полешки положены были загодя и схватились сразу. Не успела выстояться баня, и Августу привели, готовое дело. Петру выгнали вон – не мужское дело быть при родах. Соломонида растелешила роженицу, в пар пока не повела, угар еще гнездился под низким потолком. Вдвоем с бабой Васеней водили Августу в сенцах да потряхивали: той было больно, она кричала животным голосом, но освободиться не могла.
– Ты поплачь, ты пореви, – бормотала баба Васеня, необычно жалея дочь. – Осподи, через горе да на горе, вся-то и жизнь. Ведь говорено было, не ешь хлеба ячменного, а ты все ись хочу да ись хочу, вот и нажоралась, – вдруг закричала на Августу.
А повитуха, маленькая и опущенная, как осенний гриб, мужицкой ладонью оглаживала роженицу по спине, по плечам: Августе становилось сонно и безразлично, боль куда-то ушла, и только слезы стекали по лицу и мешали дышать.
– Ты пыжься. Не иначе паренек идет, ишь своенравный какой, ширится, мамку мучит и сам мучится. А ты, голубица-касатушка, не садись, ты похаживай, ты поскакивай. Знать, поперечно идет молодец.
Но без лошадиной упряжи не обошлось, пришлось тянуть бабу через пахнущий зверем и потом тесный хомут, тут все облились стонами и банным жаром. Только под утро пришла девка. Августа по крику узнала, кого принесла, головы не повернула. А повитуха подняла девку за ножки, по заднюшке похлопала:
– Эки-ти девки у нас в слободке еще не рожались. Голова-то вся в белых волосьях, хоть под венец ставь, густы-ти сколь.
– Будет тебе ерунду молоть, – остановила баба Васеня. – Как положено, так и рожено. Людей не насмешили, на стороне не займовали.
Повитуха обиделась, луковичное лицо спрятала за сетку морщин, пожевала губами, но смолчала: ребенка разложила на скамье, веником березовым захлестала, запричитала уже сухим, почужевшим голосом:
– Не я тебя мыла, не я тебя парила, мыла тебя, парила бабушка Соломонеюшка. От Христа пришла, от истинного, с мягкими руками, с крепкими словами, мыльным мылом, теплою водою мать-мироносица, рабы Божия, на легкую помощь, на доброе здоровье, на Божию помощь. – Квасу в рот набрала, погрела-побулькала, роженую напоила, пряника чердынского нажевала, в тряпку завернула, сунула в рот. – Ну, не ревишь, значит, смиренна будешь.
И только Августа на дочь не глянула, а мать веником ее лупит и утешает:
– Ну, чего ревишь. Обратно не запихнешь, не воротишь. Не зашивать же веретенкой, коли идут.
– Да, идут, – в голос воет Августа, обвисая на скамье. – Теперь хоть в избу не ворочайся. Забьет, ирод.
Тут и свечи принесли в баню, самовар – он еще кипел, пузырился и от мокрого пара сразу запотел, стал белым. Пряники чердынские да орехи-меледу в тарелках поставили на полок. Соседки навещали, чай пили, девку мяли, в зеленые глаза смотрели.
– Эко чудо, таки у нас еще не рожались.
И только Петра Чикин дочь не навестил, до вечера в питейном доме пропадал, диво какое, небывалый случай: нагрузился вином, потом в сугробе сидел, редковолосая голова в снегу, в бороде слезы замерзли. Мужики узнали его беду, идут мимо, спрашивают:
– Петра, кого Бог дал?
– Работницу-оржануху. Кому нать, за полушку отдам, – пьяно кричал Петра и опрокидывался в снег.
– Ну, буде, буде изводиться тебе. За слезы деньги не давают. Ты не реви, Москва слезам не верит. Подрастет девка-оржануха, мужика во двор заманит, худо ли ты живешь?
– Кака к лешему жизнь, в чужом-то дому с руки ешь, слова громкого не скажи, – пьяно жаловался Петра.
– Как же, тебя с руки накормишь, кукушку эдаку. Поди давай домой-то, дочку приветь. Божий подарок.
... Через неделю Августа с дочкой из бани вернулись. Петра бабу не колотил, но и разговаривать не стал, с печи не слез поглазеть на дочь, а только шипел тоскливо:
– У, колода вислобрюха, деревянна ступа. – И даже на повитуху голос поднял, будто ее вина была в том; чаем не напоил и стопочку не поднес, как полагалось по старинному обычаю, не нами заведенному. Хорошо, баба Васеня сундучок свой открыла с немудрящим обзаведением, там из коробки чайной рубль денег достала – на похороны копила, да свой сарафанишко набойный ношеный, да кусок мыла, с фунт будет, отдала: «Ты у нас, бабушка, опачкалась. Вот возьми мыла, оно тебе спонадобится».
Роженую окрестили Таисьей, на третий день, как заведено, молоком коровьим цельным кормить стали: от старшей сестры, от девки к девке шел белый жестяной рожок, – купил его Петра на Пинежской ярмарке, – на рожок натянули коровий розовый сосок, налили молока сырого – пей, девка, наедайся, набирай кость да мясо для бабьей доли.
Глава вторая
В ту ночь на Кузьминки, когда у Петры Чикина нежеланная девка родилась, сироте Павле Шумовой тосковалось. Она еще не думала опростаться, хотя и бродила по дому тяжело, юбки расперло – и пришлось разнаставлять; поднималась с лавки, упираясь широкими ладонями в опухшие бедра и трудно разгибая спину; с лица совсем опала, окостлявела, и глаза стали круглыми, коровьими и совсем провалились в синие ямы. Павла часто гляделась в тусклый лик Матери Казанской, в ее печальные и зеленоватые при свете лампады глаза, сонливо вздыхала и всплакивала, роняя короткие слезы.
На улице пуржило, Бог ты мой, не приведи Господь в такую непогодь ехать полем. Бездумно молилась Павла за того, кто в пути сейчас, татушку поминала, боязливо озиралась на печь, словно бы он там лежит, со страхом прислушивалась, как воет ветер на повети, как ударяется в волоковые оконца и натужно вздрагивает в слуховом окне волочильная доска.
– К покойничку ветер-то, – шептала Павла пересохшими сизыми губами, туже запахивалась в черный плат. – Кого-то приберет Господь, успокоит. А татушке не довелось, лег на чужбинке, мается сейчас, ой и не лежится небось ему, не можется. Не он ли и просится в дом.
Прислушалась, показалось, будто корова мыкнула во хлеве. Вот беда тоже, ввечеру едва поднялась Пестронюшка и молока с пригоршню дала, а уж вымя-то горячим камнем: осподи, хоть бы коровушку мою не сронило. Достала из солонки щепотку соли, зашептала тупо, озираясь на дверь; потрескивала лучина в светце и, шипя, осыпалась искрами в корытце водой:
«... Призываю я, раба Божия Павлушка Шумова, к своей скотинке, крестьянской-то животинке, Пестронюшке моей спасительнице, вечно упомню я нокот нутряной, серчевой, паховой, здоховой, рудяной, костяной, зажильной тож да закожной, еще зашерстной да закопытной... Осподи, не дай осиротеть».
Запалила лучину торопливо, дверь отпахнула ногой, у порога целые сугробы снега, перемело насквозь, да и что говорить, в сиротском доме нуждишка в каждую щель ширится. А в стены ветер наотмашь бьет, кажется, вот-вот изба раскатится по бревнышку. Затихнет, да как хватит накатисто, с натужным стоном, огонь трепыхнется на лучине и едва оживет заново. Страшно Павле, черные тени шатаются по мохнатым от куржака стенам, старые сети обросли снежным мохом; под потолок высится крест с шатровой тесовой крышей и у самой лесенки, где в подызбицу спускаться, стоит гроб, а на крышке снегу внавал. Не привелось татушке лечь в свою домовину[14], а ведь как старался, тесал топором из лиственницы да на точеные ножки поставил. Бывало, говаривал: не знаю, Павла, как еще наживемся, а что свадьбы играть, что похороны рядить, одинаково мешкотно, а я уж не хочу тебе обузой быть. И на кладбище рядом с женой место себе приготовил Захарий Шумов, камни откатил прочь, чтоб сподручнее копать могилу, а вот не пришлось лечь в родную землю. Леший за руку поволок на старости лет на Пезу, вдруг захотелось навестить сестреницу.
Летом-то ожил старик, прямо молодец молодцом стал, еще дуги гнул и короба вязал под грибы-ягоды, а на самый Спас вошла блажь в голову: поеду, и все. Тут и попутье подвелось, взяли старика чернотропы, подняли на лодке вверх по Пезе в деревню Лобан, а там зажился он у сестры, потом с осенними дождями прихворнул, как-то сразу истаял весь, куда в таком теле старика спровадишь. И Павле никак не известно, что с тятей, каков он, живет себе одна и своей поры ждет. А река Пеза застыла нежданно, и Захарий Шумов умер в самое безвременье: и на лодке не спустишься, и по льду лошадью еще рано ехать, хоть и до Дорогой Горы не столь и далеко, верст шестьдесят, не более. И не вывезли покойничка, схоронили на чужом жальнике: а перед смертью-то как плакал старик, весь извелся, дочь-то свою больно жалел.
«Осподи, куда теперь ряженье это – гроб да крест. Подумать страшно, каково приданое-то». Павла спустилась по обступанной ногами лесенке, осторожно сходила, боялась оскользнуться, – долго ли тут до беды, хитрое ли дело упасть, – лучину в зубах держала, а за перильце обеими руками придерживалась. Спускалась, а под грудью при каждом шаге будто что-то ойкало. Воткнула лучину в паз, а коровушка и не встала, только тяжело подняла мокрую голову, белая шерсть свалялась на лбу; глаза при неярком свете совсем черные, мертвые какие-то. Упала на колени Павла, взмолилась:
– Да ты скажи, косата-голубушка, что с тобою приключилось?
А ветер задувает, страсть Божия, такая заметель, что-то хлопает с заулка, шарчит по стене, словно скребется кто иль в дом просится бесприютный. Пестронюшка смотрит темно и вроде бы Павлу не видит, а из глаза слеза так и выпала. Девка ситную горбушку к мягким губам прислонила, а корова будто каменная, только животом тяжко ходит, словно кто из него вон просится. А сена охапка лежит нетронута, самое мелконькое сенцо, пахучее, в другое бы время вмиг слизнула. Павла захватила щепоть, в зубы тычет, другой рукой меж рогов щекотит, радует корову, а та как есть ступа деревянная.
– Татушка, не оставь, возьми за собой, – вдруг взмолилась Павла, легла головой на оплывший тяжелый коровий бок. – Куда я теперь сиротиной-то вековечной, всякий меня пообидит, кажный оплюет.
Вдруг пугливо прянула, страшное почудилось ей; вроде бы странно тихо стало. Тут и лучина зашипела, осыпалась искрами, темнота обступила. Павла лицо подняла, слепо оглянулась кругом, а сама и не знает, как давно плачет, а тихо так, до жути тихо, и в стены ветер не хлопнет, и корова мокро не вздохнет, сыто отрыгая жвачку. И Павла последний раз всхлипнула, зашарила у Пестрони по морде, нащупывая ноздри, а теплый воздух уж нейдет из пасти, словно задохнулась кормилица и быстро так остывать стала.
– Ой, не-не... ты ужо... голубушка моя, – беспамятно зашептала Павла, встрепенулась, на колени встала, больно ударяясь об мерзлые кавалки навоза. – Я тебе горбушку посолю, потом ты хорошо попьешь, а к завтрему и все пройдет. У меня парево-то в кадце такое уж сытое настоялось. Я сейчас и приволоку. А пока сенца поешь, пожуй сенца-то, оно с заливной поженки, где в прошлом годе ты выгуливалась. Уж запамятовала небось? Ну ты не балуй, не упырься. – Стала девка пехать сено корове, другой рукой бок гладить, а он уже словно студеный камень-голыш.
И тут поняла Павла, что кончилось Пестронюшка, настучала заметель в ее окна новое горе, и словно судорога с девкой приключилась: тело напружилось, голова запала за плечи, и повлекло Павлу назад, обвалилась она спиною на мертвую уже скотину и беспамятно вскричала, словно прощалась с кормилицей: «Ой-о-о». Тут с новой силой родилась заметель, ударила в стену хлева и хрипло заплакала, задыхаясь в снежных забоях. А у Павлы так больно зашлось сердце, она туго и торопливо натужилась, чтобы избавиться от боли, и – разрешилась.
Глава третья
... День за днем, будто вода, бежит жизнь, и не бежит даже, а неторопко струится от весны до весны, когда можно возрадоваться солнцу-батюшке, и от ночи до ночи, когда костям приходит время покой дать. И пусть поздновато, но и Тайка зеленоглазая встала на кривые ножки, потом и в рост пошла, а там и три годка приспело, а где три, там и пять. Сидит Тайка на печи, словно сноп, и только покряхтывает, а все молчком, глаза, будто березовый вешний лист, с окон не спускаются.
Старшая сестра Евстолья воду в кадце приволокла, сейчас разливает по бадейкам черпачком, тихо звенькает вода, тонко поет что-то, хочется Тайке побулькаться, да лихо с печи слезать: приморило ее. Другая сеструха – Манька на печном шестке сидит, чтобы не хулиганила – не пакостила; из устья жар пышет, подпаливает девке голую попу. Манька ерзает на кирпичах, бабу Васеню тормошит за седые косички.
– Баба, ись хочу, – кричит на всю избу.
Баба Васеня чугунами ворочает в печи, матерится, мало ли еды надо сготовить на этакую семью, у нее спина болит, – знать, к перемене погоды. А тут над самым ухом соплюха гундосит, минуты спокойной от нее нет, вся в отца. Баба длинная, костлявая, вместо щек сухие ямы и нос висюлькой, а волосы от печного жара розовые и сухо потрескивают.
– Помолчи ты, сичас олабыши поспеют. Лихоманка бы тебя затряхнула, ненаеда окаянная. Отец, чего молчишь, дай ей трепки хорошей. Ужо, – грозит баба, – отдам я тебя водяному лохматому, хвостатому, любит он непослушных девок чекотать да за пятки щипать.
А Манька только пузыри из носа пускает, пятками в битую печь лупит и вопит:
– Ба-а, ись!
– Да спусти ты ее на пол, изведет ведь, – кричит Августа. Сама красная, упрела вся, экая здоровющая жонка, парево коровам в хлев таскает.
– Спусти, спусти, – боршит баба, – такую спусти, дак живо чего накудесит. У других ребяты как ребяты, а тут исчадие како-то.
Налила щей пустоварных большую миску, молоком закрасила, по олабышу сунула в руки, девки за столом зачавкали, засопели, подолами под носом возят, пугливо на отца поглядывают, чтобы его ложку не опередить, а то быстро по лбу заработаешь, только голова загудит. А у Петры свои заботы, часто гладит огромную редковолосую голову, молчит. Баба Васеня печь прикрыла жестяным листом, руки по локоть в саже, скуластое лицо от печного жара прокалилось, как медный рукомойник, и кожа на впалых щеках дубленая, век износу не будет ей. Корявой ладонью по внучатым головам прошлась:
– Соплями-то захлебнетесь... Эки вы, будто с голодного острова. Ладно, ужо ввечеру киселя с брусеницы сготовлю.
Девки от радости завизжали, хоть уши затыкай, подхватили одежонку, из-за стола вымелись, ускакали на поветь.
– Тайку-то заберите, – крикнула баба вослед, да куда там, только и слышно, как половицы заговорили. А Тайка на печи осталась, глазами хлопает.
– А ты чего там, чудо-юдо, девка с глазами? Иль печным воздухом живешь, иль тараканов плодишь? Ну-ко я тебе пряничка чердынского дам, ведь люба ты у меня, тиха да баска.
Баба Васеня наконец обрядилась, опорки скинула, полезла на печь, охая и кряхтя натужно, на оленью постель опрокинулась, чуть внучку боком не придавила, сразу ее в охапку, жесткими сухими губами оцарапала Тайкину щеку; обдала девку чесноком да полынью горькой. Знать, успела баба заглянуть тайком в запечье, где у нее настойка припрятана.
Любит баба Васеня последнюю внучку. Отец-то обличьем весь серый, словно песец-крестоватик, а в Тайке ничего отцовского нет, будто согрешила Августа с проезжим ижменцем. И глаза у девки прозрачные и зеленые, и словно бы там, за мягкой их чистотой, восковые свечи таятся и свет от них идет постоянный и тихий.
Баба Васеня внучкину голову к себе пригибает, дышит полынной настойкой, а Тайка придорожным одуванчиком прорастает за спиной, тычет бабу острыми кулачками.
– Ба-а не на-а...
– Ух ты, гуля моя, – опять целует жесткими губами баба Васеня. – Глупа ты моя, неразумна. Ну чего там углазела?
– Ба-а не на...
Тайка смотрит на грязные оконца, они серые от долгого дождя, словно бабушкин домотканый костыч[15]: девка ширит глаза и ничего не может разглядеть. Еще вчера заметила Тайка большие вешние льдины, а лежали они, словно сытые коровы в рыжих подпалинах. С утра Тайка выбегала под окна, дальше теплых мостов нет, дальше грязь непролазная по самую шею, а может, и выше. Там, где рыжие льдины, в прошлом годе соседская, Нюрки Ружни-ковой, корова потонула, не могли достать. А еще дальше водяница с водяным живут, они малых деток щекочут за пятки. Страшно Тайке в грязь ступить: она качается на тонких ножках, словно одуванчик недоспелый, большой живот перевешивает с мостков. Тянет слабую шейку девка, слушает, кажется ей, что льдины тонко говорят: «Чья, ты, чья?»
– Баба, я чья? – вдруг спросила Тайка.
– Осподи, и что еще в голову взбредет. Чего ты там опять высмотрела? Богово ты рассуждение, родителево творение. Осподи, дожжинушка без передоху. Вчера, как радугу зеленую углядела, так и сказала себе: Васеня Миколавна, жди большого дождя. Оно так и есть. Вешний дождь – хлебу вождь. У тебя, Тайка, глаз-от мой, ты примечай все.
– Ба-а-а, по дождяной дуге куда походят? – опять спросила Тайка.
– Это Боженька о нас заботится, живущим на небеси воду подымат.
– А на небе што? – Тайка тянется из-за бабкиной спины и круглыми глазами смотрит на заплаканные бычьи пузыри на оконцах. Ей жарко и душно на печке, кружится голова, и девка уж плохо слышит, что говорит баба Васеня.
– Узнаешь, касатушка. Все там будем, того пути не обойдем. Над каждым человеком человек стоит, а над всема – природа одна. На земле страдаем, на небе поживем в свое удовольствие. Для того небушко и существует – для радости... Ой-ой, глаза-ти посоловели, будто солдацкие пуговицы. Ну-ко погуляй по двору, погуляй, – баба тормошит внучку, но из-под руки не отпускает. – А начала там нету и нету конца. Все одно небо. И протекают по нем молочные реки, горы золотые стоят, и растут всякие там деревья с золотыми плодами и живут мертвые люди. Стары-ти сидят при почете в золотых домах и едят индейское мясо и чего душенька схочет, а молоды-ти, так те катаются с золотых горок на чунках. А кругом там херувимы да анделы-хранители, музыка райская... Ну-ко, девка, давай слезай с печи, разморило тебя, как пареную репу, – оборвала сонный рассказ баба Васеня, внучку через себя перекатила и на приступок поставила.
Тайка ногой потянулась к полу, а вниз посмотреть – страшно, дух захватывает, и обратно вернуться сил нет: плохо растет Тайка. Закрыла она глаза, да и отпустила руки, будь что будет. Шлепнулась о пол мягким местом, скривилась, хотела заплакать, но раздумала.
– Сколь ты, Тайка, неловка да кулемиста. Поди давай к сестрам, вон в избе как угарно, вся захалеешь, – уже сердито заворчала баба, кряхтя, повернулась на другой бок и сонно досказала: – Осподи, ведь на краю света живем, темны мы, глупы люди.
А Тайка к оконцам подошла, расплющила нос о бычий пузырь, с улицы дождь хлещет, березы еще не распушились, бренчат живыми ветками, просятся в избу. Где-то глухо дальние двери захлопали, босые ноги заплескали по тесовым плахам, девки в посконных рубахах выскочили под дождь. Тайке видно, как сразу увяли и почернели сестрины головы. Девки давили из тонких холодных лужиц дождевую воду, она брызгала на красные пупырчатые ноги, рубашки сразу съежились, но сестрам все нипочем. В сторону Тайкиного окна корчат козьи рожи и вопят дурашливо:
- Дождик, дождик, перестань, —
- Мы поедем на ердань
- Богу молиться,
- Христу поклониться,
- Как у Бога сирота,
- Затворяй ворота,
- Ключиком, замочком,
- Золотым платочком...
Потом задрали серые от дождя рубашки и Тайке малиновые от холода попы пялят. Страшно девке, кожа на спине скукожилась, а в избе тихо, только слышно, как вода из рукомойника каплет – дончит в пустую лохань. Тайка на всякий случай тоненько повыла. Показалось ей, померещилось, что не сестреницы на заулке грязь толкут, а водяной с водяницей идут Тайкины пятки щекотать. Тайка еще плотнее прилипла к зажелтевшему бычьему пузырю, а дождь-то нюнится в три ручья, совсем закрасил волоковое оконце небесной водой, и потому ничегошеньки нельзя на улице выглядеть.
Тут в дверь забухало, большая рогожа вплыла в кухню и, жестяно шурша, встала торчком, а за ней что-то пищало и подвывало.
– Ба-ба, – закричала Тайка. Спряталась за столом, легла на лавку, голову прикрыла ручками, а сестреницы вокруг запрыгали, запричитали.
– Таиса-крыса, дождика боисся. Таиса-крыса, дождика боисся.
Тайка тут и разглядела, что эти девки-сестры, сразу стало жарко и весело, она под образа выстала и тоже дразниться стала.
– Вам мамка зубы выпернула, во-о...
– Таиса-крыса, Таиса-крыса.
– Беззуба катара, мама хлеба не дала, солью накормила, спать повалила.
Сестры надулись, на щеках пятна родились, будто крапивой нажгло. Тайку за подол тянут с лавки. Тайка царапается, но уже молчит, на глаза проступили две дробины светлые. Ей хочется позвать бабу, но Тайка молчит.
– Старой бабки хвостик, все глодает кости да сидит на печи и грызет кирпичи.
– Ба-ба, – закричала Тайка и заревела в голос, тут уж ей вовсе обидно стало. – Чего они дразнятся? Ба-ба, возьми меня.
Баба Васеня проснулась, голова у нее тяжелая, как грузило: знать, задурило печным угаром. Она еще плохо соображала, что кричит меньшая, но уже по старой привычке причитать стала:
– И вздремнуть-то не дадут, несыти окаянные, хоть бы домовой вас к себе прибрал. И пошто девку забижаете, пошто вы спокойно жить-то не можете, глупы головы, темна сторона? Я вот возьму сейчас вожжи да как начну охаживать, – закончила баба Васеня уже тише, потому что пришла в себя и поняла, что больше не дадут соснуть.
– Ба-ба, киселя хотим, – заныли тонко девки.
– Я ужо вам не киселя, а березовой каши хорошей наварю да по заднице накладу, бесстыжие, совсем уговору на вас нету. Все отец слабину дает, попускает. Ты-то, Евстолья, уж совсем большая девка, скоро замуж пора, а как веретено, – бормотала баба Васеня, с печи слезала, надсадно кряхтя и постанывая, – видно, здорово разморили каленые кирпичи ее изработанное тело.
– Ну, кышьте на холодную половину. Наварю, дак позову, бат сама не съем. Да рубашонки-то не цапайте вверх, ведь большие, невесты скоро.
Девки убежали, перечить больше не стали, а Тайка стояла под образами, слезы высохли, и остались на щеках серые следочки, словно ползли из глаз две лесные улитки. Баба Васеня сняла Тайку на пол, костлявой рукой обжала, склонила свою голову с двумя тощими косичками перед Николаем Чудотворцем.
– Осподи, пошто живем, на кой хрен живем?.. Ты погоди, Тайка, не щекоти старуху, – выпустила внучку, быстро навестила запечье, недолго копошилась, слышно было, как звякала бутылью, а когда вернулась к божнице, от нее опять несло полынью и чесноком.
– Андел мой, сохранитель мой, сохрани мою душу, скрепи сердце мое, враг-сотона, откачнись от меня, Спасова рука, Богородица сама...
– Баба, а это что? – перебила Тайка, но баба Васеня ткнула твердым пальцем по лбу, словно ожгла, и сразу закраснела и загудела голова.
– Ты, Тайка, бабу Васю слушайся. Я тебе не приневоливаю, ты мала-глупа, ум-от у тебя пока в ногах, но и в дела старших не встревай. – И опять зашепелявила беззубым ртом: – Стоят во граде три лика святых: Фома, да Лука, да Никита-великомученик, за нас Бога молят денну и нощну за грешную душу. Около нашего двора Иисусова молитва, Николина ограда, тын медный, ворота железны, аминем заперты, а на хоромах святая вода...
Баба Васеня говорит все глуше, словно засыхающий ручей на мшистых камнях, порой встрепенется, сухие косички вздрогнут над головой. В избе дремотно и сумрачно, скучно Тайке и одиноко, хочется бабины мышиные хвостики дернуть, но боится трепку получить, потому все стоит у окна, слушает, как егозят, топочут на повети девки да глухо льется на тесовые половицы мостков проливной дождь.
Глава четвертая
Уже и на вешнего Николу вода пришла и схлынула, а тяти все нет, может, и сгинул он, потому и мать белее холста, все молчком бродит по горенке, губы поджимает, словно что сдерживает в себе: хоть Донька не велик, на Успенье восьмой стукнет, но он все понимает. Желтоволосая мама Тина осунулась, сине под глазами, нос заострился и как-то подался книзу. Еще прошлой весной на окладниковском карбасе ушел Калина Богошков за кормщика на Матку – и вот до сих пор нет его. «Осподи, осподи, убереги его от злых сил, дай выстоять, – шепчет желтоволосая Тина. – Нынче во снях сиху-ягоду видела. Уж столько ее, море черное, разливанное. К слезам снится эта ягода, к слезам».
– Ты поди побегай, Донюшка, да с Яшкой Шумовым не водись. Экий сколотыш настырный, все чего-то выдумает.
– Не, мамушка, он хороший. Он ничего не боится. Вчерасе Петры Чикина жеребца хвост отсадил по самую репицу. Мы с ним силья скать будем.
– Ужо поймает Петра, уши вам оборвет. Ты не вяжись с Яшкой, сынок. – Тина оправила на сыне кафтан. Единственный сын-то, уж больше Бог не дал, а так хотелось деток, но, знать, не судьба, кому что на роду поставлено. – Ты на босу ногу не бегай, лапотки не скинывай. Долго ли простуду схватить.
– Не-не, мама, – прижался Донька к теплому материну животу, подышал в ситцевый, пахнущий хлебом сарафан, как бы нагрелся от него, а сам украдкой нет-нет да и на шесток взглянет, где блюдо с шаньгами наливными стоит. Вроде бы и сыт, да охота перед Яшкой похвастать, у него мать таких не печет, они все шти пустоварные намолачивают, аж за ушами пищит.
Тина стала камень-дресву толочь в ступе да щелок в лохани мешать, сразу запахло зольной водой да горелым камнем. Два березовых голика под порогом лежат, ждут свой черед, ой, придется им поскрипеть нынче. С Пезы взял Калина Богошков жену, от грязав-чернотропов привез, у них избы-то кушные, по-черному топятся и по всей-то деревне сажные черные дороги наторены, с того и зовут тех людей чернотропами. Но Тина не такова, отлична от них и лицом и рукодельем. Вот и нынче затеяла она большое мытье и ради весны, и за-ради души, хочется ей отвлечься, погасить нескончаемые думы. Сегодня два березовых голика изотрет-измочалит, каждое бревно вышоркает до морошечного налива, а по полу белому босой ногой ступить любо. Распахнула ставеньки, двери открыла; сквозь цветные стеклышки солнце пробилось, заиграло по избе, свежим сквозняком дохнуло из повети. «Осподи, Калинушка, дай спутного ветра». Заткнула юбки, заголила жилистые ноги, все двери уличные на запор, чтобы кто не подглядел, тут все наружу, тут одежда мешкотна и навязчива, как разойдешься, тут впору совсем растелешиться.
– Ты поди, Донюшка, побегай, да близко к воде не ходи. – Стала голик в ладонях мять, увлеклась Тина задельем, про сына забыла, а тот живехонько шаньгу наливную с блюда уволок и бегом из дома, только двери поветные схлопали.
Остановился Донька на взвозе и захлебнулся ошалело от счастья, от какой-то упругой радости, что поселилась в нем, и надо дать разгон, иначе лопнет Донькино сердечишко, ей-Богу, лопнет. И Донька засмеялся: «Ух ты...» – прикрыл хмельные от весны глаза белыми ресницами, ячменные волосы неслышно осыпались на лицо. Украдкой оглянулся, не следит ли мамка, хотел лапоточки под взвоз закинуть, да остерегся, палку меж ног сунул и помчался лошадкой, тпрукая себе под нос. Поспешил к реке, там заждался небось Яшка Шумов, а невольно у избы Егорки Немушки остановился, рот открыл, до того интерес забрал Доньку. Стоит, слушает, как пила словно бы моргает светло и спрашивает «вжик-вжик», и опилки, желтые на солнце, легко сыплются на черную утоптанную землю, на опревшие онучи Егора Немушки, на его опущенные плечи и на постоянный овчинный треух, сбитый на левое ухо.
Забыл Донька и про шаньгу, и про Яшку Шумова, который заждался, смотрит он на Гришку Деулю, и страшно за него: стоит мужик под самыми небесами в широкой посконной рубахе. Там, наверху, наверное, ветрено, потому что борода вехтем и закидывает ее за плечо. Тянет Деуля железо сквозь еловое бревно, и весь вид говорит, как ему весело. Он пыхает красными щеками, Егорку Немушку подтыкивает: «Дай деру, дай деру Немушке Егору». И Донька тоже тихонечко пропел в лад пиле: «Дай деру Немушке Егору». Завидно Доньке, вот бы на верхотуру попасть, весело там; не видно ему, что у Деули рубаха черная от пота. И у мастера Егорки жирные разводы на спине, но Немушко тоже светится лицом, потому что, слава Богу, весна, дожили до тепла. Нос у него утушкой, брови рыжие торчком, что-то свое мычит, может, песню поет, порой сплевывает, и лицо у него мохнатое от опилок. Может, он говорит Доньке: на, подержись за пилу, но мальчишке не понять мычанья; он подходит ближе и смотрит в некрасивый кривой рот, а Гришка Деуля сверху кричит, скаля зубы: «Эй, Донька, портки потерял, невест-то всех распугаешь».
Доньке страшно и весело, он высунул язык и закричал пронзительно, по-бабьи: «Дюля, ты откуля?» – так на деревне Гришку Деулю ребята дразнят, а мужик не обиделся, дурашливо зарычал, пугая мохнатыми бровями: «Оттуля я, от гуля». И Донька спохватился, вспомнил вдруг о приятеле, помчался к реке, скатился в овраг, а там было сумрачно еще и сыро, солнце заглядывало туда лишь на закате, оттого на склоне лежал линялый ноздрястый снег, пробитый мышиными норами. Донька скинул лапотки и, проваливаясь по колена, побежал снегом, душа у него охала, и холодно и пусто замирало под самой грудью. Выскочил на солнцепек, запрыгал голубыми ногами по обветшалой траве, белой, как Донькины ресницы, и скользкой, будто намыленной.
Тут, как ящерка, выскользнул неожиданно Яшка Шумов, сам озабоченный, глаза насупленные, волос на голове вигой, мать об его кудри отцов гребень весь извела.
– Ну чего ты, соня-засоня. Я тебя заждался, а ты как вчерашний день, – сказал Яшка взросло, переступая черными в цыпках ногами. – Пойдем вершу ставить в шарке, гам вода спала. Рыбу на костре жарить будем...
– А у меня во-о, – показал Донька крупяную шаньгу и хотя сыт был по горло, а похвастал и откусил, стал сладко жевать, причмокивая. – Хочешь? Мне не жаль.
– Не, у нас самих полно, мамка намедни пекла. Даже кулебяку рыбну. Думал, живот лопнет. Два раза на ветер слетал.
– Ну да, ври-ко? – не поверил Донька.
– Пропасть мне, если вру. Ой-ой, гли-ко, червяка съел, – вдруг закричал Яшка, пугливо замирая и хватаясь за живот.
– Где, ври-ко боле? – испуганно заморгал Донька, оглядывая шаньгу.
– Слеподыра, слеподыр, червяка слопал...
У Доньки замутило в животе, он шаньгу решил в снег закинуть и замахнулся уж, но побоялся Божьего гнева и раздумал, в ладони олабыш замял и стал слушать, как червяк в животе ползет.
– Только брось. Скажу твоему татке, что хлебом бросаессе. Он быстро тебе уши накрутит.
А Донька стоял немой, моргал белесыми ресницами и думал – заплакать иль нет?
– Ну ладно, давай, што ли, – снисходительно согласился Яшка и выхватил шаньгу. – Мой живот все стрескат.
– И ничего? – тихо спросил Донька, заглядывая приятелю в рот.
– Кк ли нито... да авось. – И Яшка проглотил шаньгу.
Донька и мигнуть не успел, как ее не стало, только услыхал, как потрескивало у друга за круглыми прозрачными ушами.
– Еще хошь? Я приволоку, – тихо спросил Донька.
– Да ты што... да не... У нас своих во! Лопай – не хочу. Я за-ради тебя лишь! Айда на пашню коренье искать. Скус-но...
– Скус-но-о, – закричал Донька.
И, оскальзываясь на склоне, они помчались за деревню, где туманно парила и потела под солнцем отдохнувшая за зиму пашня.
Глава пятая
И пришли вслед за гусями-лебедями незакатные дни. Выбежит Тайка на взвоз, в небе птица всякая гомонит, девку выспрашивает: «Чья ты, летим? Чья ты, ле-тим?» А Тайка босыми ножонками топочет по нагретым бревнам, волосы льняные вспахивают, рубашонка на пузе топорщится, весенний ветер щекочет, как собачий язык.
– Хи-хи, ха-ха, – словно синица, смеется Тайка, машет гусям-лебедям и кричит: – Задний – наперед, задний – наперед.
Слышат гуси Тайкину просьбу, и, как пуговичка на застежке у бабушкиного костыча, отрывается крайняя птица, летит на самое острие клина, и вожак покорно уступает место. Нравится это Тайке, верится ей, глупышке, что небесные птицы слышат ее синичий голос, и она все кричит: «Задний – наперед» – до тех пор, пока не проглотит небо уже тонкую, как волос, птичью стаю.
На крыльях своих принесли гуси-лебеди незакатные белые дни, все сразу перепуталось, смешалось, словно льняные полотенца, отбеленные вешним снегом, развесила баба Васеня на оконца, и уже совсем не знала Тайка, когда ей спать нужно, а когда на угор бежать. Отворит она глаза, а будто и не спала вовсе: тараканы шебарчат и в призрачном ночном свете кажутся осколками желтой живой серы, которая течет от старинных лиственниц. Тайка любит жевать серу, горько от нее во рту и лесом пахнет. Порой ночью проснется, протянет ладошку в изголовье, а там у нее всегда липкий катыш серы лежит, с вечера еще оставлен, сунет его в рот и давай чавкать и слушать, как живет ночная изба.
В избе храп, тяжело спит тятя. Порой встряхнется он, словно подбросили куль с мукой, скрипнет деревянная кровать, мать вздрогнет и спросонья бормотнет: «Понеси тя леший». Тайке видно сквозь занавес ресниц, как косо встает, матюкаясь на мамку, отец – в серых исподних, мотня болтается у колен, идет клешнятыми ногами, как копытами, по мусорному полу, обязательно коту Лампейке наступит спросонья на хвост, да еще с досады поддаст ногой и потом пьет из медного ковша долго; и вода шумно переливается в вислом просторном животе, льется по рубахе, маленькими звездочками срывается с серой скомканной бороды на половицы.
Тайка грезит в утреннем плывучем свете и уже не знает, что засыпает вновь, а сквозь сон слышит, как баба Васеня тянет через нее квашню, потом растопку для печи, хлопотливо бормочет, подтыкая под Тайкины бока окутку, и от этого прикосновения шершавых рук девке особенно уютно и сладко спать. Но так же неожиданно, заслышав бряк деревянной лопаты и все эти хлопоты по обрядне, Тайка сама собой выплывает из сна, еще долго соображает, что к чему, лезет в изголовье за черствым комом серы, сует его в спекшийся рот и чавкает на всю избу. Смолка размякла, пристает к молочным зубам, Тайка ковыряется во рту и вместе с серой легко вынимает из десен зуб, хлопотливо выковыривает из жвачки, вытирает его окуткой. Зубик неровный, кривой, как шильце, которым татка подшивает катанцы. Тайка бросает зуб в запечь и шепчет: «Мышка-мышка! На тебе зуб костяной, дай мне коренной».
В избе уже пахнет хлебом, баба выкатила караваи на стол, сверху домотканым утиральником накрыла, чтобы отошел ситник, набрал ржаной дух, погладила лопатистой ладонью и словно согрелась; Тайке видно, как сразу отпотели и очистились бабины глаза.
– Тайка, ты все одно не спишь. Спровадь меня в баню... Ну поди, поди ко мне, чудо-юдо, девка с глазами. – Сняла Тайку с печи, дала шлепка ласкового, нос утерла, горбушку отломила от каравая. – Потатчица я, ну, да ладно, быват и простится. Одна ты у меня, ласковая...
А потом они сидели на чердаке, на старых берестяных коробах: тут пахло пылью, прошлогодними лежалыми объедьями и легким тленом. Баба Васеня чихала, снимая с длинных шестов прошлогодние веники: последние банные припасы, что хранились на Аграфену-купальницу, трясла ими в воздухе, будто приноравливаясь, как ядренее хвостануть себя по спине; листы опадали, и в солнечном свете плыли бабочками-капустницами. Тайка снималась с короба, ловила сухие листы, и они с хрустом лопались в ее ладонях, оставляя зеленую пряную пыль.
Целую охапку веников понесла баба в баню, и Тайка взяла веник, чтобы погадать на свою судьбу. Вода в бочке уже забукосела от грязи, покрылась серым налетом, и ползали по ней жучки-паучки; сажа куделью висела на черном потолке и шевельнулась неожиданно, когда раскрыли дверь. Баба Васеня зашла в баню, а Тайка робко выглядывала из сенцев, глаза у нее потемнели от страха, что-то косматое шевелилось в дальнем углу под самым потолком: знать, там и живет баннушко-чертушко с большими зубами и красными глазами. Тайке страшно, она тихонечко покрестила себя пониже пупа, подумала и бабу Васю осенила крестами, невольно присела.
– Ба, а тебе не страшно, ты не боиссе баннушки? – спросила из-за спины.
У бабы розовые от натуги глаза, она дула под черные каменья, шевелила ленивый огонь, чтобы распалился он, побежал по дровишкам. Потом долго отпыхивалась, пока пришла в себя, приставила к двери черемуховый кол, на бережок села и Тайку к себе притянула на колени.
– Глупо ты, чадо, неразумно. Зверь на доброго человека зуб неймет. Дьявол, он ведь противу доброго молодца другого человека сотворил – разбойника-находальника.
У бабы Васени щеки совсем сухие, нос висюлькой почти до губы, и под носом всегда мокро. Тайке почему-то жалко бабу Васю, она еще плотнее прижимается к мягкому ее животу и теребит белые косички. А тут совсем родилось солнце, покатилось над Пыей-рекой, за дальними рыжими болотинами и синим дремотным ельником; вода в Курье заиграла, прибрежные глины-няши заплавились, затлели утренним солнечным жаром. Мелкая вода в Курье, совсем кроткая и желтая, как брага; рыбы-малявки кидались в верхние струи, и тогда по недвижной воде шли белые круги. Комары разнылись у баньки, толклись над самым угором, но горький березовый дым пугал, и они серой пылью оседали в прохладные заросли лебеды и крапивы. Бабу Васеню сморило совсем, она еще какое-то время смотрела на дремотный покой, о чем-то вздыхала, гладила внучкину голову, потом сказала вдруг: «Люди ведь как трава: их секут, а они растут. Осподи, с такой земли бы не уходил». Она еще что-то шептала свое, уже неслышное, голова ее стала вздрагивать чаще, нос висюлькой скатился в самый подол, и баба устало всхрапнула, припадая телом к земле...
Днем вся Дорогая Гора мылась в бане, потому что нынче Аграфена-купальница, нынче гадание на банные веники. Баба Васеня девок перемыла, выпроводила на заулок, потом и последнюю внучку отхлестала березовыми листами, на лавке-полке раскатила и долго мяла железными пальцами, словно кожу снимала.