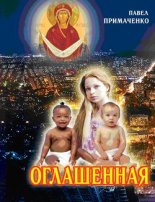Похороны кузнечика Кононов Николай

Пролог
...воспоминания детские мои
проплывают, словно облаков слои...
Словно караван груженных всякой чудесной легкой и хрупкой рухлядью лодочек вблизи уходящего под самое небо высоченного обрывистого волжского утеса... Словно в песне.
Если плыть по течению – он всегда находится слева.
Он называется страшным словом «отвращение». Он пронизан опасностью.
К его отвесным стенам течение все время норовит прибить мои жалкие лодочки.
Справа вдали пологие тугие берега в ровной бледно-серой дымке, как манная каша-размазня. Это – «брезгливость». Местность, чреватая неприятностями...
Мой караван плывет, прижимаясь то к одному, то к другому берегу...
***
Мой детский мир, все связанное с ним я могу теперь уложить в жесткий однозначный классовый принцип – «брезгую – не брезгую».
То, что соответствовало первой части этой дихотомии, я не могу позабыть, ибо опасаюсь и не люблю до сих пор, а то, что совпадало со второй, я не забываю по причине не проходящей по сей день любви.
Наш старый дом для меня, точнее, для моей памяти (когда я могу позволить себе погрузиться в детские воспоминания, овеществить таким образом мое прошлое) предстает как бы сложенным из объемно перетекающих друг в друга темных и сияющих, существующих только в моем воображении узилищ, лабиринтов и нарядных, предназначенных для торжеств залов.
Темные закоулки и тесные полости темниц населены гадкими ночными, повсюду колченого ползающими насекомыми, словно моими овеществленными страхами. Они также засыпаны (не дай бог наступить) сухими и колкими экскрементами и иными следами пиршеств никогда не виденного и не представимого Минотавра, дышащего в волосатой темноте нашего коридорчика мне в затылок..
Я никогда бы не смог нарисовать этот мой страх цветными карандашами. Только черно зачертить быстрыми жирными штрихами весь листок. У страха не было ни имени, ни образа, ни цвета. Он состоял только из границ, которые пролегали всюду.
Другие же анфилады залов и рекреации были прошиты блескучими стежками шипучих фейерверков, завалены сияющей чепухой новогодней ваты и пестрядью конфетти, затоплены по самые своды сладким фимиамом только что взорвавшихся хлопушек, чудным бредом легких викторин и лепетом пьянящих секретов, легкими рукопожатиями дорогих родственников, треском разрываемой обертки, сиянием подарков и морозными поцелуями.
Мой детский мир спаян, как витражное крыло бабочки, из полупрозрачных на просвет, топографически соприкасающихся темных, лиловых и коричневых зон кошмаров и ярких, алых и голубых, областей счастья. Первые, ощетинившиеся всякими ненарушимыми табу, мне всегда надо было миновать как можно скорее, не задевая и не касаясь в них ничего даже подушечкой указательного пальца, а в другие, свободные и чистые, хотелось вселиться навсегда и жить там, не покидая их даже по самой большой нужде.
И я не дышал, зажав рот и нос, миазмами испарений над первыми, пробегая, а еще лучше, пролетая их шеметом на полном форсаже, как самолет или ангел, что тогда мне мыслилось почти одним и тем же.
Иногда мне чудилось, что кто-то прекрасный и сильный, летит со мною, осторожно поддерживая меня на весу.
Я в летних рыже-красных окрыленных сандалиях, надрезанных в пальцах для моего неостановимого роста, – я барражирую, выставив по бокам оттопыренные ладони, я лечу над видимыми только мне отвратительными следами соседей, протопавших в мерзкий и вонючий холодный сортир, находящийся в моем воображении за границей возможного мира, гораздо ниже нашего этажа, глубже подпола и даже лимба.
За черную сортирную ручку, внутренний крюк, фарфоровую грушу бачка и выключатель я всегда брался только через клочок газетной бумажки.
Бактерии, микробы, вибрионы, палочки, спирохеты, бациллы и вирусы...
Мне известны эти имена глухих угроз и неожиданного возмездия. Мне известны страшные слова – чума, холера, оспа, сап, тиф, проказа, язва. Но я боюсь особенно туберкулеза и чумы. В нашем квартале в бывшем губернаторском дворце Столыпина – областная туберкулезная клиника. Больные калмыки – а их почему-то большинство – женихаются птичьими летними парочками на всех окрестных лавках. И расплевывают фонтаном зеленую заразную мокроту! Мимо дворца я пролетаю не дыша.
А чума – это вообще мгновенная смерть!
Я пролетаю где-то в чистейших горних высях высоко надо все этим ничтожным миром, над крысиными следами соседей, над раздавленными рыжими тушками тараканов, над застоявшейся слизью обмылков и луковичных ошурков в чугунной раковине общего на восемь семей поганого рукомойника с вечно сопливой медной пипкой крана – на его дно невозможно смотреть даже с высоты моего стерильного полета, но я знаю, что там мокнет и киснет – заразная отрава.
Я прокладываю, как штурман, свой искусный курс мимо вешек захватанных дверных ручек темного коридора, сквозь тараканьи стремнины темных утесов соседских шкафов, через баньян (я прочел про это растение в желтом томе Детской энциклопедии) свисающего с лампочек липкого серпантина мушиных кладбищ. Я открываю родные двери ногами или усилием воли, правда, очень сильно напрягать брюшной пресс не стоит, могут случиться внезапные позорные проколы в запредельно чистой акустике полета. Я пою:
- У меня-меня в кармане есть-есть
- спичечный-спичечный
- коробок-коробок распрекрасный...
Я перескакиваю сразу через три ступеньки (надо именно так, иначе случится что-то ужасное и непоправимое), ведущие вверх на уровень пыльного незаасфальтированного двора, мы ведь живем на семьдесят сантиметров ниже уровня тротуара. В полуподвале!
У меня в глубоких карманах целый арсенал всякой драгоценной всячины. Однажды, чтобы я не собирал все на свете, бабушка зашила клапаны карманов, да и чтобы руки туда без нужды не прятал, но я аккуратно вытянул все ниточки ее штопки. Бессемейная тетя Шура, бабушкина старая «закадычница», бывшая прокурорша, загадочно и нехорошо говорила своим белым голосом, норовив стеклянно упереться взглядом мне в глаза: «Руки в брюки – значит нож! Или – детский биллиард...»
Вот я один в дальней комнате, бабушка ушла, переодевшись в «базарное» – свое самое расхожее платье (не жалко, если в мясном ряду гадина вытрет о спину или подол свои мерзкие жирные пальцы), в Крытый рынок за провиантом. У нее есть всегда с собой стеклянная фляжка с розовым компотом, чтобы только не пользоваться общим стаканом у квасной бочки или из автомата с газировкой. Я затворил двухстворчатые двери и радуюсь своему тихому одиночеству, негромко ною «Полюшко-поле...». Мне так хорошо. Едут по полю герои...
- Я буду писателем-почвенником.
- Моя почва – детство.
- Я стану бытописателем.
- Быт – чем не наследство.
Присев на бабушкину застеленную голубым нитяным покрывалом кровать, привалившись к уступчатой пирамиде подушек, я спускаю короткие бумазейные штаны, трусики, сгибаю в коленях раздвинутые ноги и рассматриваю свои чудесные непонятные придатки, свои бледные гениталии, я перебираю их, как чужие, они меня всегда удивляют.
Я сдвигаю со смуглой лампочки накаливания чахлый абажур крайней плоти, она – слива или вишенка, как бы моя сокровенная внутренность, припрятанная от подглядываний. Я ворочаю, словно камешки, свои скользкие яички в мошонке. Они прикреплены к моему телу изнутри на шнурочке. Их нельзя сжимать. Про эти штучки моего тела бабушка изредка говорит мне полупонятно, торжественно-тихо, подняв вверх строгий указательный палец. Они, эти сокровища, очень-очень-очень-очень важные для всей моей дальнейшей жизни. И понадобятся мне «по-настоящему» только в грядущем. Не дождавшись этого грядущего, мой стебелек привстает, совсем как бабушкин перст, и я с любопытством вглядываюсь в его немного припухлый, словно от долгого спанья или висения вниз головой, смеженный полифемов глаз. Глаз закрыт. Без какой бы то ни было укоризны. Не узнав меня, одиноко покачавшись на ровном месте важной игрушечной водокачкой, все это ложится скучным стручком на лысый лобок. В мои ноздри проникает какой-то чуточку соленый, будто морской, запах творожистой смегмы. Из пещерки около уздечки я выковырял зернышко и растер между пальцами его белую мягкую крупинку. До ее полного высыхания и исчезновения. Нет, я не должен так пахнуть. Я не согласен.
Я очень, очень себя люблю, как и своего ангела-хранителя, похожего на легчайший серебристый самолет. Все-все свои телесные части. И его, перистые и ангельские.
Мне хочется пахнуть кузнечиком – то есть совсем ничем, тихой летней погодой, полуденной прокаленной пустотой, дневным белым цветом, прозрачной безвкусной сукровицей, блескучей слюдой. Так, как благоухало вчера весь день на нашей дачке на берегу Гуселки, откуда меня привезли домой. В худшем случае – бензином. Мне ведь так нравится его нюхать.
У папы есть душистый «Урал». Это мотоцикл. Он похож на особь огромного кузнечика с сияющими, любовно промытыми суставами и натертым до лоска черным кожаным седлом на спине за бензобаком. Одноглазый мотоцикл приносит мне счастье и ликование, когда несешься или даже просто сидишь в глубокой люльке, прилаженной сбоку.
Я забирался в ее железное нутро, и во мне срабатывал детонатор, и движенье, дорога, впечатления одномоментно сами врывались в меня взрывной волной, горячились и упирались в мою грудь и шевелили волосы. Я несся в защитных очках вперед со страшной скоростью, сидя на месте и оглушительно тарахча.
На самом горизонте, на макушке высокого холма, за нашей дачной «Зоналкой» – триангуляционная вышка, как обещание чудного будущего, устремленного куда-то вверх ракетой, и поодаль огромные серебряные танки с газом внутри, конечно, живым и синим. Я никогда не мог до них добраться. Это было очень далеко.
Иногда жаркий ветер приносит неведомо откуда внезапную волну мотоциклетного рева. Звериный рык. Кто там живет? Какое существо? Как его зовут?
В чахоточных лесопосадках отделяющих от грунтовой дороги опытное, разбитое на пронумерованные узкие делянки небольшое кукурузное поле я нашел вчера, когда гулял там под вечер, крупного кузнечика цвета папиной гимнастерки. Вообще-то я отбил его в бою у осы стебельком кашки, как копьем, она хищно выедала из него, еще живого, замечательно золотоглазого, лежащего на боку, бело-зеленую тину брюшины, будто обжора – начинку из пирожка.
Изувеченный, он теперь тайно спрятан в мой спичечный коробок.
Как принцесса – в хрустальную гробницу или фараон – в золотой саркофаг. Я ношу его с собой.
Мне не хочется думать, что он мертв.
Я даже не знаю, что это такое, хотя много раз видел похороны на нашей улице и покойников самого различного сорта. Их несли обычно какое-то расстояние мимо нашего дома, мимо окон, перед тем как поставить в кузов грузовика, по родной улице Шевченко в открытых гробах лицом к небу, покачивая на перекинутых через мужские шеи полотенцах, словно в люльках. Всяких разных – вздувшихся утопленников, неподъемно тяжелых, надутых, как резиновые груши, легких сине-серебристых боговерующих старушек, ссохшихся, словно вобла, спящих на самом дне глубокого гроба с бумажной церковной ленточкой на лбу, я даже встретил однажды страшных темно-коричневых, словно котлеты, угоревших на пожаре, у них были черные обугленные головешки вместо носов...
Мои близкие никогда не умрут. Этого просто не может быть. Я никогда даже не мог об этом подумать.
Коробок оттопыривает карман застегнутых штанов.
Я просто так лежу на бабушкиной постели, глядя в чуть голубоватый филенчатый потолок – бабушка всегда добавляет в побелку порошок синьки. Потолок такого же цвета, как и ее волосы, тоже чуть подсиненные, – прозрачные легкие кудряшки. Она ходит в одну и туже парикмахерскую делать завивку.
Я сцарапываю островок засохшей отвердевший сукровицы со своей недавно разбитой коленки. Он вообще-то должен отвалиться сам, но любопытство или другое темное чувство торопит и томит меня. Я хочу увидеть новую бело-розовую кожу, под которой моя дорогая плоть; если на это место сильно надавить, побелеет, как снег. Но на этот раз я слишком поторопился. Рана еще не совсем зажила, и вот я гляжу на выступившую из-под края болячки, из глубины моего сладкого тела нестрашную темно-красную тяжелую каплю. Она быстро делается студенистой, темнеет на глазах, матово застывает и превращается в плотный струп (о, как мне не нравится это слово). Значит, я красный изнутри, тяжелый и сумеречный, а кузнечик бело-зеленый, прозрачный и легкий, прыгучий, как душа с белой церковной бумажкой на лбу.
Однажды на противоположной стороне, во дворе самого высокого на нашей убогой улице пятиэтажного дома «научников» (там жили сотрудники университета), так называемом «заднем», за гаражами я упал в скользкую грязную лужу и пропорол осколком бутылки всю свою ладошку наискосок (шрам белеет зимним руслом и до сих пор).
Домой меня привели как жертву автокатастрофы – всего перепачканного красным.
Темную кровь, текущую из руки было никак не унять.
Бабушка промывала мне рану в тазу с теплой водой. Она вообще-то страшно боялась не только вида, но даже упоминаний о ранениях крупнее царапины. Она тихонько причитала, хотя все «внутренние» болезни лечила с упоением.
Вода розовела и превращалась совсем в красную.
Я сам себе казался воздушным шариком, из которого через отверстие раны куда-то неудержимо выходит воздух, а следом за ним с бумажной ленточкой на лбу – и душа.
Я вот-вот должен стать вовсе легким и совсем кончиться.
Я шепчу об этом «конце» на ухо склонившейся надо мной бабушке.
Ей делается дурно, и она оседает, как-то сползает на пол, будто вся превратилась в тесто.
На кухню зашел мой решительный военный отец. Он приехал тогда в отпуск издалека, из Германии, а так я видел его нечасто. Он ловко перехватил мою руку веревочным жгутом повыше запястья, в том месте, где мне так хотелось носить часы (лучше «хронометр») и куда я украдкой прилаживал плоский серый голыш с выцарапанным циферблатом.
Он тащил меня почти бегом по вечереющим улицам, задирая мою руку, наскоро им перебинтованную, «по-фронтовому» вертикально вверх, в приемный покой ближайшей больницы.
Из-под бинта сыпался снежком толченый стрептоцид.
Мне казалось, что папа спешит со мной, как безупречный бегун-олимпиец с живым факелом.
Больница называлась «советская такая-то», но «такой-то» номер я теперь не припомню. Туда, пока строгая медсестра марала опросный листок и мы ожидали своей очереди, помню, привезли говорливую безумную девицу, она курлыкала как голубь, прижимая к груди черную вышитую сумочку и, заигрывая с папой, поправляла, как Офелия, венок из бумажных роз в всклокоченных волосах, а следом ввели полуголого пьяного парня, трагического, как Гамлет, избитого в кровь, он был весь в сизых татуировках, как в доспехах или в переводных картинках, рядом с ним все торчал тумбой толстый красномордый милиционер.
Хорошо, что бабушки не было с нами рядом. Она еще раз упала бы в обморок. Или просто превратилась в облако.
Там-то, в тихой выгородке, в чистом закутке приемного покоя, за белыми-белыми простынными ширмами, в слепяще ярком по-театральному свете операционной лампы я и узрел себя самого, в смысле – свое чуточку приоткрытое нутро, когда мне две врачихи обрабатывали и сшивали рваную рану маленькой кривой, как рыболовный крючок, иголочкой и завязывали в узелки белые ниточки штопки, стягивающие края разреза.
Обрезки забавно из меня торчали, как будто я стал плюшевым, но внутри меня вовсе не опилки, а вот это все... о чем и думать страшно...
Я заглянул тогда сам в себя.
Я проник зрением под алую, приподнятую пинцетом изнанку своего тела, словно за кулису, за границу поверхности, словно зверь в нору, и не мог отвести взгляда от этого своего пупырчатого, тускло блестящего суверенного нутра, от его бесконечного кошмарного лабиринта, удаляющегося куда-то вперед.
Сделай туда один шаг, я заблудился бы внутри себя как Тезей или мальчик-с-пальчик, и мне показалось, что взором я забрался в себя самого, в свою живую чувствующую утробу, как в темный лес, как в лабиринт, слишком вовнутрь, столь глубоко – как нож, осколок стекла или храбрый герой, – что задохнулся от неожиданного ужаса и нахлынувшего следом омерзения.
Как мне жить дальше с этим ошеломляющим открытием?
С тем, что я есть и внутри себя самого.
Прямо на идеально белую пустыню перевязочного стола и на страшный веер блестящих хирургических инструментов, разложенных тут же, я выблевал рыжее пахучее облако непереваренного обеденного месива.
Мне придется в дальнейшем брезговать и самого себя.
Разлюбить свое замечательное тело.
Возненавидеть свое дыхание.
Ужасаться тому, что брезговать меня неукоснительно учили с малолетства...
И больше ничего я не помню.
Это томящее чувство, сдавившее плотным обручем мой тогдашний детский ум, охватившее мрачным нимбом мою глупую голову и повлиявшее на все мое будущее, было совсем другого, особенного, запредельного происхождения, не имеющее к похоронам, к внутренностям насекомых и покойникам нашей улицы совершенно никакого отношения.
Ведь никто не умрет.
Ни мама, ни бабушка, никто.
Этого не может случиться.
...я сейчас пойду хоронить кузнечика...
Я присел на дворовую скамейку.
И кажется, мне удалось разглядеть и в себе самом такой же нарядный и чудный секрет, такой же, как и в моем спичечном коробке, оттопыривающем кармашек штанов.
Мне и теперь мнится, что нечто подобное тихо и лучисто происходит в закрытой на ключик дарохранительнице, где хранится чаша с облатками для причастия.
Там сияющий Христос размером с личинку!
И если приглядеться еще зорче, то в сердце одномоментно войдут, сияя, все благочестивые сцены Святого писания...
Я сейчас пойду хоронить кузнечика...
Я совком вырою ему нарядную могилку в сыром углу нашего небольшого двора, там, где маленькие островки мха зеленеют на кирпичах вылезшего из почвы, словно гриб, фундамента, где водятся жирные крупные мокрицы и блестящие дождевые черви – только переверни камень, возле самых-самых Королихиных окон, отстающих от почвы на высоту спичечного коробка...
Но сначала я замаскирую его под спящего.
У него выпуклые, незакрывающиеся, какие-то нездешние, печальные, отливающие бензиновой лужей очи, мощная челюсть с зеленым, выступающим вперед, выбритым до блеска, как у моего строгого военного папы, подбородком и узенькие, сжатые в ниточку губы.
Он мне очень нравится даже мертвый.
- Длинные ноги твои – галифе.
- Раздвижная спинка твоя – военный кафтан.
Под тесным однобортным запахом кафтана скомкана прозрачная перепончатая выходная зеленоватая рубашка с напуском или даже плащ-палатка, а может быть, спаситель-парашют. И над бровями расходятся двумя лучами божественные антенны! И сияющее радио замерло внутри. Ведь он негромко так дивно стрекочет вечерами, когда стемнеет, словно сминаемый листок пергаментной бумаги, в нее бабушка пеленает перед отправкой в холодильник сливочные колбаски (равные доли счастья – грецкие орехи, вареная заледеневшая сгущенка, крошево желтого «Привета»). И еще он похож на транзистор «Спидолу» с одним коленчатым выдвижным усиком и колесиком лупоглазой настройки. Такой нарядный рундучок привозят на соседскую дачу, чтобы всякое там радио болтало без сора городских глушилок. Мне бы такой...
Я опрятно вытираю желтую прозрачную жижу, натекшую за ночь из полусъеденного брюшка, набиваю в эту полость плотно скатанную ватку. Вытягиваю колючие лапки со шпорами вместо стоп вдоль узкого туловища. Обматываю белыми толстыми нитками, словно бинтами. Оборачиваю по самую грудь розовой конфетной фольгой. Кладу на постель из пластилина, утыкав это ложе разноцветным крошевом стекляшек из калейдоскопа. Несколько скорбных цветков желтого молочая во главе одра. Пара некрупных пуговиц в изножье. По бокам, как часовые, блестящие обломки часового механизма и заборчик из мелких деталей разоренной папиной готовальни. Все самое лучшее, что у меня есть. Мне даже хочется его подержать во рту, ну, по меньшей мере – лизнуть.
Так хоронили фараонов.
Его гробница будет моей самой большой тайной.
Секретом.
Я не скажу об этом никому, даже бабушке.
Я опускаю этот волшебный зеленый сон, эту сияющую бредовую красоту в утрамбованную ямку и прикрываю все сверху большим осколком стекла. Все засыпаю сырой землей, нарытой около самых Королихиного окна.
Сквозь открытую форточку до меня доносятся странные, сдерживаемые в какой-то лесной утробе клокочущие нечеловеческие звуки. Такой мешанины из хрипа и гортанных стонов я еще не слышал. Она мощно затягивают мой слух, как мальштрем, как зыбучие пески.
Я с липким страхом вслушиваюсь.
Я замираю.
Там, будто в тесной клетке, кричат и стонут небольшие отчаявшиеся зверьки. Кошки или хорьки. Их надо немедленно выпустить на волю. Это гадина Королиха засадила их в клетку. Они стонут. Какими-то нутряными голосами. Им больно!
«А, падла, все, все, все! Хватит!» – в полуметре, не видя меня, ноя, хрипит Королихин квартирант, почему-то голый.
Это он так стонет!
Я вижу его дергающееся, ходящее ходуном волосатое мощное восточное тело.
Королиха стоит перед ним, как богомолка перед алтарем, – коленопреклоненно. Он держит ее голову за пучок волос, прижимает к самому низу своего плоского живота.
Что такое они творят?
Что такое Королиха извлекает из своего косого рта?
Зачем она это брала в рот? Эту огромную гнутую штуку? Эту трубу с раструбом...
Я ничего не понимаю... Зачем все это... какое это имеет отношение к людям...
Наступив ногой в свой застекленный секрет, споткнувшись, я стремглав убегаю. «Бабуля!» – зову я издали... Я зарываюсь лицом в ее фартук. Кажется, меня вот-вот стошнит, но я сдерживаюсь.
А вечером, зажав меня на кухне у самой плиты, где я самозабвенно плавил свинец в плошке, квартирант-армянин с юридического повертит у самого моего носа выскочившее молнией блестящее длинное лезвие своего урловского ножа.
Он сам бандюга! Но я смелый и не боюсь ничего, даже смерти. Я отравлю толченым стеклом с дустом эту волосатую тварь! Вместе с Королихой! Завтра же! Я найду яд и изобрету наилучший способ! Насыплю им все это в кастрюлю с их вонючим варевом. Приятного аппетита! Чтоб вам сдохнуть...
Ночью мне снится страшный светящийся сон про них. Все то же самое, только они при этом жадно жрут ядовитые щи, и вокруг них прыгают пушистые фосфорические кошки и хорьки в полном безмолвии по огромным гениталиям армянина, их Королиха обильно украсила новогодней мишурой.
Меня пугает моя эрекция. Я просыпаюсь от этого.
Под утро я перебежал со своей раскладушки в бабушкину теплую чудесную постель.
Я засыпаю.
У нее под боком.
Эта фотографическая память о Королихиной случке, а может быть, любви, кто теперь знает, навсегда сохранена во мне как вычурный вид особенных отбросов, которые приковывают мой взгляд и ранят мое внутреннее зрение.
Это словно неудавшаяся, нет, несделанная фотография, навсегда сохраненная внутри.
Досада внутреннего соглядатая-фотографа на нематериализацию кадра, доставшегося так трудно.
Досада, колеблющая во мне этот бесплотный постыдный мираж.
Не имея отношения к серебру фотобумаги – он, как и положено миражу, не старится, сохраняя навсегда в себе, скабрезном и непонятном поначалу, а потом грубом и отталкивающем, мифическое время моего детства.
Пока я жив.
Что с ними со всеми стало?
Королиха умерла в доме для никому не нужных слабоумных хроников.
Бывший квартирант жирным мильтоном приходил однажды в наш двор. На нем не осталось и отблеска той конской восточной красоты и поджарой бравости.
Частицы серебра, которые тогда в них по-новогоднему сияли, их и состарили, словно свет и влажность.
1
...Я снимаю с плиты ковшик, полный только что зашевелившейся закипающей воды...
Это был один из тех вечеров, когда я точно знал, что не имею права ошибиться в строгом процессе кипячения и обязан поймать, засечь именно ту самую точку, именно тот крайний миг так называемого белого ключа, когда сразу вослед гудению начинают подниматься к поверхности, чуть задрожавшей концентрическими мускулами, словно от брошенного камушка, самые первые пузырьки.
Я стою над плитой и грею лицо в восходящем паре, слушаю, вернее, пытаюсь уловить водяной звук.
Иногда, а в тот вечер совершенно определенно, на меня нисходит прямо-таки ритуальная скрупулезность в идиотически элементарных бытовых вещах. Например, в заваривании чая лишь только абсолютно правильно закипевшим психиатрическим кипятком.
Обычно я задним умом сознаю, что эта тщательность – как бы синоним глубокого душевного хаоса, раздрызга и раздрая, которые таким манером столь просто мне хочется привести в разумное состояние целесообразности и стройности.
Правда, я тут же заметил, что, что насыпал все правильные неравные пропорции двух сортов чая и мяты в заварочный чайник, полный вчерашних спитых, словно бы подгнивших чаинок, ну и бог с ними; так вот, наконец, держа в руке чайничек, проливая на линолеум крупные желтые капли заварки, так как и правильного кипятка я все-таки налил несколько больше, чем надо, я увидел нечто, поразившее меня в самое сердце...
Впрочем, надо было бы сказать еще, что и день, предшествовавший всему тому, что далее произойдет, был днем совершенно обычным, не из ряда вон, без каких бы то ни было происшествий, с обычной итоговой, накапливающейся к вечернему темному времени усталостью где-то на самом дне зрения, и это тоже было совершенно обычным делом и поэтому не очень интересным...
Так вот, к вечеру совершенно обыкновенного дня, заполненного поездкой на тихую службу, самой водянистой, мерно устоявшейся службой, мерным бездумным возвращением со службы, то есть к концу дня, знаменательного лишь тем, что тенденция к его завершению была проявлена в нем с полной очевидностью угасающего вечернего времени, оставшегося на отдых и безделье, приведя всю описанную выше исковерканную церемонию с чайником, полным заварки, в руке над стальной кухонной раковиной, зычно отвечающей маленькому йодистому дождику, стряхиваемому с носика, в сумерках кухни я был привлечен чем-то еще, якобы происходящим за моей спиной, давшим о себе знать мягким шлепком кошки, спрыгнувшей откуда-то на пол, а может быть, шорохом жесткого полиэтиленового пакета, оседавшего, как матрос в каком-то памятном киноэпизоде, почему-то я поймал себя на этой мысли.
Услышав это шуршащее, какое-то темное тканое перемещение воздуха и, подумав, на что это может быть так похоже, я отчего-то обернулся на этот звук, не сходя со своего места, проливая из чайника узенькую пунктирную струйку заварки, то есть, попросту говоря, я посмотрел через плечо и могу поклясться, что где-то на самой периферии зрительного поля, у самых дальних садов, туманных лесопосадок, холмов – так далеко за границей внятности, что голову мне приходилось поворачивать, напрягая уже не только мышцы шеи, но и перекручивая сухожилия правого плеча, я это вполне отчетливо ощущал, и даже более того, начал поворачиваться всем корпусом, – я увидел мою бабушку в распахнутом мятом цветном халате, совсем неодетую под ним, полуголую бабушку, непричесанную, с гнутым гребнем в руке, – она пугающе смотрела прямо на меня, но совершенно и очевидно не видела, проницала, смотрела сквозь, – так глядятся в зеркало, собравшись расчесывать волосы, поправлять там брови и вообще приводить себя в порядок, – не видела она меня еще и оттого, что мутные глаза ее явно и вопиюще косили...
Сколько это длилось?
Трудно сказать.
Но когда я опять посмотрел перед собой, то чайник был совершенно пуст, заварку я из него вылил всю – желторжавая лужица стояла на стальном поблескивающем дне раковины, так как она была установлена, как и все в нашем новом доме, криво, и какая-то муть в ней постоянно застаивалась...
Где вы все? Где ты? Где же? Где, где, где, где...
Господи, но ведь моя дорогая бабушка умерла несколько лет назад, как говорится, на моих руках.
И можно сказать про этот промежуток времени: уже давно...
И я уже почти все про это позабыл.
И я понимаю всю сомнительную правдоподобность вышеприведенной сцены, но мне дает на нее право тот крайний край зрения, где все это происходило, разыгрывалось, та периферия роговицы, та окраина, та даль, где кончается зримая жизнь, где она иссякает, где в силу этого бог знает что происходит. Кострища в лесопосадках, горелые шины, трупы собак и кошек, битые бутылки, то есть все ужасы, отринутые за границу зримого, обжитого, переведенные в инфантильный план иллюзий, страхи, смещенные к дельте кровеносных сосудов, похожих на контурную карту Месопотамии.
Где вы все?
Где ты? Где? где, где, где, где, где все, начиная с маленького обломка горелой спички, хитро вставляемого в косую боковину нашего почтового ящика – плоского, голубого, фанерного, с набычившейся головастой цифрой «девять» на фасаде.
Не от кого запирать тощие, по-холостяцки благоухающие типографией газеты, письма с астенически плоской грудью, украшенные сизой татуировкой чернильного адреса, – их не от кого скрывать, так как внушительная часть наших корреспондентов уже не может воспользоваться этим способом сношений, ну а те, кто рылся в чужой почте, утратили и тень интереса, обломав в тысяча девятьсот таком-то и таком-то году свой старческий ноготь, разгадывая спичечную головоломку запора не рискуя попросту дернуть на себя дверку ящика, страшась прилюдного разоблачения на кухне при свете восьми газовых свистящих конфорок, и вообще-то уже тогда, если быть точным, ни у кого из них не было и тени мужества для подобного риска.
Где же?..
Испарина испуга, мгновенно выступившая отчего-то между лопатками, клейкая, неотделимая, так и осталась; оказалось, что ее невозможно промокнуть, она все время существовала как бы с изнанки тела и потому ощущалась постоянно.
Мне следовало бы сказать, что все мои дальнейшие, еще не случившиеся, но предугадываемые действия, как бы прокручиваемые мной в сознании, оказались чреваты оскорбляюще легковесной иллюзорностью.
Ведь подлинное состояние определялось совсем иным – уж точно не зрелищем подступающего небытия, ведь оно все же было cуммарно, предощутимо, интеллектуально, что ли, а совсем другими, никогда не подмечаемыми подробностями и знаками.
Например, невыводимой легко-сладкой атмосферной мочи.
Она какой-то дряхлой, но настойчивой нотой тихо заявляла о себе еще при самом входе в жилье, на кухне с кипящими выварками. И она разворачивалась дугой спирали, словно бы протянутой через темный коридорчик в наши комнаты. В первый миг мне показалось, что этот запах немного сдавливает грудь.
Еще какой-то неживой ландшафт нашего вытертого верблюжьего одеяла.
Оно слишком тяжко прогибалось от пальцев ног к животу, весомо напоминая о той тяжести, угнетающей человека всю жизнь, но проявляющейся так монументально лишь в определенных случаях.
И все это нельзя предугадать.
То есть нельзя предугадать некоторый совсем невеликий набор сигналов, непосредственно вызывающий в нас короткое замыкание прямого отчаянного страха, внятной душевной муки, давшей знать о себе подступающей тошнотой, вмиг помутившимся зрением.
А только что в кабине такси это же зрение было четким и примечающим бог знает какую глупейшую мелочь – армейскую татуировку «ГСВГ» на запястье веселого пузатого таксиста.
Оказалось, что все это работает помимо нас, самовольно пребывая где-то в отдельной силовой стихии до известного момента, так сказать, до встречи.
Это все разворачивалось и медленно проступало видимым кишением чего-то такого очень важного, еще неназываемого по имени. Тут, перед моим взором в комнате, где я когда-то жил, точнее, только ночевал, так как она была самой проходной из всех трех принадлежащих нам в полуподвальной коммуналке.
Важность случившегося или происходившего как бы подчеркивалась самим местом – напротив двери, немного по диагонали.
Так что ни одному входившему не удалось бы уклониться от этого зрелища: в комнате все было так же, как и всегда. Лишь на диване лежала бабушка, ее за четыре дня до моего приезда разбил паралич.
Теперь она лежит с закатившимися глазами, перекошенным, как-то съехавшим вбок, полуоткрытым, криво лыбящимся ртом, будто грузная лодка. Она лишь иногда резко вскидывает белую заголившуюся руку, как мачту, и несколько минут держит ее совершенно жестко, вертикально. Потом, слабея, рука медленно стекает по пестрой диванной обивке, так, видно, и не уловив ободряющего привета из жаркого летнего эфира, который должен был бы уместиться в ее ладони.
Через розовые слабые занавески.
Она покоится, а не лежит в странной позе, лицом вверх, словно тяжкая-тяжкая баржа на отмели. Дышит хрипло и глубоко с каким-то животным присвистом, будто еще один, прежде не существовавший орган иногда подключается к дыханию. Она иногда стонет, словно бы издалека видя себя, окончательно беспомощную, на этом диване, и голос доносится до нас с мамой и, может быть, даже до нее самой каким-то неправдоподобно сокрушающимся эхом – охххоо...
Может, действительно, она узнала, увидела себя со стороны и не нашла сил удивиться и ужаснуться, и губы сложились в первую необдуманную фигуру, неправдивую, дико-улыбчивую гримасу, не отражающую безнадежности всего этого дела.
Я по-идиотски криво улыбаюсь, стоя рядом с нею.[1]
Об этой неуместной улыбке я догадался, перехватив быстрый, скользнувший по моим щекам сухой кисточкой мамин взгляд. Я отвернулся.
Но перестань я улыбаться, точно уж разрыдался бы, так как сдерживающих сил при всем этом зрелище оставалось лишь на то, что бы проглатывать слюну, толкать ее мелкими глотками в желудок, запирая таким образом слезные железы, а лицевые мышцы были отпущены на все четыре.[2]
Эта замкнутость бабушки, ее безответность,[3]
Я помню, как мокрый стяг холстины оставляет на половицах зеркальные холодные следы, выравнивая цветовую палитру пестрого, многократно крашенного разной краской пола, приводя его к одному влажному, поблескивающему универсальному смыслу тупого объекта моих усилий, истребляя потускневшие, вытоптанные в древесине дорожки от двери к буфету, от буфета к дивану, от дивана к телевизору и телефону.
Он просто влажен и чист.
От него восходит прохлада.
Он лишен, пока не просох, свидетельств жизни – усердной и повторяемой – жилиц этой квартиры.
Его никто, кажется, не топтал по ежедневному маршруту, никто не оставлял старческого пунктира мочи на его свежей сияющей поверхности.
Мне хочется везде навести порядок, вернее, не навести, а наводить, чтобы простая функция уборки затмила своей возобновляемостью гнусный пугающий цвет воды в цинковом ведре, где я беспрестанно полощу и отжимаю тряпку, воды, хоть и прошедшей всякие водопроводные завитушки и фортели, все равно – речной, почвенной, имеющей самое прямое отношение к холоду, праху и уничтожающей все, в том числе и прах и холод, силе.
Но это чувство быстро уходит, когда, сделав шаг в сторону, я продолжаю возить по полу влажное серое полотнище.
Я словно перешел через какую-то незримую границу любви. Поцелуи согревали меня лишь в момент осязания других влажных взволнованных губ, трепещущего языка. Но и они исчезли без следа, растаяли, перевалив за тонкую границу осязанья.
Ничего не хочется повторять, мучаясь усладой, усладой, столь далекой от привязанности и компромисса.
Это словно наслаждение наоборот – мучительное и ранящее, оно затмевается повторяемостью совершаемых нами действий: мытьем, едой, стиркой и прочей повторяемой ерундой.
Потом, много позже, зимой я увижу огромную оснеженную, с загнутым пробитым носом лодку-гулянку во дворе дома, где живет мама, бесконечно мертвую на четырех утонувших в снегу колесиках, вытащенную, видно, из воды много лет назад и брошенную так неповторимо и мрачно, что смотреть на нее пристально, впрямую было как-то неловко, нельзя, – на это публичное мерное умирание.
Умирание бабушки происходило в замкнутой комнате, в этом розовом, чуть закисшем сыром аквариуме, где она лежала у стенки, на диване, – опрокинутая на спину черепаха под тяжелым панцирем одеяла, чьи складки поправлять было не надо, так как двигаться, поворачиваться, откликаться на что бы то ни было она не могла.
Да и складок, резких ложбин, обычно сопутствующих спящему человеку, не было; чувствовалось, что над этим диваном даже сила тяжести мощнее и необоримое, нежели в полуметре, где лежит на полу каким-то случайным живым эфемерным шалашиком газета.
Стоило кому-либо из нас отлучиться – мне или маме – или какое-то протяженное время просто не подходить к бабушке или не смотреть в ее сторону, как одеяло почему-то самопроизвольно, не меняя общей картины тяжелых складок, как-то само по себе совершенно незаметно сползало на пол, стекая с бабушки, словно глетчер с горы.
Я, когда приходилось поправлять его, видел, что это соскальзывание невозможно соотнести с совершенной пассивностью бабушкиного тела.
И, может быть, это единственное изменение всей общей окаменелой картины словно шептало на войлочном языке что-то о чудной уступчивой изменчивости жизни, еще теплившейся тут, намекало на невидимую тяжелую тектоническую борьбу, тут происходящую, еще не упраздненную.
В комнате, в этом погашенном аквариуме, все-таки полном пыльного, едва шевелящегося, словно животного, света, никто из посторонних не смотрел на то, как есть бабушка уже не могла, лишь две-три чайные ложечки киселя.
Как для этого надо было приподнять ее голову в сбившихся, липких, распрямившихся волосах, тяжелую и отчужденно жесткую, какую-то керамическую и хрупкую.
Как с трудом, медленно с задержками, будто в останавливающемся кино, она глотает. Как весь процесс обычного глотания распался на с трудом связуемые напряженные видимые фазы, как вообще все стало разрозненно, и мы с мамой переговариваемся замедленным шепотом – мы ощущаем плотность этого сгустившегося времени, не чреватого ничем посторонним кроме главного, теперь неотвратимого события.
2
Я говорю через металлическую проволочную сетку, защищающую комнату от мух и комаров, возвратившись так поздно, что входные двери уже закрыты изнутри на крючок:
– Это Ганя. Ганя.
Бабушка в накинутом халату, она придерживает его на груди, смутным бакеном качаясь на волнах старческой походки, всплывает в темном омуте окна – растрепанная, полусонная.
Я ее разбудил.
Она сейчас мне отворит.
Я словно слышу свой голос, отъятый какой-то мощной силой от моего тела, от меня.
Мне даже неприятно писать об этом от первого лица.
Может быть, следовало сказать: «Он словно слышит свой голос...»
Мое имя скатывается с моего языка, мне кажется – оно невозвратимо.
В этот же миг я вполне определенно вижу себя со стороны – мятого, выпившего, глупо улыбающегося, припозднившегося – таким, каким меня должна была увидеть и узнать бабушка.