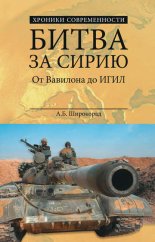Огненный плен Денисов Вячеслав
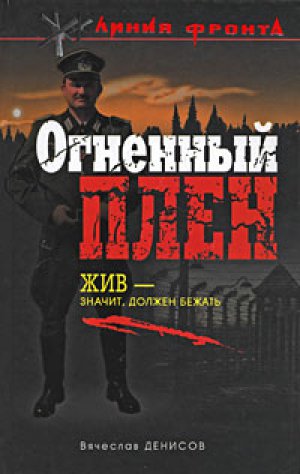
Раздался легкий хруст. Я посмотрел на пол. Мазурин ступал по срезанной им оболочке провода. Старательности его можно было позавидовать – оба конца были оголены на пять сантиметров, разведены в стороны и разогнуты буквой П. Острия этой буквы и вонзились мне в правый бок.
Огонь пронзил мой мозг, я дернулся, но кричать не мог. Кратковременный паралич внутренних органов…
Когда провод отошел от моего тела, меня заколотила дрожь. Благодаря воде удар пришелся не в бок, а по всей площади моего тела.
– Касардин, вы умный человек. Назовите имя того человека, и я тотчас отправлю вас на передовую. Даю слово чекиста.
Именно последнее уверило меня в том, что лучше немного помолчать. Поэтому просьба Шумова мной хотя и была услышана, но удовольствия от этого он не получил.
Как-то сразу успокоилось сердце… Просто наступил период плоховизны. Было плохо по всем статьям.
– Мазурин…
И за секунду до того, как жало снова вонзилось в мое тело, мой старый знакомый закричал:
– Кто был в кабинете Кирова в момент убийства вместе с вами?! За минуту до того, как его выволокли в коридор, – кто был вместе с вами?!
И жало укусило меня. Мне показалось, что змея распахнула свою пасть и, прежде чем заглотить, облила ядовитой слюной…
Киров… Звук первого трамвая… Первое мая и – Молотов на трибуне… Оголенные, раздвинутые женские ноги… я вижу даже треугольник волос и взволнованное влагалище… «Товарищи… революция… не будет пощады врагам…» Я, гимназист, стою неподалеку от Зимнего и вижу, как матросы тащат, на ходу срывая с них шинели, плачущих баб из женского батальона… Кто-то кричит, мат… «Убью, сука!.. Раздвинь ноги!..» Киров… запах пороха…
Удар в лицо. Жадно схватив ртом воздух, я откинулся на спину. Сердце билось с перебоями, оно переворачивалось, как голубь в воздушном потоке…
Это запах не пороха. Кажется, Мазурин переборщил с контактом. Мой правый бок разрывается от боли, и я чувствую запах себя, поджаренного…
Шумов хватает меня за волосы и откидывает голову назад. Я смотрю мимо него в потолок.
– Ты сдохнешь, тварь! Ты сдохнешь, и никто не узнает как! А женщине по имени Юлия очень бы хотелось увидеть тебя живым!
Юля… Откуда ему знать о ее существовании? Боже… быть может, он прав, и мир на самом деле тесен до отвращения? Быть может, что-то есть в этой примитивной логике убийцы? – как удивительно все совпадает… А может быть, цепь совпадений на этот раз благоволительно отнеслась и ко мне, уложив в воображаемую папку в голове Шумова сведения о другой Юле, не этой?..
– Какая Ю-ля?.. – превозмогая последствия поражения электричеством, выдавил я.
Заинтересованный – я бы тоже заинтересовался – Шумов подошел и с размаху чиркнул спичкой о коробок. Вижу ясно на коробке этикетку: «Прячьте спички от детей!» Потянуло табачным дымом. Вместе с вонью пережаренного мяса на выходе получается не очень приятный букет, но я не прочь был бы сейчас затянуться…
И тут же меня вырвало.
Прямо ему под ноги.
– Юлия Николаевна Птицына, одна тысяча девятьсот девятого года рождения, уроженка города Москвы. Проживает по адресу: Моховая, пять. – Чекист с шумом выпустил дым сквозь влажные, сытые губы. – Да та Юля, та, Александр Евгенич! Что прикажете с ней делать? Она в Лефортове, в ожидании чуда! Сказать ей, что вы спасли случайного знакомого, пожертвовав ею?
Я опустил голову. С носа капает кровь, с волос – вода. Меня трясет.
– Вы находите свое положение смешным? – удивился Мазурин. – Что это вас так развеселило?
Подняв лицо, я беззвучный смех превратил в хохот.
– Это не та Юля!..
Меня развозило от хохота, как от спирта, все больше.
Приняв мое веселье за психопатический криз, Шумов старательно отлупил меня по лицу. Таблетка не подействовала. Других лекарств он не знал. Зато Мазурин по части медицины был более образован. Он просто ткнул меня своей вилкой в плечо. И я сразу успокоился. Все-таки есть у них в комиссариате светлые головы.
Скусив с мундштука папиросы треть, Шумов сплюнул в угол.
За окном гремело с прежней периодичностью. Звенели стекла, когда рвался снаряд гаубицы. За окном шел тридцать первый день июля года сорок первого. А я сидел на стуле в первом декабря тридцать четвертого года.
– Вы невыносимо тяжелый человек, Касардин. Вы глупее, чем я рассчитывал.
– А насколько глупым вы представляли меня изначально?
Не найдя что на это ответить, Шумов ногой допинал стоящий у дверей комнаты табурет до меня и сел.
– Вы обстоятельный человек, Александр Евгеньевич, верно? – заметил он между двумя затяжками. – Поэтому с вами нужно обстоятельно. Давайте же попробуем. Куда нам торопиться и чем рисковать, правда? Куда мы отсюда, на хер, денемся? Здесь только кольцо окружения, посреди которого – вы, свидетель убийства Кирова, и я, начальник особого отдела НКВД. – Присмотревшись ко мне, ища реакцию, он не нашел и вынужден был продолжить: – Какие почести для одного хирурга, верно? Сколько экспрессии и значимости для одного-единственного допроса! Один из руководителей НКВД приезжает на фронт, умышленно оказываясь в кольце окружения, чтобы поговорить по душам с каким-то там врачом… – Шумов рассмеялся. Я видел его острые зубы, они были очень ровные и белые. – Вы требуете обстоятельности, брезгуя разговаривать с человеком, которого вы запомнили по серой шинели и сбитым сапогам.
Он придвинул табурет ближе. Я вообще заметил, что он испытывает ко мне какое-то странное притяжение.
– Освежим в памяти события семилетней давности.
– Я слишком слаб, чтобы ностальгировать.
– Ничего похожего, – отрезал он. – Вы врете. Вы сильный человек. И оттого желание мое разговорить вас утраивается.
Я представил такую картину. Шумова вдруг куда-то вызывает ушедший пару минут назад за водой Мазурин. Тот легкомысленно покидает помещение. За это время я развязываю узлы на веревках, встаю и подхожу к окну. Открываю его, перелезаю и прыгаю вниз. Через час я в лесу. Там, где не слышны разрывы снарядов и не пахнет хвоей… нахожу родник, напиваюсь… и уже здесь, вдали от страха, принимаю верное решение…
– Только попробуй мне потерять сознание!.. – Удар по лицу привел меня в чувство.
Нет, все-таки человек – тварь безнадежно оптимистичная. Я верю в жизнь даже сейчас.
Он встал, еще раз посмотрел на дверь и сунул руки в карманы галифе. Потом перевел взгляд на меня.
– Кажется, вы недооцениваете серьезность ситуации. Зачем бы мне, если дело плевое, тащиться сюда, зная, что могу отсюда не выйти? Я приехал, потому что не сегодня завтра вы окажетесь в плену и будете убиты. Но я не знаю имени и местонахождения человека, который вошел с вами в кабинет в Смольном, когда Киров получил пулю в голову… На суде прозвучало: «Зиновьев сказал, что «троцкисты», по предложению Троцкого, приступили к организации убийства Сталина и что мы, «зиновьевцы», должны взять инициативу дела убийства Сталина в свои руки. После этого заявления десятки тысяч человек исчезли с лица Земли. И я бы так не нервничал, когда бы не сидел передо мной сейчас человек, который может сделать заявление, опровергающее справедливость такого возмездия.
Шумов наклонился и схватил меня за шею.
– И не один он… Их двое! Одного я знаю. Второго – нет. И я сдохну, но выбью из тебя это имя.
Уйдя к столу, Шумов несколько минут покачивался с пятки на носок, разглядывая портрет вождя мирового пролетариата, висящий над столом. А потом развернулся и бросился ко мне.
– И я узнаю это имя, ты понял?!
Я качнул головой. Я понял, что имя второго он не узнает.
– А к чему такая спешка, Шумов?
После этого вопроса он смотрел на меня до тех пор, пока не пришел Мазурин.
– Снять с него форму подполковника Красной армии, выдать форму бойца. Поместить в подвал. Выставить охрану. Через полчаса «эмка» должна быть заправлена.
Помявшись, Мазурин тихо спросил, словно нехотя:
– Зачем ему форма красноармейца?
– Это не Ленинград!.. – По лицу Шумова я догадался, какое слово не прозвучало.
Усмехнувшись, я ему помог, объяснил Мазурину:
– Здесь командиры на вес золота, электрик Мазурин. Командовать скоро некому будет. Увидят вас, чекистов, уводящих в тыл командира, и голову снимут. Здесь сейчас плохо разбирают – НКВД или не НКВД…
Грязно выругавшись, Мазурин ушел, и только тогда Шумов выдохнул: «Идиот…» Но не успел он собрать вещи – закидать в вещмешок кружку и полотенце с кровати, как спутник его пришел. Под ноги мне упали ношеная гимнастерка и красноармейские портки с обмотками. Второй рукой Мазурин метнул мне под ноги тяжелые ботинки.
Пока я переодевался, Шумов бегло просматривал мои документы. Меж листов записной книжки он нашел фотокарточку Юлии. Смотрел с удивлением в ее улыбающееся лицо, потом рассмеялся – нервно, отрывисто, и быстрым шагом подошел ко мне.
– Не та, говоришь?! Ай, Александр Евгенич, Александр Евгенич…
Кажется, ему доставляло удовольствие повторять мое имя по два раза.
И спустя десять минут я сидел на прохладном, но сухом полу школьного подвала. Стены толщиной в полметра, оконце размером с голову ребенка. Перемена мест не потрясала. Только что я оперировал, а вот сейчас с разбитым лицом (Мазурин напоследок, за то, что его послали принести мне вещи, кулаком сунул) сижу в подвале.
Только сейчас почувствовал, насколько голоден. И как сильно вымотался – усталость недугом навалилась сразу. Сначала я повалился с завязанными за спиной руками на бок. А потом уснул.
…Мы выходим с Яковом из Смольного, спускаемся с крыльца и быстро идем до двух арочных ворот, открывающих выход на Смольный проезд. Там он берет мою руку, крепко сжимает и почти тащит за собой.
Мы бежим.
Странно видеть – это почти побег.
– Запомни, Саша… – взволнованно хрипит он. – Запомни, дорогой… То, что ты видел сейчас в этом здании «Воспитательного общества благородных девиц», – забудь!.. – Он нервничает, ищет папиросы. – Забудь навсегда! Ты только что подписал себе смертный приговор. Я был с тобой, меня видели, двое или трое цеплялись за меня взглядом, когда я волок Кирова за ногу. Ерунда, что волокли к выходу пятеро. Главное, что из пятерых один – ты, имя которого теперь известно, а второй – я, у которого в суматохе его забыли спросить!
Мы переходим на более спокойный шаг, выравнивается и речь Якова.
– Саша… – еврей, он имя мое произносит с необыкновенным придыханием – словно утопая на «а». – Саша, ты должен забыть, что я был с тобой. Ты никогда не должен помнить имя мое, возраст и приметы… Меня там не было, понял?
– Да что с тобой происходит? – удивляюсь я.
– Ты как ребенок, я поражаюсь на тебя! – возмущается он. – Ты на самом деле хочешь сообщить мне, что большой ребенок? Тогда можешь не тратить силы. Я в этом только что убедился своими глазами!
Поскольку я молчу, а вопрос до конца не решен, Яков снова берет меня за руку. Эта привычка с юношеских лет хватать меня за руку меня нервирует. Сначала я защищал его во дворе от шпаны, потом водил к женщине. И каждый раз, волнуясь, он брал меня за руку, потому что за руку его едва ли не до пятнадцати лет водила мама, уважаемая мною Рошель Самуиловна. Вот и сейчас, несмотря на то что руку я вырываю, он ее ищет.
– Когда завтра придут в мой дом и зарежут Сарочку, Саша, когда арестуют маму, вспомни слова, что я только что тебе говорил. Киров – не зверь и не герой, но не нужно быть ни тем ни другим, чтобы изменить чью-то судьбу. Наитие подсказывает мне, что после этой смерти… видел бы мой папа то, что видел я, быть может, я получился бы чуть мужественнее… так вот, после этой смерти будет много смертей. И я не хочу, чтобы твое или мое имя было в списке.
– Ты хочешь, чтобы прибили меня одного, я правильно понял? – Наконец-то наступил момент, когда мне можно по-человечески понятно психануть.
Но встревоженный еврей всегда мудрее нервного русского.
– Саша, не доводи меня до исступления своей глупостью. Нас было двое – все это видели. Рано или поздно об этом вспомнят. Скажут – а кто тот еврей, что вместе с Касардиным волок вождя ленинградских чекистов к двери мимо Николаева? И тогда будут искать тебя, Саша… – Яков закурил, наклонившись к моей спичке, и благодарно кивнул. – Потому что хирурга из больницы НКВД в Москве знают все, а еврея с улицы Чугунной никто не знает, кроме его мамы, дай бог ей здоровья. Но второй нужен будет непременно…
– Да кому он будет нужен, второй?
– Нет, я разговариваю с недалеким человеком, – огорчился Яша. – Второй нужен будет, чтобы пришить. Но его не пришьют, пока первый не назовет его имя.
– Мило.
– Умно, – поправил он. – Потому что пока первый не назовет имя, он будет жить.
– Ты окошмариваешь ситуацию.
– Я окошмариваю? – испугался Яков. – Дай бог, чтобы я оказался самым ужасным кошмаром в твоей жизни.
За убийство Кирова ответили тридцать пять тысяч человек в течение двух последующих после событий в Смольном лет. Из них тысяч тридцать ни разу не видели Кирова.
Странно, что разговор этот я вспомнил только сейчас. С разбитым лицом и связанными руками, лежа на полу школьного подвала где-то на Украине, во сне…
Оторвав от пола голову, я почувствовал, что происходит что-то неладное. Я находился в полной тьме. Привстав и невольно застонав от пронзившей руки боли, я прислонился к стене. Духота в подвале, что еще десять минут назад душила меня, куда-то выветрилась. На смену ей пришел холод.
Но поразило меня не это.
Вокруг меня звенела гробовая, страшная тишина.
Мое сердце мгновенно удвоило пульс. А может, я и есть… в гробу?
Вставая и падая, цепляясь руками за шершавую шубу стены, я поднялся на ноги. Из-за того, что вращался на полу, пытаясь ослабить путы, я теперь не мог понять, где находится окошко. Мне казалось, что именно оно должно меня успокоить. Найди я его – и вздохну с облегчением. Но если потеряю – задохнусь или сойду с ума.
Крепко встав на ноги, я сделал несколько шагов.
Такое впечатление, что совершил эти движения в полной пустоте мира. Нет ничего, кроме темноты, пустоты и меня.
И в это мгновение щека почувствовала холодок. Я сделал шаг назад и наконец-то поймал поток воздуха. Повернув голову, увидел едва заметный, темно-фиолетовый прямоугольник на черном фоне. Малевича бы сюда…
Осторожно, чтобы не разбить голову или колени, я приблизился к оконцу. Прижался спиной к стене и вздрогнул, когда где-то вдалеке, пошатнув тишину, тявкнула собака.
Собака? Здесь? Жива?! Последнее показалось мне настолько удивительным, что губы мои растянулись в улыбке. Столько грохота и после – такое веселое «тявк!».
Прохлада струилась сверху мне на шею. И когда я подумал, что как же хорошо, что пропитанный потом воротник гимнастерки под этим дуновением сохнет, я тут же вспомнил, что это воротник – чужой солдатской гимнастерки…
Через полчаса «эмка» должна быть заправлена.
Я словно услышал голос Шумова.
Через полчаса.
Последний раз я смотрел на часы в помещении, где мы с чекистом пили чай. Стрелки показывали тринадцать сорок пять.
Ошеломленный, я отстранился от стены. Все это время я спал. Я не слышал, когда закончилась стрельба. Уснул я под канонаду и разрывы снарядов, а сейчас за стенами школы царила совершенно необъяснимая тишина. Шумов сказал – «через полчаса». Это значит, что в четырнадцать пятнадцать они должны были поднять меня из подвала, усадить в машину и вывезти из Умани. Но сейчас…
Забыв, что связан, я машинально дернул левой рукой. Впрочем, если бы я и не был связан, установить время у меня бы не получилось. Мои часы вместе с документами остались у Шумова.
Что происходит?
Я вспомнил, что, когда меня вталкивали в подвал и было еще светло, в углу я заметил какой-то предмет. Потом глаза привыкли к темноте, и я отчетливо различал поставленную на попа школьную парту. Пора избавляться от веревок.
Сделав несколько шагов, я бедром уткнулся в ученический стол. Встал к нему спиной и нашел руками откидывающуюся крышку. Повернул ее и нащупал металлический навес. Присев и прижав руки, я стал с силой тереть веревку о металл…
Через пять минут я взмок. Но лучше взмокнуть, чем потерять руки. Они уже почти не слушались меня. Уже почти лежа спиной и изнемогая от неудобств, я почувствовал, как одна из жил лопнула. Но рукам легче не стало.
Идиот Мазурин! Надеясь на то, что за полчаса со мной ничего не случится, он связал меня, как чемодан для перевозки до Минвод!
Через пятнадцать или двадцать минут, а быть может, и через десять – трудно ориентироваться во времени, превозмогая резь во всем теле, – я упал на парту. Мои руки, как неконтролируемые конечности марионетки, упали по швам.
– Маразм какой-то, – не выдержал я.
Эти два скота решили везти меня не днем, а ночью, видимо. Наверное, немцы сжали кольцо окружения и теперь вынырнуть из него можно было только при лунном свете.
Разминая руки и уже привыкнув к темноте, я стал ходить по подвалу. Дверь уже проверил. Пройти через нее было так же невозможно, как через задраенный люк танка. Не знаю, зачем в подвалах украинских школ вставляют двери, обшитые листами железа и с коваными петлями. Ключ от замка мне представлялся полуметровым, загнутым на одном конце и имеющим петлю на другом ломом. Сначала я отбил об эту створку все руки, потом ноги.
Вопрос «что делать» меня не посещал. Когда знаешь, что арестован, такие вопросы голову не посещают. Это не твое дело. Ответ знают те, кто за тобой придет.
С тех пор Якова я видел только один раз. Перед самой войной он с сестрой – Рошель Самуиловна к тому моменту уже умерла, своей смертью, к счастью, – уезжал из Ленинграда в Казань. Не знаю, что собирался делать еврей среди татар, но ему виднее. Яков говорил на вокзале, что там у него дядя, но первый признак Яшиной лжи – это устремленный мимо меня взгляд. И в тот день, перед самым отправлением поезда, он говорил и смотрел мимо меня:
– Я очень хочу забыть тот день, но не могу. Прошло шесть лет, а я все помню – ты – за правую ногу, я – за левую… А за руки и плечи – трое коммунистов… – Всех в Ленинграде, кто носил галифе и сапоги, он называл коммунистами. А поскольку в середине тридцатых так одевались все, Яков называл коммунистами всех. Было в этом какое-то сознательное противостояние – вокруг коммунисты, и посреди этого сонма чудовищ – он, жид. – Но что бы ни случилось дальше, Са-аша-а, не упоминай моего имени.
– Напишешь мне? – спросил я, точно зная, что не напишет.
– Конечно, Саша, как только устроюсь, сразу дам знать, – ответил он, хорошо понимая, что не даст.
Первого декабря тридцать четвертого мы встретились с ним в Смольном случайно. Я приходил по вопросу бабкиной квартиры, он хлопотал о выплате пособия. Семья Яшина жила очень плохо, отец погиб в восемнадцатом, мать постоянно болела, и они перебрались в Ленинград, где жили их родственники. В марте тридцать четвертого я провожал их на вокзале так же, как в сороковом провожал в Казань. В Смольный Яшку допустили после разрешения, его вопрос улаживался. И я случайно увидел его в коридоре третьего этажа. Мы сели рядом и разговорились.
Я видел краем глаза Кирова. Он входил в свой кабинет с папкой под мышкой. Кивнул кому-то Сергей Миронович, улыбнулся, отпер дверь ключом и вошел…
– Плохо живем, Саша, – жаловался Яшка. – Жрать бывает совсем нечего…
– Что же ты, хороняка, на работу не устроишься? – возмутился я. – У тебя семья – сестра, дылда уже здоровая. Запросто на рабфаке учиться может и на заводе рубли получать, и ты, лось!.. У тебя только мать больна, но неужто вы вдвоем ее не прокормите?
Через минуту я увидел, как к кабинету Кирова подходит невысокого роста, бледный, почти тщедушный мужчина. Правую руку он держал в кармане, вторая висела вдоль тела, и кулак – я почему-то заметил это отчетливо – то сжимался, то разжимался…
Я впервые видел этого хлюпика. Не знаю почему, но я сразу проникся к нему неприязнью. Мужчины, которые не стремятся стать чуть больше в условиях, когда природа обидела их ростом, кажутся мне неполноценными. Черт возьми, нужно же что-то делать, чтобы при таком росте не быть таким худым! Например, кидать гирю и за грудой мышц скрывать маленький рост!
Было очевидно для меня, что парень этот – коммунист. Если ориентироваться на Яшкино гардеробное представление о человеке, так оно и было. Шинель, галифе, сапоги, гимнастерка – все новенькое, ухоженное…
– Ты забыл, что у меня язва? – обиделся Яша.
– Ах да, конечно, – вспомнил я, убирая ноги с прохода, чтобы не мешали служащим, – когда мы познакомились, а дело было в девятьсот девятом, она у тебя уже была. Но на память мне, как доктору, не приходит ни единого случая, когда бы ты страдал от приступа.
– И потом, ты знаешь мое положение… По субботам…
– Прости, запамятовал. Я снова невнимателен к твоим проблемам. Мы же по субботам не работаем. Тем более по воскресеньям. А тут субботники, пятилетки в четыре года. Какой дурак придумал эти темпы? Он что, не знал, что по субботам нормальные люди к труду не обращаются?
– В голосе твоем, Саша, звучат отвратительные нотки юдофобии. Не удивлюсь, если ты однажды – я так думаю, в тот момент, когда пятилетки решено будет считать как два года, – упрекнешь меня за то, что я не считаю Христа мессией. И предъявишь-таки претензии на тот счет, что мой народ участвовал в его распятии.
Мужчина у кабинета Кирова взялся за ручку двери.
– Если ты не заткнешь свой рот, нас накроют и водворят в психушку, – проговорил я. – Говорить такие речи у кабинета человека, разрушившего сорок семь церквей за десять лет, не обязательно.
Мужчина открыл дверь…
– Послушай! – Меня окрылил тот факт, что Сергей Миронович, судя по его улыбке, находится в добром расположении духа, а именно в такие мгновения человек предрасположен к актам милосердия. И дважды вдохновил – что в кабинет самого великого из питерцев, оказывается, можно попасть вот так запросто – повернув ручку двери. – Мы идем к Кирову!
– Оставь эти шутки для другого еврея!
– Для другого еврея у меня другие шутки!
Схватив Яшку за рукав, я оторвал его от лавки и поволок к кабинету.
– Мы сейчас зайдем, и ты скажешь: «Сергей Миронович, доброго вам здравия! Моя семья умирает с голоду!» А я представлюсь и добавлю, что в заявлении этом нет ни капли лжи.
– Нет, на такое безумие я никогда не пойду, – бубнил Яшка, однако же шел. – Моя семья уже не мажет икру на хлеб, но еще не пухнет…
– Сделай виноватую морду, – приказал я, берясь за ручку. – Когда она такая, даже мне хочется дать тебе денег.
Повернув ее до щелчка, я распахнул дверь, и мы вошли…
Когда я сделал первый шаг внутрь, члены мои сковало ужасом. Впрочем, был это, наверное, даже не ужас. Еще не ужас. Оцепенение. Коматоз.
Я слышал, как забилось Яшкино сердце.
Раздался выстрел…
«Тявк!» – снова прозвучало на улице, но уже ближе.
Есть, что удивительно, не хотелось.
Но выпил бы воды я сейчас ведро, наверное…
– Никогда!.. Никогда, ты слышишь, не упоминай мое имя в этой связи! – просил он, шагая по улице. – И никогда! – запомни! – не рассказывай правды! Даже если спустя две минуты я попрошу тебя напомнить эту историю, ты… Что ты должен мне рассказать?
Его нужно успокоить. Иначе он или с ума сойдет, или меня сведет.
– Мы сидели…
– Не «мы»!!
– Прости, я совершенно выбился с тобой из сил. – Я положил на его вздрагивающее плечо руку. – Я! я пришел в Смольный, чтобы просить за квартиру своей покойной бабушки. Сидел у кабинета уполномоченного по жилищным вопросам. Увидел, как по коридору идет Сергей Миронович Киров. Вождь ленинградских коммунистов. Сзади к нему неожиданно подскочил, как было установлено позже органами, Николаев, выхватил револьвер и выстрелил. Сергей Миронович, уже почти войдя в кабинет, упал замертво на пороге. Сразу после этого Николаев закричал: «Мой выстрел пронесется сквозь века!» – и попытался выстрелить себе в висок. Но подоспевшая охрана помешала злодею осуществить свой коварный замысел по уходу от ответственности. И враг был задержан…. – Проговорив все это в точном соответствии с документом, который подписал час назад, я облегченно вздохнул.
– Все правильно, – подтвердил Яшка. – И в дальнейшем, кто бы тебя ни спрашивал, в бреду ли, нетрезвый ли, под пытками, ты повторяй только эту историю. – Он растер пальцами нос – еще одна вредная привычка этого человека. – Только эту! И вот еще что… Не хочу предрекать, но что-то подсказывает мне, что жив ты будешь до тех пор, пока не назовешь мое имя.
Это было уже слишком. Нельзя же столько раз просить об одном и том же. Особенно когда видимых причин для того нет никаких.
– Яша, еще немного, и я попрошу тебя забыть обо мне. Система выживания, которой ты придерживаешься, кажется мне немного… безнравственной, что ли, и – чересчур предусмотрительной. И то и другое мне не нравится.
Мы расстались на Невском.
– Нравится не нравится, – повторил он, и я понял, что слова мои совесть его все-таки царапнули, – но ты вспомнишь меня, когда появится вдруг человек, который спросит тебя: «Кто тот второй?»
– Прощай навсегда, скотина.
– До завтра.
Завтра мы действительно встретились. Он провожал меня в Москву. На следующий день он отправил свое и мое заявление по почте, и через два месяца нам почти одновременно пришли ответы из Смольного. Мне было дано разрешение на вселение в ленинградскую квартиру. Думаю, похлопотал один из моих пациентов в московской больнице НКВД. Яшке было написано: «В удовлетворении вашей просьбы о получении пособия отказано».
– Конечно, – сказал мне в сороковом, на вокзале, вспоминая этот случай, Яков, – я же еврей. Ты помнишь наш разговор?
Я помнил.
А тридцать первого июля следующего года, спустя полтора года после расставания и почти семь лет после выстрелов в Смольном, я услышал вопрос, отвечать на который Яшка мне не рекомендовал.
Сказал бы мне кто-нибудь, зачем сейчас, когда немцы входят в СССР, как нож в масло, когда вот-вот они появятся у стен Москвы, в украинской глуши, в окружении, рискуя головой, вдруг появляются двое чекистов с Лубянки, расспрашивая меня о свидетеле убийства Кирова. Даже сейчас, в странной тишине и зловещем мраке, мне казалось это каким-то ирреальным событием. Мало того, они хотят вывезти меня из окружения – вырвать из лап смерти, чтобы замучить (а для чего же еще? – после проводов-то…) в Москве. Бред…
Кому в эти минуты понадобилась фамилия второго свидетеля?
И вдруг в голову мне совершенно неожиданно, не по моей воле, свалилась мысль: «А почему я до сих пор жив, собственно?..»
Потому что Шумов не может меня убить, пока я не назову Яшкину фамилию.
Сукин сын Яшка оказался, как всегда, прав…
А почему они не вырвали клещами имя здесь, в школе? Порадовали электричеством – и все, как дети… Неужто методов не знают?
Знают… А дело в том, что пытать командира, хотя бы и врача, сейчас, здесь, когда фашисты убивают рядовых Красной армии, оставшихся без командиров, это… Их бы самих тут оставили. И они решили все сделать по-человечески. То есть вывезти меня для пыток из окружения.
Есть не хочу.
Умираю от жажды. И от какой-то странной усталости. Видимо, это результат разговора с Шумовым…
Я сел на пол, потом беспомощно завалился на бок. И почувствовал, что снова засыпаю…
На этот раз очнулся я не от собственных рассуждений, а в принудительном порядке. Кто-то молотил в дверь. Моргая и смахивая с лица сонную вязь, я уселся на полу, ожидая в такой позе и встретить Шумова.
И только сейчас сообразил, что Шумову незачем стучаться в эту дверь. Мазурин запер меня и ушел. Я посмотрел в оконце. Там было светло как днем. Наверное, день и был. Луч света, пронзая комнату, лежал на пыльном полу квадратом. Теперь от его черноты Малевича не осталось и следа. Скорее это был квадрат Ван Гога – по сочности цвета красок равных Винсенту не было.
Дверь сотрясалась от ударов, но я-то уже знал, чем это заканчивается. Отбитыми конечностями. До меня доносились даже не обрывки речи, а просто звуки, издаваемые человеческой глоткой. Разобрать нельзя было ни слова. Наверное, раньше это была не школа вовсе, а штаб-квартира Мазепы. И здесь, где теперь сижу я, сидели его пленники. Мысль о том, что сюда могли запирать нерадивых советских учеников, в мою голову пришла, но последней. Сразу после того, как стук и болтовня снаружи, в подвале, прекратились.
И снова – тишина, хоть ножом ее пластай.
– Да что же это такое? – уже нервно прокричал я.
Словно в ответ на это о дверь с той стороны что-то стукнулось и упало на пол.
– Кретины, – пробормотал я, отвернувшись к оконцу…
Это и спасло мои глаза.
Последовавший через несколько секунд после этого взрыв повалил меня на пол. В ушах словно разорвались запалы. Пытаясь сообразить, целы ли барабанные перепонки, я схватился руками за голову и понял, что лежу в углу помещения…
Одурев от неожиданности, хватая ртом воздух, я встал на колени, опершись локтями в пол.
Передо мной топтались сапоги, что-то звучало, я слышал, но не мог сообразить – что.
Странные сапоги. Шумов носил другие. Да и вообще. Необычные сапоги, непривычные…
Додумать мысль до конца я не успел.
Сильнейший удар в грудь опрокинул меня на спину. Показалось, что меня даже оторвало от земли. Но с моим весом в восемьдесят кило…
Мои руки и ноги двигались сами. Перебирая ими, я отполз в глубь подвала…
Передо мной мельтешили в клубах неоседающей пыли тени, но я различал и идентифицировал их смутно, они словно играли вторую роль, причем роль неприятную – мешали разглядывать разломанную взрывом ручной гранаты дубовую дверь. Она лежала плашмя, и из нее местами, словно мальчишеские вихры, торчали светловолосые щепки…
Я закрыл лицо руками, это все, что я мог сделать. От меня не зависело уже ничего. Поднял взгляд, оторвав его от двери, и увидел то, что неминуемо должен был увидеть, наконец-то разобрав среди звенящего шума в ушах немецкую речь, – немецких солдат.