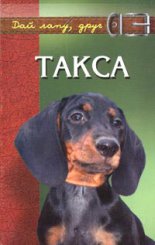Голубая чашка. Рассказы про детей Железников Владимир

М. Горький
Дед Архип и Лёнька
Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног Лёнька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На тёмно-коричневом фоне земли их отрёпанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один – побольше, другой – поменьше; утомлённые, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.
Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперёк узкой полоски песка – он жёлтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Лёнька лежал калачиком сбоку деда. Лёнька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда – старого, иссохшего дерева, принесённого и выброшенного сюда на песок волнами реки.
Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймлённый редкими кустами ивняка; из кустов высовывался чёрный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.
Его тусклые и воспалённые глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещрённое морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слёз.
Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков… Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожжённая солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видное старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нём вырисовывались три стройные фигуры далёких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг всё скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева…
Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.
Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.
Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрёт, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и ещё его сильно смущала мысль о внуке… Куда денется Лёнька?..
Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз в день, и всегда при этом в нём что-то сжималось, холодело, и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию…[1]
Но – далеко идти в Россию… Всё равно не дойдёшь, умрёшь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ всё зажиточный, хотя тяжёлый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты…
Остановив на внуке увлаженный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.
Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся ещё больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.
– Идёт? – спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.
– Нет ещё, не идёт. Стоит. Чего ему здесь? Не зовёт никто, ну и стоит он… – медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. – Дремал ты?
Лёнька неопределённо покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.
– Кабы я плавать умел, купаться бы стал, – пристально глядя на реку, заявил Лёнька. – Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится…
И Лёнька недовольно отвернулся от воды.
– А вот что, – заговорил дед, подумав, – давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты и лезь, купайся…
– Ну-у!.. – резонно протянул Лёнька. – Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.
– А ведь верно! Стащит. Ишь, как прёт… Чай, весной-то разольётся – ух ты!.. И покосу тут – беда! Без краю покосу!
Лёньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьёзным и сосредоточенным выражением на лице.
Дед смотрел на него и о чём-то думал, щуря глаза.
– Ведь вот… – тихо и монотонно заговорил Лёнька, стряхивая с рук пыль. – Земля эта теперь… взял я её в руки, растёр, и стала пыль… крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно…
– Ну так что ж? – спросил Архип и закашлялся, посматривая сквозь выступившие на глазах слёзы в большие, сухо блестящие глаза внука. – Ты к чему это? – добавил он, когда прокашлялся.
– Так… – качнул головой Лёнька. – К тому, что, мол, вся-то она эвона какая!.. – Он махнул рукой за реку. – И всего на ней понастроено… Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!
И, не умея уловить свою мысль, Лёнька снова молча задумался, посматривая вокруг себя.
Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:
– Умница ты моя! Правильно сказал ты – пыль всё… и города, и люди, и мы с тобой – пыль одна. Эх ты, Лёнька, Лёнька!.. Кабы грамоту тебе!.. Далеко бы ты пошёл. И что с тобой будет?..
Дед прижал голову внука к себе и поцеловал её.
– Погоди… – высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Лёнька. – Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?
– А так уж устроено Богом, голубь.
Всё – земля, а сама земля – пыль. И всё умирает на ней… Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро… – перескочил дед и тоскливо добавил: – Куда ты тогда пойдёшь без меня-то?
Лёнька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил её в рот и стал медленно жевать.
Но у деда это было больное место.
– Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? – тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.
– Говорил уж… – рассеянно и недовольно произнёс Лёнька, искоса взглядывая на деда.
Ему не нравились эти разговоры ещё и потому, что зачастую они кончались ссорою. Дед долго говорил о близости своей смерти. Лёнька сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся – и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Лёнька не любит деда, не ценит его забот, и, наконец, упрекал Лёньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.
– Что – говорил? Глупенький ты ещё, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдёшь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их – это так. А милостыню-то собирать несладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят… Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Десять лет по миру хожу – знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст, да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнёт тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек – зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу – сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга…
Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие, тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на тёмном лице выступили резче.
Лёнька не любил его таким и немного боялся чего-то.
– Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты – хилый ребёночек, а мир-то – зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого… Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один… Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался… На кого?.. Господи!.. За что ты невозлюбил раба твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому – дитё, – оберечь должен. Пестовал семь годов… на руках моих… старых… Господи, помоги мне!..
Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.
Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.
– Будет, не плачь, дедушка, – глядя в сторону, суровым тоном проговорил Лёнька и, повернув к деду лицо, добавил: – Говорили обо всём уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда ни то…
– Забьют… – сквозь слёзы простонал дед.
– Может, и не забьют. А вот как не забьют! – с некоторым задором вскричал Лёнька, – тогда что? Не дамся каждому!..
Но тут Ленька вдруг почему-то осёкся и, помолчав, тихонько сказал:
– А то в монастырь уйду…
– Кабы в монастырь! – вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.
Над их головами раздался крик и скрип колёс…
– Паро-о-ом!.. Паро-о – гей! – сотрясала воздух чья-то могучая глотка.
Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.
Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперёд грудь выпячивалась ещё более. Белые зубы ярко сверкали в шёлковой раме чёрной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстёгнутой рубахи и чохи[2], небрежно накинутой на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колёс арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, – разило сытостью, силой, здоровьем.
– Гей!.. Гей!..
Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.
– Здравствуйте! – гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже чёрный паром, стал пристально оглядывать нищих. – Из России?
– Из неё, милостивец! – с поклоном ответил Архип.
– Голодно там у вас, а?
Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.
– И тараканы с голода мрут.
– Хо-хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет голоду.
– Тут, кормилец, главная причина – земля. Не родит. Высосали землю-то мы.
– Земля? – тряхнул казак головой. – Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьётся, родит.
Подъехал паром.
Двое здоровых краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.
– Жарко? – оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.
– Эге! – ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул в неё и повёл носом, сильно втянув в себя воздух.
Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог. Дед и Лёнька вошли на паром и прислонились к борту, посматривая на казаков.
– Ну, едем! – скомандовал хозяин арбы.
– А ты не везёшь ничего с собой попить? – спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смотрел в голенище.
– Ничего. А что? Разве в Кубани воды мало?
– Воды!.. Я не о воде.
– А о горилке? Не везу горилки.
– Как же это ты не везёшь? – задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома.
– Ну-ну, едем!
Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.
– А ты, дед, что не поможешь? – обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.
– Где мне, родной! – жалобным тоном и качая головой, пропел тот.
– И не надо им помогать. Они и одни управятся!
И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лёг на палубе парома.
Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.
Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперёд.
Глядя на воду, Лёнька чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомлённые быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шёпот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.
Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пень на берегу.
– Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы[3]. И ты, дед, садись.
Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Лёнька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой чёрной ныли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.
Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.
Колёса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, тряся головой, не переставая кашлял, а Лёнька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христе»… Снова станичные мальчики будут задирать его, a бабы надоедать расспросами о России… Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было… Говорит, что в России на улицах мрёт народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода… Ничего этого они с дедом не видали нигде… А нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда её, милостыню, здесь денешь? Дома – там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.
– Собирать пойдёте? – спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.
– Уж конечно, почтенный! – со вздохом ответил ему дед Архип.
– Встань на ноги, дед, покажу, где живу, – ночевать ко мне придёте.
Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.
– Эх ты, старый!.. – буркнул казак, соболезнуя. – Ну, всё равно, не гляди; придёт пора на ночлег идти, спроси Чёрного, Андрея Чёрного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!
Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду – направо и налево – к небу вздымались такие же кучки. Их зелёная листва была одета серой пылью, а кора толстых, прямых стволов потрескалась от жары.
Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий проулок, они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей.
– Ну, как мы, Лёня, пойдём – вместе или порознь? – спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: – Вместе бы лучше – мало больно тебе подают. Не умеешь ты просить-то…
– А куда много-то надо? Всё равно ведь не поедаешь… – хмуро ответил Лёнька, оглядываясь вокруг.
– Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернётся человек, да и купит? Вот те и куда! Деньги даст. А деньги дело большое: ты с ними небось не пропадёшь, как умру-то я.