Рекенштейны Крыжановская-Рочестер Вера
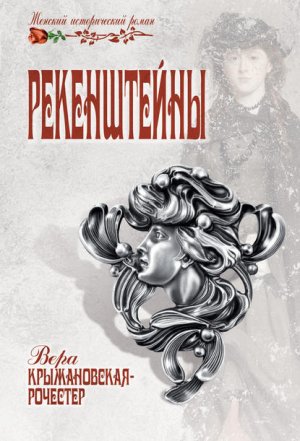
Часть I
Габриела
Воспитатель
По одной из ухоженных дорог прирейнской Пруссии быстро мчалась щегольская карета, запряженная парой лошадей, которыми правил старый кучер в ливрее с графской короной на пуговицах. Сентябрь был на исходе, и осень уже давала себя чувствовать. Беспрерывно шел мелкий, частый дождь, и все кругом тонуло в густом сероватом тумане.
Дорога была гористая, окаймленная с обеих сторон сплошным лесом. Порой сквозь его прогалины открывались чудные ландшафты; но путник, сидевший в карете, казалось, был погружен в тяжелые думы и не обращал никакого внимания на местность, по которой проезжал. Ночной мешок, дорожный несессер и сундук на козлах показывали, что он едет издалека.
Путник был молодой человек лет 28, высокий, худощавый, но крепко сложенный; его характерное лицо с правильными чертами возбуждало симпатию. Он снял шляпу и откинул голову на подушки кареты; золотисто-русые волосы, короткие, но густые, мягкими прядями обрамляющие его белый широкий лоб, резко выделялись на синем фоне атласа; усы и небольшая борода были того же цвета. Брови, более темные, соединялись на лбу и оттеняли большие черные глаза, спокойные и строгие; в эту минуту они были отуманены сумрачной грустью, которая проглядывалась и в суровом выражении губ; но порой его мужественное лицо неожиданно озарялось отблеском энергии и гордости, граничащей с упрямством.
Барон Готфрид Веренфельс был последний отпрыск благородной и древней фамилии, обедневшей мало-помалу вследствие войн и несчастий. Отец его пытался поправить состояние спекуляциями, которые сначала удались, но потом окончательно разорили его. Подавленный этим несчастьем, старый барон застрелился, оставив своему единственному сыну лишь долги да заботу о матери и о молодой жене, с которой он едва только вступил в брак.
Более года Готфрид отчаянно боролся, чтобы сохранить маленькое имение, обеспечивающее ему скромное существование, но неожиданное банкротство лишило его этого последнего ресурса; смерть жены не менее жестоко поразила его сердце, и нервная болезнь приковала его к постели на несколько месяцев. Тотчас по выздоровлении молодой человек стал обдумывать, как создать себе новое положение. Он был разбит, но не уничтожен. С помощью одного из друзей Веренфельс поместил мать и свою маленькую Лилию, которой был тогда год и три месяца, к одной старой родственнице, своей крестной матери, а сам решился ехать в Америку попытать счастья. Он готовился к отъезду в Новый Свет, когда неожиданное предложение изменило его намерение.
Банкир Фридман, старинный друг его отца, не переставал оказывать доброе расположение молодому человеку; теперь он письменно просил его немедленно повидаться с ним по весьма важному делу.
Обменявшись поклоном с Готфридом, банкир сказал без всяких предисловий:
– Мой милый Веренфельс, я имею нечто предложить вам, и если вы согласитесь, то, по-моему, это будет выгодней, чем поездка в Америку. Я сейчас получил письмо от моего друга и клиента, графа Вилибальда Рекенштейна. Он просит меня рекомендовать ему человека умного, образованного, хорошего круга, а главное, энергичного, который взял бы на себя воспитание его сына, мальчика с испорченным характером, вследствие несчастных обстоятельств, ленивого и дерзкого до крайности. В течение полугода он вывел из терпения трех воспитателей.
Вы считаете выгодной должностью быть козлом отпущения у такого чудовища? – спросил Готфрид с усмешкой.
– Погодите. Кроме этого чудовища, которому едва девять лет, в доме его отец – такой симпатичный и благородный человек, какого можно только себе представить; к тому же больной и одинокий. Он живет уединенно в своем Рекенштейнском замке. Практическая сторона дела – значительное вознаграждение, которое граф предлагает тому, кого я рекомендую; оно равняется жалованью большой государственной должности. Это сейчас вывело бы вас из затруднительного положения и дало бы вам возможность обеспечить вашей матери и вашему ребенку удобства жизни. Вы могли бы даже откладывать на будущее; таким образом, вам было бы легко впоследствии попытать счастья в Новом Свете, когда вы исполните принятое вами обязательство, и маленький Танкред – согласно желанию отца – поступит в военную школу. Со свойственной вам энергией, я полагаю, вы справитесь с маленьким чертенком.
Готфрид опустил голову. Рассудок говорил ему, что его старый друг прав.
– А что так испортило этого несчастного ребенка?
– Это вина его матери, – отвечал Фридман. – Графиня, говорят, отчаянная кокетка, занята нарядами, жаждет всеобщего поклонения и отравляет всех, кто попадается в ее сети. Была она виновна перед своим мужем или нет, но только он имел дуэль с одним слишком ревностным ее обожателем. Графиня уехала от мужа и увезла Танкреда, которому было тогда три года. С тех пор она живет за границей, где ведет веселую жизнь, сохраняя, впрочем, внешнее приличие, так как возит с собой старую родственницу. Но сына своего она решительно развратила своим безграничным обожанием и потаканием его недостаткам.
Граф, серьезно раненный на дуэли, заперся с тех пор в своем замке, и только в прошлом году узнал, какое воспитание получает его сын. Он потребовал возвращения ребенка, и мать отдала его с условием увеличения ее годового содержания. Остальное вам известно. Я забыл лишь сказать, что, так как правая рука графа осталась слабой, вам придется помогать ему немного в его переписке.
Готфрид согласился принять предлагаемую ему должность, и мы застаем его едущим на место своего нового назначения. Какое-то тайное предчувствие теснило его грудь, а гордая душа возмущалась при мысли о подчиненном положении, которое ожидало его.
Глубоко вздохнув, он выпрямился, провел рукой по лбу, как бы желая отогнать докучливые думы, и, опустив стекло, стал глядеть в окно. Дорога в этом месте как бы надламывалась и довольно круто спускалась в долину, лежащую среди лесистых гор; в глубине ее, на холме возвышалось обширное здание, окруженное садами. То был Рекенштейн. Сердце молодого человека, неожиданно для него самого, почему-то сжалось.
Пока Готфрид рассматривал свою будущую резиденцию, карета въехала в аллею вековых дубов и повернула к золоченой решетке ворот, над которыми возвышался герб; затем, обогнув площадку, украшенную фонтаном, она остановилась у подъезда.
Два лакея выбежали встретить приезжего, и один из них, помогая ему выйти, почтительно сказал:
– Граф желает вас видеть, сударь, как скоро вы отдохнете.
– Проводите меня в назначенную мне комнату, я немного оправлюсь и тотчас пойду к графу.
Сопровождаемый лакеем, Готфрид прошел вестибюль, убранный цветами, откуда лестница с золочеными перилами, устланная ковром, вела в комнаты верхнего этажа; затем длинная анфилада парадных комнат привела его в прелестную маленькую залу, смежную со спальней, где слуги и сложили его вещи.
– Куда ведет эта дверь? – спросил Готфрид лакея, помогавшего ему переодеваться, указывая на полуспущенную портьеру.
– В комнату маленького графа; только теперь господин Танкред запер ее на ключ, так как он очень недоволен вашим приездом.
– Он сидит в запертой комнате?
– Маленький граф в саду. Он очень рассердился, когда доложили о вашем приезде; разбил большую китайскую вазу, положил ключ в карман и убежал.
Готфрид, окончив свой туалет, направился в комнаты владельца замка. Старый камердинер ввел молодого человека – доложив о нем предварительно – в кабинет графа. Обои и мебель темно-зеленого цвета придавали этой комнате суровый, мрачный вид.
Возле окна, в кресле с высокой спинкой, украшенной фамильным гербом, сидел человек лет пятидесяти. Ноги его, обложенные подушками, были укутаны одеялом; лицо, болезненно-бледное, сохраняло отпечаток замечательной красоты; темные глаза, отуманенные грустью, выражали доброту и страдание; волосы на голове, еще густые, начинали седеть.
– Добро пожаловать, господин Веренфельс! Мой старый друг Фридман писал мне о вас так много хорошего, что вы уже овладели моим доверием и моей симпатией, – сказал граф, протягивая Готфриду свою исхудалую руку и устремляя приветливый взгляд на красивую, атлетическую фигуру молодого человека.
– Благодарю вас, граф, постараюсь оправдать ваше доверие, – отвечал Готфрид, садясь в кресло, на которое указал ему граф.
– Тяжелую обязанность я взваливаю на ваши плечи, мой юный друг, – продолжал хозяин дома. – Характер Танкреда таков, что и я понять не могу, откуда он мог взять такие манеры. Его грубость и леность невообразимы; у него отвращение ко всякому труду. Никто до сих пор не мог побороть его упрямства, а когда он впадает в бешенство, то не помнит себя. А между тем когда вы его увидите, то пожалеете, как и я, что это маленькое существо, так богато одаренное, погибает нравственно.
– Я сделаю все, что человечески возможно, чтобы исправить вашего сына. Но разрешите ли вы мне, граф, употреб лять меры строгости, если я найду это нужным?
– О, конечно, даю вам на то полное право. Передаю вам, так сказать, мою отеческую власть. Наказывайте строго, секите его, если он того заслужит. Я сам давно должен был начать это делать, но мое болезненное состояние лишило меня всяких сил.
В эту минуту в соседней комнате раздался стук шагов, и в кабинет ворвался маленький мальчик в синей суконной матроске.
Готфрид с любопытством глядел на него и ему стали понятны и сожаление графа и его слабость к сыну. Никогда он не видал такого красивого ребенка. Бледное личико с тонкими и правильными чертами камеи, обрамленное длинными черными локонами с синеватым отливом, казалось идеалом, который мог создать лишь великий художник. Но пурпуровый ротик выдавал своеволие и упрямство, а большие синие, как васильки, глаза сверкали гордостью и дерзостью.
Увидев нового воспитателя, Танкред остановился и, не удостоив поклоном, смерил его презрительным взглядом.
– Черт его принес! – проворчал он. Затем отвернулся, бросился в кресло, положил ноги на стол и, схватив папироску, зажег ее и стал курить.
– Вот видите! – сказал граф с унынием, и в его голосе и жесте слышалось нервное раздражение.
– Я приступлю к воспитанию моего ученика и заставлю его уяснить, как он должен вести себя в присутствии отца. – Затем Готфрид спокойно подошел к Танкреду, взял у него папироску, бросил ее в пепельницу и, приподняв мальчика, поставил его на ноги.
– Маленьким детям не полагается курить, и я запрещаю тебе дотрагиваться до папирос, – сказал он строго. – И чтобы я в первый и последний раз видел, что ты позволяешь себе так непристойно держаться перед своим отцом и передо мной. Берегись не слушаться меня, если не хочешь быть строго наказанным.
Танкред на минуту как бы окаменел, затем, дрожа от злости, кинулся к отцу и, топая ногами, закричал:
– Папа, ни одного дня не смей оставлять здесь этого нахала, который позволяет себе дотрагиваться своими грязными руками до графа Рекенштейна и угрожать ему; прогони его тотчас же. Я этого хочу.
– Танкред, не стыдно ли тебе! Ты совсем не любишь меня, если причиняешь мне такие волнения, – проговорил граф слабым голосом.
Мальчик бросился к нему, обхватил его шею и зарыдал.
– Я не хочу никого слушаться, – твердил он сквозь слезы. – У мамы все делали, что я хотел. Учиться мне скучно. Если ты хочешь, чтобы я тебя любил, прогони этого грубияна.
– Будь благоразумен, дитя мое, – отвечал граф, целуя кудрявую головку мальчика. – Господин Веренфельс твой воспитатель; ты должен его уважать и слушаться. Будь вежлив, прилежен, и он будет к тебе добр. Графу Рекенштейну необходимо учиться; блестящий офицер, каким ты хочешь быть со временем, не может оставаться невеждой, не умеющим ни читать, ни писать.
Граф замолчал и, бледнея, откинулся на спинку кресла. Готфрид поспешно подошел и, отводя Танкреда, сказал:
– Видишь, как твое поведение огорчает отца. И как тебе не стыдно так плакать; большой мальчик рыдает от того, что надо учиться. Какой срам! Пойдем.
Танкред хотел было воспротивиться, но, встретив спокойный, энергичный взгляд своего нового воспитателя, опустил голову, дал взять себя за руку и покорно пошел за Готфридом.
Придя в свою комнату, Готфрид с тем спокойствием, которое, по-видимому, действовало внушительно на воспитанника, приказал ему отпереть замкнутую дверь. После минутного колебания, Танкред вынул из кармана ключ и молча, с угрюмым взглядом, подал его лакею. Дверь мгновенно была открыта.
С новым удивлением Готфрид вошел в спальню с голубой атласной обивкой на стенах и на мебели. Широкая кровать, украшенная кружевами, стояла на возвышении, покрытом мехом; рамка туалетного зеркала из массивного серебра изображала амуров, держащих свечи. Готфрид почувствовал неприятное смущение, и спросил лакея, не по приказанию ли графа была так убрана комната его сына.
– Нет, – отвечал лакей. – Это господин Танкред хотел непременно занять комнаты графини, а так как сам барин ни во что не вмешивается, то управляющий приготовил и для вас будуар и уборную матери мальчика.
В тот же вечер за игрой в шахматы с графом Готфрид попросил у него разрешения занять со своим воспитанником другое помещение, более соответствующее нуждам ученика.
– Конечно, – отвечал граф, – выбирайте какие хотите комнаты. Я отдам распоряжение управляющему устроить их согласно вашим указаниям.
На следующий день, осмотрев замок, Готфрид выбрал четыре комнаты, смежные со средней частью здания времен Возрождения; одна из них выходила на широкую террасу, ведущую в сад. Танкред был взбешен этой переменой. Он не смел выказывать своего неудовольствия, так как его воспитатель внушал ему невольный страх; но затаенная злоба кипела в нем и при первом случае вырвалась наружу.
Это было на третий день их водворения в новом помещении. Они были в классной комнате, смежной с террасой. Готфрид сидел у окна и читал газету. Танкред, стоя у дверей террасы с книгой в руках, не учился, а барабанил с досадой по стеклу. Вошел лакей и положил на стол большую пачку тетрадей.
– Возьми прочь этот хлам, который я видеть не хочу, и убирайся к черту, – крикнул Танкред, взглянув искоса на врагов своего спокойствия. Заметив, что лакей не обращает никакого внимания на его слова, Танкред побагровел, разбил ногой стекло балкона, подбежал к столу, схватил тетради и швырнул их в лицо лакею, осыпая его потоками брани.
Готфрид, молча следивший за этой сценой, встал и без раздражения, но как человек, обладающий непреодолимой властью, взял маленького графа за уши, поставил его на колени и сказал:
– Подними тетради и положи их в порядке; пока этого не сделаешь, не будешь обедать.
Такое обращение и такая угроза довели озлобленного мальчика до крайнего раздражения. Он вскочил на ноги, бросился на лакея, колотя его кулаками и ногами, ухватился за его жилет, оторвал от него карман и неистово закричал:
– Негодяй, каналья, я сверну тебе шею, если ты сию минуту не возьмешь его за шиворот и не вышвырнешь прочь. Если же послушаешься меня, я тебе дам десять талеров!
Готфрид, видя, что надо приступать к энергичным мерам, чтобы остановить зло в корне, взял камышовую тросточку, гибкую как хлыстик, и прежде чем маленький граф мог ожидать чего-нибудь подобного, он был схвачен и подвергнут примерному наказанию. Напрасно он вырывался из железной руки, которая его держала: силы и упрямство его были преодолены, что и сказалось потоком слез. В первый раз непокорный ребенок был побежден.
Чтобы дать своему ученику возможность поразмыслить в одиночестве о суровом уроке, который ему был преподан, Готфрид оставил его обедать одного в своей комнате. Но когда, отобедав сам с графом, Веренфельс возвратился к себе, то не нашел уже там Танкреда, он убежал и его нигде нельзя было найти.
– Должно быть, он побежал к судье, – сказал Петр.
– К какому судье?
– К уездному судье, Линднеру. Он живет в Рекенштейнской деревне, по ту сторону парка. У него много детей одного возраста с маленьким графом, и господин Танкред любит туда ходить.
Готфрид взял шляпу и пальто и, расспросив, какой дорогой идти, отправился искать своего ученика. Погода была великолепная. Маленькая боковая дверь в бронзовой решетке была открыта, и Готфрид вошел в аллею дубов и лип, в конце которой виднелись дома большого села и высокая колокольня церкви. Девочка, сидевшая с вязаньем на пороге первого домика, вежливо указала ему дом судьи, находившийся по ту сторону улицы, несколько в стороне и окруженный хорошо ухоженным садом и огородом. Широкий балкон, обвитый виноградником, белые занавеси и великолепные цветы на всех окнах придавали этому уютному жилищу свежий и изящный вид.
Перед верандой два маленьких мальчика, семи и девяти лет, играли с деревянной лошадкой; пятилетняя девочка нанизывала красные ягоды на длинную нитку.
– Дома ваши родители? – спросил Готфрид, кланяясь дружески детям.
– Отец вышел, – отвечал старший мальчик, снимая с головы свою соломенную шляпу. – Но мама там, в саду, с Танкредом. Он не захотел играть с нами, и мама велела нам уйти.
Молодой человек пошел по указанной аллее и вскоре увидел беседку из жимолости, под тенью которой на скамейке сидела молодая женщина в темном платье и белом переднике. Обняв рукой Танкреда, припавшего кудрявой головой к ее груди, она что-то тихо говорила ему, видимо, стараясь его успокоить.
Заметив посетителя, поклонившегося ей, госпожа Линднер протянула ему руку и приветливо спросила:
– Вы пришли, вероятно, за вашим маленьким беглецом?
– Да, сударыня. Но если позволите, я отдохну у вас немного.
Танкред быстро приподнялся и, увидев Готфрида, схватился обеими руками за голову и, топнув ногой, крикнул с комическим отчаянием:
– Даже сюда я не могу убежать, чтобы спастись от тирании. Ах, если бы мама знала, как я несчастлив, как меня мучают, она не отдала бы меня. Я всех ненавижу в замке, и папу и вас, которого он называет своим другом и которому поручил убивать меня.
– Танкред, можно ли так говорить об отце и о своем воспитателе, – перебила его госпожа Линднер.
– О моем тюремщике, о моем палаче! – возразил неукротимый мальчик.
– Замолчи. Я не хочу больше слышать ничего подобного. Ступай играть с Конрадом и с Франсуа. Иди, будь умником. Обещаешь ты мне это?
Танкред медленным шагом направился к своим товарищам.
Готфрид сел на скамейку, с которой госпожа Линднер сняла корзинку с детским бельем и со связкой ключей.
– Трудная ваша обязанность, господин Веренфельс! У Танкреда тяжелый характер, – сказала она, – это несчастный, заброшенный ребенок. Для матери он служил всегда игрушкой, предметом ее фантазий, ее прихотей; а голова француженок, приставленных к нему, была вечно занята интригами. Танкред всегда любил приходить сюда; гувернантки пользовались этим; предоставляя его мне, они свободно занимались своими любовными делами.
– Да, положение ребенка печальное, – сказал Готфрид, снимая шляпу и проводя рукой по волосам, – но нелегкое и для графа. Он, по-видимому, обожает своего сына.
– Конечно. Танкред – живой портрет графини, которую граф боготворил. Надо сказать правду, она такая красавица, что ей нет подобной; но при этом пустая светская женщина. Граф, должно быть, не раз пожалел свою первую жену, кроткую и любящую.
– У графа не было детей от первого брака?
– От покойной графини Хильды остался сын, граф Арно, которому должен быть теперь 21 год; его обширные владения находятся рядом с Рекенштейнскими землями.
– Танкред ничего не говорил мне о своем брате.
– Он никогда его не видел. Все в этой стране знают о семейном несогласии, возникшем вследствие вступления графа во второй брак. Его тесть и теща были тогда еще живы и решительно восстали против этого супружества, но напрасно, свадьба состоялась. Дед и бабушка взяли к себе маленького Арно и воспитывали его в столице. С тех пор он никогда не видел отца, а по смерти графа Арнобургского граф Вилибальд был устранен от опеки, и даже разрыв с графиней Габриелей не привел графа к сближению с сыном.
Приход судьи прервал рассказ Гертруды Линднер. Она пошла в дом, чтобы велеть подать кофе. Разговор мужчин перешел на другие предметы.
Готфрид чувствовал себя так хорошо в этой милой семье и внушил судье и жене его такую симпатию, что когда он стал прощаться, чтобы вернуться в замок со своим чертенком, то должен был дать обещание часто навещать своих новых знакомых.
Молодой человек охотно исполнял свое обещание, а несколько времени спустя дом судьи сделался для него еще более привлекательным. Однажды утром, когда пришел с Танкредом, чтобы взять с собой Конрада и Франсуа и пойти вместе в лес за грибами, Готфрид был очень удивлен, увидав на балконе молодую незнакомку, которая помогала госпоже Линднер заготовлять консервы. Это была девушка лет семнадцати; ее светло-русые волосы и кроткое, милое личико с голубыми, ясными глазами выражало невинность и доброту. Жена судьи представила ее, сказав, что это их племянница Жизель, дочь старшего брата ее мужа, и что она приехала помочь ей по хозяйству. Заметив вскоре, что Жизель была столько же образованна, как и красива, Готфрид все более и более находил удовольствие в ее обществе.
Прошло несколько месяцев; положение Готфрида еще улучшилось; его энергия и деятельность вполне расположили к нему сердце графа. После нескольких бурных сцен, нескольких чувствительных наказаний и сажания на хлеб и воду, Танкред покорился. Хотя неохотно, но все же он повиновался, и спокойный, строгий взгляд наставника имел такую над ним власть, что он не мог противиться ей.
Подчиненный полезному режиму, разумно занятый классным учением и телесными упражнениями, вставая и ложась в определенные часы, мальчик стал красивее и здоровее; бледность сменилась румянцем; он вырос и заметно развился. Готфриду оставалось бороться только с его леностью и затаенной враждой, которую он выказывал при каждом удобном случае.
Граф был в восторге от заметного улучшения в манерах и в физическом состоянии Танкреда и все более и более привязывался к Готфриду, который действительно был его правой рукой, его помощником в делах, его доверенным лицом в полном смысле этого слова.
Готфрид имел основательные сведения обо всем, что касалось управления имением. Он вскоре заметил серьезные беспорядки в пользовании лесом и в эксплуатации паровой мельницы, недавно устроенной. Он счел своей обязанностью сообщить это графу и добросовестно помогать ему вникнуть в злоупотребления и восстановить порядок. Преисполненный благодарности, граф еще более посвятил молодого человека в свои дела, наполовину увеличил его жалованье и объявил ему, что, как только сын его поступит в военное училище, он сделает Готфрида главным управляющим. Веренфельс чувствовал себя спокойным, счастливым и стал мечтать о будущем. Он заметил, что Жизель чувствовала к нему более чем простое расположение; и сам он привязался к этой милой девушке. Готфрид говорил себе, что, сделавшись главным управляющим, он будет в состоянии вновь обзавестись хозяйством. Жизель, простая, деятельная и хорошая хозяйка, может быть именно такой женой, какая ему нужна, преданной дочерью его старой матери, а для маленькой Лилии матерью и наставницей. Но несчастье научило его быть осторожным, и он не позволил себе пробудить в сердце Жизели надежд, которые вследствие каких-нибудь обстоятельств могли не сбыться. Он положил не приступать к решительному объяснению, пока его судьба не будет окончательно обеспечена.
Веренфельс вошел однажды утром в кабинет графа, чтобы дать ему подписать некоторые деловые письма; он нашел его сидящим у окна, с письмом в руках и всецело поглощенным своими мыслями.
Готфрид положил бумаги на стол и хотел молча уйти, но граф поднял голову и позвал его.
– Я получил сейчас известие, которое радует и удивляет меня, но вместе с тем оно вызвало во мне так много воспоминаний.
Граф медленно сложил большой лист, украшенный гербом.
– Мой сын Арно, – продолжал он, – пишет мне самым миролюбивым образом, сообщает, что скоро приедет ко мне, и просит забыть все, что так напрасно разделяло нас.
– Верьте, граф, я искренно счастлив, что сгладилось недоразумение, которое должно было так тяготить ваше отцовское сердце.
Голос и взгляд молодого человека выражали самое сердечное участие.
– Благодарю вас, Веренфельс. Садитесь, и побеседуем немного. Я не люблю говорить об этом печальном прошлом; но питая к вам особое уважение и дружбу, расскажу в коротких словах все, что произошло. Чтобы вы лучше меня поняли, я должен обратиться к тому времени нашей фамильной истории, когда в XIV веке род наш разделился на две ветви. Старшая ветвь, вследствие брака своего представителя с богатой наследницей из одного высокого рода, стала именоваться Рекенштейн Арнобург, а младшая, которой принадлежит замок, где мы находимся, приняла имя Рекенштейн – Рекенштейн. С течением веков многочисленные несогласия разделили эти две ветви, и старшая окончательно обрела фамилию Арнобург. Но в наше время от древнего рода оставалось два представителя – я и Хильда, единственная дочь графа Арнобург. Было решено соединить нас браком и при этом постановлено, чтобы наш старший сын назывался графом Рекенштейном, а второй носил бы и увековечил фамилию своей матери, унаследовав замок и большую часть владений, прилегающих к нему.
Брак мой с Хильдой, хотя и вызванный семейными соображениями, был самый счастливый, и лишиться жены, после десятилетнего супружества, было большим для меня несчастьем. Она оставила мне единственного сына – Арно.
Здесь я должен сказать, что во время моего пребывания в столице, где я служил в кирасирах, я подружился с молодым офицером, графом Девеляром, человеком весьма симпатичным, но легко увлекающимся. Несчастная страсть испортила ему карьеру. Он влюбился в молодую актрису, прекрасную как ангел, и женился на ней. Эта выходка лишила его службы и большого майората, который перешел к его двоюродному брату. Он вышел в отставку, и я потерял его из виду. Через два года, после смерти моей жены, я неожиданно получил письмо от Девеляра, в котором он писал, что, будучи несчастлив в супружестве, жил в провинции, обходясь кое-как малым остатком своего состояния. Чувствуя приближение смерти, он умолял меня взять на себя опеку над его единственным ребенком, пятнадцатилетней девочкой, находящейся в пансионе.
Я поспешил к нему, поклялся заботиться о его дочери и закрыл ему глаза. Затем я поехал навестить мою воспитанницу. Это свидание решило мою судьбу. Габриела была красива, как ее мать; я полюбил ее и решился жениться на ней.
Это намерение вызывало сильное неудовольствие в моей семье. Мне не могли простить, что я позабыл Хильду и даю мачеху своему сыну. Случайная встреча внушила моей теще сильную ненависть к Габриеле. У меня почти силой отняли Арно. Рождение Танкреда подняло настоящий ураган. Мысль, что сын ненавистной женщины будет носить имя Арнобурга, страшно возмутила мою тещу. Арно воспитывался в Берлине, во враждебном мне духе, назывался Арнобургом, стал моряком, чтобы быть дальше от меня, и после смерти деда и бабушки жил в Швеции у тетки. Теперь ему исполнился 21 год, и он должен приехать, чтобы вступить во владение своими землями. Я не рассчитывал увидеть его, так как он никогда не сделал ни одного шага к сближению. Его неожиданное письмо доставило мне большую радость. Я жажду обнять его и надеюсь, что он будет другом Танкреду, когда меня не станет.
Позвоните, пожалуйста, мой друг, чтобы мне позвали управляющего. Надо приготовить комнаты для блудного сына, который, впрочем, богаче меня. Танкред будет беден в сравнении с братом.
Арно и его мачеха
Две недели спустя граф получил телеграмму, которая сильно его взволновала.
– Арно извещает меня, – сказал он Готфриду, – что завтра в 9 часов утра он будет на станции. Я прошу вас, мой милый Веренфельс, поехать с Танкредом встретить его. Я положительно не могу свидеться с моим сыном в толпе посторонних людей. Но он будет рад увидеть своего маленького брата и вас, о котором я не раз писал ему.
Танкред, сияющий от удовольствия, что едет встречать незнакомого ему брата, поднялся чуть свет и успокоился лишь тогда, когда сел в карету. Не менее нетерпелив и еще более счастлив был Антуан, старый охотник графа, служивший тридцать лет в Рекенштейне.
Когда поезд остановился, Готфрид, взяв за руку своего воспитанника, пошел с ним вдоль вагонов, стараясь угадать в массе пассажиров того, кого они ожидали. Вдруг он увидел, что Антуан, опередивший его, со слезами радости целует руку высокого молодого человека, выходящего из купе 1-го класса. Но и без этого указания Веренфельс узнал бы Арно по сильному сходству с отцом. Совершенно таким был изображен граф Вилибальд на большом портрете в год его совершеннолетия. Тот же высокий, гибкий стан, те же темные глаза, добрые и кроткие, те же каштановые волосы и то же аристократическое изящество во всей фигуре.
Поздоровавшись дружески со старым слугой, Арно увидел Танкреда, который бежал к нему с распростертыми объятиями. Молодой граф внезапно побледнел, остановился и провел рукой по лбу, затем, быстро преодолев себя, наклонился к ребенку и несколько раз нежно поцеловал его. Не выпуская руки своего маленького брата, он подошел к Готфриду и поздоровался с ним с самой дружеской приветливостью.
– Мой отец, – сказал он, – писал мне, как много мы вам обязаны, господин Веренфельс, и я питаю к вам живейшую симпатию. Надеюсь, что мы будем весело проводить время в Рекенштейне. Я столько лет был в разлуке с отцом, что теперь должен усердно и возможно дольше ухаживать за ним.
Сперва Танкред овладел полностью своим братом: не переставал болтать и задавать ему вопросы. Тот не успевал отвечать и всматривался в него как-то особенно вдумчиво и нежно. Но утомленный дорогой и впечатлениями, Танкред прислонился к подушкам кареты и со свойственной детям способностью везде приловчиться уснул глубоким сном.
Готфрид прикрыл его пледом, и, когда вернулся на свое место, Арно сказал ему:
– Мой отец писал мне, сколько терпения и труда стоило вам дисциплинировать Танкреда. Я положительно не могу понять, от кого у него такой тяжелый характер.
– Это умный и богато одаренный ребенок, но ленивый, дерзкий и чрезвычайно капризный; мать избаловала его.
– Мать избаловала? – повторил Арно с удивлением и сильно краснея. – Поверьте, господин Веренфельс, что это неправда. Быть может, она была недостаточно требовательна к нему, как женщина слишком молодая для того, чтобы быть разумной матерью. По моему мнению, отцу не следовало соглашаться на разлуку с женой и с сыном. Но я должен вам сказать, что чем больше я гляжу на Танкреда, тем более поражаюсь его удивительным сходством с матерью. Это одно лицо.
– Разве вы знаете графиню? – спросил с удивлением Готфрид. – Я полагал, что вы никогда ее не видали.
– Я неожиданно встретился с ней в Париже, где провел три последних месяца. Мы обоюдно были поражены, узнав, что мы такие близкие родственники; и, увидев мою мачеху, я понял, почему отец полюбил ее.
Несколько принужденная улыбка скользнула по губам Арно, и мимолетный румянец промелькнул на его свежем лице.
– Лишь моя детская неопытность могла заставить меня недоброжелательно отнестись к вполне законному поступку.
Ах, я многое должен загладить перед отцом. Но скажите, господин Веренфельс, действительно ли здоровье его так плохо, как он мне писал?
– Граф чувствует себя дурно, и апатия, овладевшая им, старит его преждевременно.
– Все изменится. Отец будет снова счастлив. А… вот и Рекенштейн! – вскрикнул Арно. Глаза его блестели и, опус тив окно, он с жадностью всматривался во все окружающее.
Свидание отца с сыном сильно взволновало обоих. Долго они сжимали друг друга в объятиях, и граф не мог насмотреться на молодого человека, так живо напоминавшего ему собственную молодость, а также и добрую, любящую женщину, с которой он был так счастлив.
Арно поразила перемена, происшедшая в графе, и его болезненный вид. Со слезами на глазах он взял его руку и прижал к своим губам.
– Прости мне, отец, горе, которое я тебе причинил в моем неведении жизни. Теперь ты будешь иметь вдвойне преданного тебе сына.
Молодой человек сдержал слово. С настойчивостью и любовью он вырвал отца из апатии, изводившей его, приучил к продолжительным прогулкам пешком и верхом, возил его к соседям, приглашал их к нему; словом, так хорошо вел дело, что через два месяца граф Вилибальд сделался неузнаваем. Сгорбленный стан выпрямлялся, болезненная бледность сменялась свежестью лица, и его темные глаза приобретали прежний блеск. Граф сам не узнавал себя и называл Арно чародеем.
Была половина мая. Арно находился в отсутствии по случаю вступления во владение наследством. Вернувшись верхом из Арнобурга, он прошел к отцу. Граф Вилибальд, возвратясь с прогулки, курил у себя в комнате, читая журнал. Сообщив все подробности своей поездки, молодой граф вдруг прервал разговор и сказал с волнением:
– Папа, мне надо передать тебе письмо, ответ на которое ожидается с мучительным нетерпением.
– О каком письме ты говоришь? Это возбуждает мое любопытство.
Слегка дрожащей рукой Арно вынул из кармана портмоне, достал из него надушенный конверт, запечатанный гербовой печатью, и подал его отцу.
Граф мгновенно побледнел, и его протянутая рука опустилась.
– Что это значит? Откуда у тебя письмо Габриелы? Я узнаю ее почерк, – проговорил он, тяжело дыша.
– Она сама дала мне его для передачи тебе.
– Так ты видел ее? Но где же?
– Этой зимой в Париже, – отвечал Арно с некоторым замешательством. – Мы неожиданно встретились. Но потом я с ней говорил и увидел, что ее раскаяние так глубоко, ее любовь к тебе так искренна, что я счел своей обязанностью взять это письмо.
– Ее любовь ко мне! – повторил граф с едкой иронией. – Какую ложь рассказала тебе эта вероломная женщина, изменившая мне и покинувшая меня?
Лицо молодого графа вспыхнуло, и неуверенным голосом он возразил:
– Не слишком ли ты строг, отец, клеймя таким суровым словом неосторожность неопытной молодой женщины. Габриела действительно оскорбила тебя своим легкомысленным кокетством, но я не считаю ее способной на бесчестный поступок. И мне кажется, что во всяком случае тебе следовало бы прочитать ее письмо.
Он вложил конверт в руку отца, а сам из скромности отошел к окну. Граф колебался еще с минуту, его нервно дрожащие руки как бы отказывались открыть письмо. Воспоминание всего, что эта женщина заставила его выстрадать и что разлучило их, жгло его. Наконец, с внезапной решимостью он сломал печать.
– Арно! – произнес он минуту спустя.
Молодой граф, стоявший прислонясь к стеклу и погруженный в свои думы, поспешно подошел, стараясь угадать на взволнованном лице отца его решение.
– Возьми и прочитай; потом дай мне совет, ты теперь зрелый человек, – сказал граф, подавая ему письмо, которое Арно взял с некоторым смущением.
Волнуемый противоречивыми чувствами, он погрузился в чтение послания Габриелы к оскорбленному супругу. Оно было очень хорошо написано, исполнено любви, смирения и раскаяния:
«Прости мне горе, которое я тебе причинила своей преступной ветреностью, – писала она между прочим. – Позволь мне вернуться, чтобы ухаживать за тобой и загладить мои заблуждения. Не будь жесток, Вилибальд, ведь ты же любил меня. Ужели это чувство умерло в тебе и ты останешься глух к моей мольбе? Если б ты знал, как я чувст вую себя одинокой! Как я жажду соединиться с тобой и с моими детьми, моими сыновьями, так как Арно овладел моим сердцем, благодаря своей доброте и великодушию. Он вполне сын твой по сердцу. Когда я его увидела, то поняла, что тебе, единственной и первой любви моей непорочной молодости, принадлежит мое сердце, несмотря на ошибки и увлечения, омрачившие это чувство». В заключение она говорила, с каким нетерпением и с каким мучительным беспокойством ожидает решения своей судьбы: помилования или приговора.
С пылающей головой и тяжело дыша, Арно положил письмо на стол. Множество бурных чувств толпилось в его мозгу. Так это он пробудил в сердце Габриелы уснувшую любовь. Она еще любила его отца, она желала возвратиться в его объятия, приобрести его любовь. Теплая грусть сжала сердце молодого человека при воспоминании об очаровательной женщине, которую граф так безумно любил и ревновал. О, теперь он понимал это чувство. Но его душевное волнение было непродолжительно. Честная, великодушная натура Арно подсказала ему, что сделать: его долг водворить мир в семье. Счастье отца и Габриелы должно быть его счастьем.
– Я думаю, отец, что прощать есть долг христианина, – сказал он с блестящим взглядом, – и что эта молодая женщина слишком долго оставалась одинокой, предоставленной искушениям и опасностям. Место Габриелы под кровом ее мужа, рядом с ее ребенком. Не отталкивай ее!
Со слезами на глазах граф привлек Арно к себе на грудь и долго не выпускал его из своих объятий.
– Ты гений мира, как твоя кроткая, святая мать, – сказал он. – Габриела вверила свою защиту в хорошие руки. О, дай бог, чтобы ее раскаяние было искренно и ее возвращение принесло нам счастье, как ты надеешься. Я напишу ей, что если она желает, то может возвратиться. Теперь же, когда этот вопрос решен, расскажи мне, дитя мое, где и как вы с ней встретились?
– Я приехал в Париж в начале января. У меня было письмо от тетушки к ее внуку Магнусу, очень милому молодому человеку, состоящему при шведском посольстве. Он знакомил меня с прекрасной столицей. Я просил представить меня в семейные дома. Магнус сказал, что скоро в одном салоне высшего финансового мира будет большой костюмированный бал, где соберется избранное общество; он обещал устроить мне приглашение, чтобы доставить возможность сделать выбор семейств, с которыми я пожелаю познакомиться. Мы приехали на этот вечер оба костюмированные. Сначала я был поглощен феерической рос кошью убранства, богатством и вкусом костюмов; но когда это первое любопытство было удовлетворено, мне захотелось познакомиться с кем-нибудь. Я заметил в толпе белое домино, которое тотчас овладело всем моим вниманием. Надо тебе сказать, что я чрезвычайно люблю красивые руки; рука домино небрежно играла веером, и белая перчатка этой маленькой, как бы детской ручки обрисовывала такую изящную форму, что я не мог отвести от нее глаз. Под атласным полузакрытым плащом виднелся костюм королевы Марго, тоже белый и весьма богатый. Я не отставал от незнакомки; она прошла в зимний сад, где в эту минуту никого не было, кроме черного домино, поза и уединение которого выражали полнейшую скуку. «Тетя Люси, – сказала она, садясь возле этой печальной фигуры, – можно ли скучать на таком прелестном вечере. Я пришла сюда освежиться, ускользнула от толстого барона и сниму маску». Она сняла ее и отерла платком разгоревшееся лицо. Скрытый деревьями, я глядел на нее и думал, что вижу восемнадцатилетнюю девушку пленительной красоты. И когда она вернулась в большой зал, я подошел к ней, напевая: «Рlus Ыапсhе quе 1а Ыапсhе hегminе…» (Песнь Рауля в «Гугенотах».) «Ты ошибаешься, красавец Рауль, я только наружно бела», – ответила незнакомка. – «Кажется, ты хочешь запугать меня, – сказал я на это, – уверить меня, что сердце твое черно, как твои черные локоны». Она рассмеялась: «Ты, может быть, прав, и я начинаю думать, что ты меня знаешь». Я подал ей руку, и мы, весело разговаривая, вмешались в толпу. Наконец, она попросила меня отвести ее в зимний сад, к ее старой родственнице; сказала, что умирает от жары, сняла маску и предложила мне последовать ее примеру. Чтоб положить конец нашему обоюдному инкогнито, я поспешно повиновался, но едва она услышала мою фамилию и взглянула мне в лицо, как вскрикнула и опустилась на подушки, бледная как смерть. «Что с вами? – спросил я с испугом. – Я не могу предположить, чтобы мое имя или мое лицо могли причинить вам столько страдания». Она приподнялась и, со странным выражением устремив на меня свой взгляд, проговорила: «Я не была готова найти в вас… моего сына; я Габриела, графиня Рекенштейн».
Эти слова поразили меня как громом. В голове моей, как ураган, бушевала мысль, что эта женщина, имеющая вид восемнадцатилетней девочки, была моя мачеха, которая стоила тебе дуэли и оскорбила честь нашего имени. Вероятно, эти мысли отразились на моем лице, так как она сказала с горечью: «Вы меня ненавидите и осуждаете по внешним данным, как сделал ваш дед. Вы не можете простить вашему отцу, что он дал мне свое имя». – «Мне достаточно было вас увидеть, чтобы понять чувства моего отца и извинить их!» – промолвил я. Она протянула мне руку и сказала со слезами на глазах: «Если ваши слова искренни, то навестите меня, Арно, мне нужно поговорить с вами».
Немного остается прибавить к сказанному. Я был у нее и убедился, что ее раскаяние в прошлом искренно, что она любит тебя и жаждет твоего прощения. Я обещал ей примирить ее с тобой и всеми силами стараться снова соединить вас.
– Рука Провидения устроила эту странную случайность, – сказал Вилибальд, сжимая руку сына.
С этого дня все зашевелилось в замке. Граф, видимо, стал находить интерес к жизни, и, судя по приготовлениям, которые производились в комнатах графини, заметно было, что любовь к красавице жене глубоко таилась в сердце мужа. Он написал ей письмо и получил ответ, преисполненный радости и благодарности. Габриела извещала, что тотчас приведет в порядок свои дела в Париже и недели через три прибудет в Рекенштейн.
Один Готфрид, услышав о возвращении графини, ощутил неудовольствие и досаду, похожие на отвращение. Не умея объяснить себе такую странность, он решил избегать этой женщины насколько возможно. Ему казалось, что прибытие ее предвещало ему нечто дурное. Вскоре он заметил, что, несмотря на беззаботный вид и наружную веселость, Арно находился в каком-то лихорадочном раздражении, в какой-то тревоге, которая не давала ему покоя. Готфрид искренно привязался к симпатичному молодому человеку, и мучительное опасение теснило ему грудь. А вдруг Габриела настолько суетна, думал он, что станет играть чувствами пасынка неведомо для него самого. Какое печальное и трагическое усложнение готовится тогда в будущем?
Танкред, напротив, утопал в блаженстве. Он был уверен, что приезд матери положит конец насильственным занятиям и всяким наказаниям. Зная ее слепое к нему поклонение, мальчик не сомневался, что она отстранит от него все, что ему неприятно.
Канун дня, назначенного для приезда графини, прошел в лихорадочной деятельности. В ее комнатах производились окончательные приготовления. Экзотические растения преобразили ее террасу в душистую рощу, и граф с помощью Арно украсил туалетный столик и будуар множеством дорогих безделушек.
Было начало июня; погода стояла прекрасная, душно-жаркая. Но к вечеру небо заволокло тучами, и разразилась сильная гроза.
– Как это некстати, – сказал граф, глядя, как деревья гнулись от ветра и ливень наводнял аллеи. – Этот непрошеный дождь повредил цветы, и Габриела увидит их совсем погибшими. Надеюсь, что это не дурное предзнаменование, – присовокупил он, и лицо его мгновенно омрачилось.
Уложив спать Танкреда, Веренфельс ушел к себе в комнату и сел у окна. Небо было беззвездно и черно, дождь не переставал лить, и гром все еще гремел в отдалении. Какое-то беспокойство, какая-то неопределенная тоска охватили его душу. Ему казалось, что настал конец его спокойной жизни и скромным надеждам, которые подал ему Рекенштейн; что с завтрашнего дня начнется нечто новое и тяжелое – томительная борьба между слабой, капризной матерью и его строгостью, которую он считал своим долгом.
Печальный и расстроенный он лег в постель, но страшный сон преследовал его всю ночь. Ему снилось, что какая-то посторонняя сила, против его воли, с ошеломляющей быстротой влекла его к сероватому облаку; но по мере его приближения это облако обращалось в готический замок с почерневшими стенами, увенчанными зубчатыми башнями и башенками с резными балконами. Окна, одни с остроконечными сводами, другие с широкими рамами, перемешивались на стене фасада. Главный подъезд, мрачный, украшенный гербом, вел внутрь крепости. К своему удивлению, Готфрид узнал в этом призрачном здании замок Арнобург.
Вдруг черная туча вырвалась, кружась, из одной башни и охватила его удушливым дымом. Стараясь выбиться из него, он увидел женщину, которая, протянув руки, загораживала ему путь. Она мелькала перед ним в длинной белой одежде, ее черные, распущенные волосы, как покрывало, окружали ее. У нее было лицо Танкреда; ее глаза, синие, как васильки, но сверкающие и резкие, как клинок из стали, казалось, пронизывали его.
Готфрид хотел отступить, но соблазнительное и страшное существо настигло его, прильнуло к нему и, как змея обвив его шею, сжимало ее, подобно железным тискам. Напрасно он вырывался, со стесненным сердцем трепеща от любви и ненависти. Призрак увлекал его и топтал кого-то ногами, слышались чьи-то мучительные стоны. Веренфельс в ужасе повернул голову и заметил распростертых на земле графа и Жизель, лишенных чувств, с печатью смерти на лицах. Несколько далее Арно, с взволнованным видом и раной в груди, растворялся в пространстве. Обезумев, выйдя из себя, Готфрид отчаянным усилием вырвался из этих объятий, гибких, но цепких, как объятия гада.
«Оставь меня, я не хочу тебя!» – кричал он в сильном раздражении. На минуту видение опустилось перед ним на колени как бы с мольбой; но когда он оттолкнул обольстительницу, она встала с угрожающим видом; сверкнув глазами и прошипев что-то сквозь зубы, подняла руку и ударила его в лицо с такой силой, что он потерял равновесие и скатился в пропасть. Разбитый и истерзанный, он встал наконец и увидел, что находится в комнате с железной решеткой; запертая дверь не поддавалась его усилиям. Он был в тюрьме, и едва осознал это, как раздался насмешливый хохот и сильный удар потряс стены. Дрожа, покрытый холодным потом, Готфрид приподнялся на постели и прошептал: «Слава богу, что это сон». Он объяснил свой кошмар влиянием грозы. Действительно, стихия бушевала с новой, необычайной силой, молнии освещали комнату мрачным светом, раскаты грома повторялись непрерывно, потрясая стены, и дождь, смешанный с градом, ударял в стекла. «Вот что действительно похоже на зловещее предзнаменование», – сказал себе молодой человек.
К утру погода прояснилась, и радостные лучи солнца беззаботно осветили пространство.
Когда все собрались к завтраку, граф был бледен и жаловался на нервную головную боль. Гроза мешала ему спать, а когда он задремал на минуту, молния ударила в старый дуб под его окном. Он проснулся со страшной мигренью.
– У меня к вам просьба, Веренфельс, – сказал он, когда встали из-за стола. – Уже многие являлись с рапортом о повреждениях, причиненных ураганом в лесах и на паровой мельнице. Мне трудно поехать осмотреть все это сегодня; съездите вместо меня и отдайте необходимые на первый случай распоряжения.
Молодой человек согласился с тайной радостью. Он был счастлив, что не увидит прибытия Габриелы, и решил употребить на осмотр весь день, отужинать у судьи и возвратиться лишь ночью, полагая, что его присутствие было бы излишним на семейном торжестве.
Когда он ушел, граф обратился к сыну:
– Арно, ты поедешь с Танкредом встречать Габриелу. Я не смогу с моей мигренью провести три часа в карете. К тому же надо велеть исправить бьющие в глаза последствия грозы, которые могут произвести неприятное впечатление на нашу гостью.
По отъезде братьев, граф пошел в комнаты Габриелы и сам проследил за сменой сломанных растений на террасе, велел срубить в парке несколько деревьев, сильно поврежденных ураганом. Затем, приказав вовремя доложить ему о приезде графини, пошел к себе в кабинет переодеться.
Давно граф так внимательно не занимался своим туалетом; окончив его, он отослал камердинера и остановился в задумчивости перед большим зеркалом своей уборной. Пытливым взглядом, как будто видел перед собой постороннего, он всматривался в свое изображение. Мог ли он еще нравиться обольстительной, капризной женщине, которая говорила, что наружность Арно пробудила в ее сердце любовь к мужу? Если это чувство и было искренно, примирится ли она с переменой, происшедшей за годы их разлуки?
Братьям недолго пришлось ждать на станции. Нетерпение Танкреда было так сильно, что он не мог оставаться спокойным, и едва поезд остановился, как он кинулся к одному из вагонов с криком: «Мама, мама, наконец ты приехала!» Он раньше Арно увидел мать.
Когда Арно подошел к своему маленькому брату, дверь купе отворилась, и из него выпрыгнула молодая женщина, щегольски одетая. Страстным движением она привлекла Танкреда в свои объятия и покрыла его поцелуями, затем протянула руку Арно и сказала с чувством:
– Как я рада видеть вас обоих, но… Вилибальд не приехал? – спросила она, беспокойно оглядывая встречающих.
– У отца была сегодня утром сильная мигрень, затем гроза, разразившаяся нынешней ночью, причинила много вреда, и отец хотел сам присмотреть, чтобы все было исправлено к вашему приезду, – ответил Арно, целуя ее руку.
– Это не серьезное нездоровье? – спросила Габриела, опираясь на руку пасынка и направляясь к экипажу.
– Нет, нет, отец счастлив вашим возвращением, дорогая Габриела, и ваша любовь укрепит окончательно его здо ровье; мы все будем счастливы, а во мне вы найдете самого любящего и самого покорного сына, – заключил он.
Габриела поблагодарила его лишь взглядом.
Как только отъехали несколько, графиня сняла шляпу Танкреда, провела рукой по его блестящим кудрям и сказала, целуя его:
– Дай поглядеть на тебя, мой кумир, мой рыцарь Танкред. Право, ты вырос и похорошел на диво, но учишься ли ты тоже чему-нибудь?
– Ах, если бы ты знала все, что я имею тебе рассказать, мама, и как я несчастлив, волосы встали бы дыбом у тебя на голове, – воскликнул мальчик.
– Несчастлив! – повторила смеясь Габриела. – Ты, должно быть, не хочешь заниматься, маленький лентяй.
Я помню, как ты три месяца учил басню «Ворона и лисица».
– Теперь, с приездом моего нового учителя, дело посерь езней басни.
– Перестань, Танкред! – перебил его Арно, которому самому хотелось поговорить с мачехой. – Не успела мама приехать, как ты надоедаешь ей. После будешь иметь время высказать свои жалобы.
И он стал рассказывать ей о своих планах на лето, о сельских праздниках, которыми намеревался развлекать ее, и об ожидаемом приезде двух его друзей, приглашенных им, чтобы увеличить общество.
Габриела весело с ним разговаривала; но когда экипаж приблизился к главному подъезду, она замолчала и вперила взор в высокую фигуру графа, вышедшего на крыльцо. Едва карета остановилась и прежде чем Арно или лакей успели помочь ей выйти, она выпрыгнула на подножку и как птичка вспорхнула на лестницу. Быстро схватила она приветливо протянутую ей руку мужа и прижала ее к губам, не обращая внимания на присутствие всей челяди.
– Прости меня, Вилибальд, не только на словах, но и сердцем, – прошептала она со слезами на глазах.
Граф вздрогнул и хотел отдернуть руку, но взволнованный, побежденный умоляющим выражением прелестного личика, привлек Габриелу в свои объятия и поцеловал ее в лоб, затем подал ей руку и повел в комнаты. Как только они остались одни, молодая женщина, бросив в сторону перчатки и шляпу, привлекла мужа на диван и, припав головой к его плечу, разразилась рыданиями. Было ли то искреннее раскаяние или напряжение нервов – трудно сказать, но этот поток слез испугал графа; ласково и нежно он старался успокоить жену, уверяя, что прошлое сглажено и позабыто.
Мало-помалу графиня успокоилась, и когда муж ушел, уговорив ее отдохнуть до обеда, она отерла последние слезы и с любопытством стала осматривать все сделанные для нее приготовления и сюрпризы. Кончив осмотр, которым осталась вполне довольна, она свернулась клубком на диване и, полузакрыв глаза, с торжествующей улыбкой на устах предалась мечтам.
Габриела не была грубой кокеткой, которая легко увлекается и не дорожит своей честью. От такого унижения ее ограждали гордость и эгоизм. Но крайне пылкая и страстная, она порывисто и всецело отдавалась своим ощущениям, как любовь, так и ненависть, возбужденные в ее сердце, не умирали никогда. Обстоятельства еще более развили в ней некоторые врожденные недостатки. Выйдя замуж в пятнадцать с половиной лет за человека на 23 года старше ее, который боготворил ее и предупреждал все ее капризы, окружал ее роскошью и почетом, она избаловалась, привыкла швыряться деньгами, покорять сердца и не выносить никакого соперничества. Ее дивная красота сделалась ее кумиром; в поклонении самой себе она видела цель своей жизни. Поражать женщин своими туалетами, мужчин своими чарами было единственной ее заботой. Каждый мужчина, который к ней приближался, должен был стать ее рабом; искусным кокетством она его привлекала, очаровывала, но едва победа была одержана, интерес истощался, и взгляд ненасытной сирены искал новой жертвы. Эта опасная игра была началом несогласий графа с женой; напрасно он увещевал и запрещал, ревновал и наблюдал – страсть покорять мужчин, заставлять их трепетать от ее взгляда сделалась потребностью Габриелы. Очередная неосторожность подобного рода с молодым офицером вызвала дуэль и затем разрыв между супругами.
Цирцея
Готфрид весь день производил осмотр. Усталый он приехал к семи часам вечера в дом судьи. Принятый, как всегда, с распростертыми объятиями и окруженный дружеским вниманием Жизели, молодой человек чувствовал себя так хорошо, что вечер прошел с быстротой молнии. Был двенадцатый час, когда они расстались.






