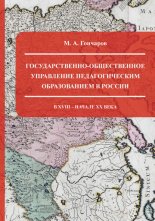Петух в аквариуме – 2, или Как я провел XX век. Новеллы и воспоминания Аринштейн Леонид

Предисловие
Перед нами очередная книга Леонида Матвеевича Аринштейна – автора широко известной, пятикратно изданной «Непричесанной биографии» Пушкина и многих других популярных книг. В данном случае он выступает в жанре мемуаров, продолжая «Новеллы и воспоминания», вышедшие пять лет назад.
Сейчас уже практически невозможно встретить свежие воспоминания, в которых так живо и легко, с такой самоиронией и остроумием рассказывается о повседневной жизни на протяжении почти всего XX века.
Здесь и город Ростов эпохи Кутепова и Деникина – белая столица России, по рассказам родителей автора; и Ашхабад начала 1930-х, когда его населяли англичане, персы и высланные большевиками русские ученые и даже бывшие фрейлины; и Кенигсберг, каким его увидел автор во время штурма в апреле 1945-го…
Те, о ком вспоминает Леонид Матвеевич, – это его фронтовые товарищи: лейтенанты, капитаны и солдаты Второй Мировой; профессора и студенты Ленинградского филфака 1940-х и преподаватели Московского университета 1960-х; научные работники, издатели, академики, маршалы и генералы… Встречаются среди них люди весьма известные, такие, как академик М. П. Алексеев или маршал П. Ф. Жигарев, о которых написано немало. Но ни в изданных трудах, ни на просторах интернета вы не найдете того, что рассказывает о них автор этой книги. Вот лишь один пример – герой публикаций и фильмов Н. Д. Скорняков, советский разведчик, работавший в 1939–1941 гг. в Берлине. В статьях о нем в интернете говорится, что после войны следы его теряются… На самом деле он продолжал военную службу вплоть до конца 1960-х. В те годы он был дружен с Леонидом Матвеевичем, рассказывал ему многие любопытные вещи и, в частности, подробно пересказал свои беседы с Герингом в Берлине и со Сталиным в Москве… Рассказам Скорнякова автор посвятил отдельную главу книги.
В других главах – также много такого, о чем нигде больше не прочтешь: живые детали из жизни Военной академии ПВО и Пушкинского Дома Академии наук, поучительные истории эпохи «железного занавеса», эпиграммы – очень остроумные, но не всегда печатные – на советских писателей, шутки и анекдоты…
Трудно даже перечислить все занимательные стороны этих воспоминаний. Каждый читатель обязательно найдет здесь для себя что-то новое и неожиданно-интересное.
Ирина Юрьева
От автора
Первое издание этой книги вышло в конце 2008 года. Во вступительной заметке я тогда писал:
«Книга производит впечатление пестрого собрания разрозненных рассказов. В действительности, это целостное произведение: автобиографическое повествование в разных жанрах и в разной стилистической манере. К тому же написанное в разное время и записанное на разных носителях.
Первый цикл новелл – «Ашхабад» – написан недавно, осенью 2007 года… Цикл «Фронт» – это то, что я вообще никогда не писал, а по разным поводам рассказывал в кругу друзей, а также теле- и радиожурналистам между 1999 и 2004 годом. Часть того, что я говорил, записана на аудиопленку. Расшифровки этих записей – упорядоченные, уточненные, сильно сокращенные – и составляют цикл «Фронт». Стилистика разговорной речи при этом по возможности сохранена. Собственные имена здесь также подлинные.
Самый ранний пласт в книге – повесть «Где растет трын-трава»… Ранняя редакция была написана очень давно, еще в 1951 году, и представляла собой обработку моих записей о гонениях на профессоров Ленинградского университета. Писал я исключительно для себя, не только не помышляя о публикации, но всячески стараясь скрыть свою рукопись и относящиеся к ней документы от посторонних глаз. Я забыл, куда их запрятал, и очень удивился, когда через семнадцать лет в 1968 году обнаружил всё это заклеенным между двумя днищами картонного ящика. Я с интересом прочел рукопись и тут же стал ее переделывать: дополнил двумя или тремя вымышленными персонажами, заменил некоторые подлинные имена на выдуманные и т. д. И опять отложил… Вернулся я к ней еще почти через двадцать лет – в 1987 году. Снова переделал, убрал длинноты и даже хотел напечатать в журнале, но какие-то дела, работа над другими книгами опять отвлекли меня, и рукопись пролежала еще двадцать лет.
Для этого издания я ее не переделывал, только сократил немного…
В работе над книгой я не пользовался ни историческими трудами, ни мемуарной литературой, ни архивными документами. Писал только то, чему был свидетель сам, или то, что слышал в свое время от участников событий, которым у меня были основания доверять…»
В этом издании я добавил несколько новых разделов и глав. Во-первых, две главы, относящиеся к периоду моей работы в Военной академии. Далее – две новые части: «Московский университет» и «Пушкинский Дом».
Таким образом, повествование приобрело целостный завершенный характер и по существу доведено до середины 1980-х годов.
Январь 2013 г. Л. М. Аринштейн
Ашхабад
Пародия А. Измайлова
- Я плавал по Нилу,
- Я видел Ирбит…
- Верзилу Вавилу
- бревном придавило,
- Вавила у виллы лежит…
В Ашхабад мы приехали в самом конце 1934 года. Отца туда приглашали давно – возглавить физиотерапевтическое отделение только что открывшегося туркменского гос. института физиатрии и неврологии. Отец колебался, но события 1 декабря – убийство Кирова – подстегнули его решение. Отец хорошо понимал, что значило это убийство и что с его прошлым лучше отправиться куда-нибудь подальше.
Через неделю мы были уже в пути.
Ашхабад оказался очень занятным городом. Это был не привычный мне диковинный мир. По улицам торжественно, словно в медленном танце, вышагивали гигантские одногорбые верблюды (на картинках прежде я видел только двугорбых и помельче). Рядом шли туркмены в живописных темно-малиновых халатах и огромных бараньих папахах величиной с целого барана, туркменки в удивительных тюрбанах, с ожерельями из сотен мелких серебряных монет.
Почти весь город состоял из одноэтажных глинобитных домиков с обширными двориками, огражденными высокими глиняными стенами – дувалами. Жили в них не столько туркмены, сколько иранцы, тогда их еще называли персами. К переименованию Персии в Иран в то время относились довольно иронично. Был даже анекдот, как ящик с персиками переименовали в ящик с «иранчиками».
В центре Ашхабада был большой базар, на него приезжали туркмены из окрестных кишлаков. Как-то в наши первые дни в Ашхабаде мама взяла меня с собой на базар. Высокий туркмен продавал уже не помню что, наверное, сухофрукты и просил не очень высокую цену, скажем, три рубля; а мама по ростовской привычке сказала: «Давай за два!» Туркмен ответил: «Если тебе это дорого, если у тебя нет денег – возьми так». После этого мама на туркменских базарах не торговалась.
К моему удивлению, по центру Ашхабада проезжали машины – грузовики, во много раз более качественные, чем те, что мне доводилось видеть в Москве, Ленинграде или Ростове. Дело в том, что там проходил Гауданский тракт, а Ашхабад был, оказывается, своего рода зоной открытой торговли. Через него шла торговля с Ираном, и тем самым с Ближним Востоком, и с Европой. В Иране того времени жило много английских предпринимателей. Мне было всего девять лет, я мало что смыслил в свободной торговле и т. п., но видел, как эти грузовики останавливались в определенном месте в центре города, и там шел и меновой торг, и на деньги. Я тогда впервые увидел иностранную валюту – персидские туманы. У меня даже каким-то образом завелось две или три таких монетки, и я все хотел на них купить что-нибудь эдакое, подумывал даже об автомобиле. Но скоро понял, что на мои три тумана автомобиль не купишь.
Гаррис
Первые несколько месяцев в Ашхабаде мы жили в доме англичанина по фамилии Гаррис. Англичанин был худой, сухопарый, длинный, в клетчатом свитере, тяжелых горных ботинках и в клетчатых шерстяных гетрах – точь-в-точь как на картинках в книге «Трое в одной лодке». Там долговязого суопарого англичанина тоже звали Гаррис. Это сходство меня поразило. Я сразу же понял, что этот человек и есть тот, кого описывал Джером К. Джером, но полной уверенности в этом у меня не было, а спрашивать у родителей было как-то неудобно.
Я смотрел на Гарриса с открытым ртом и все ждал, когда появится собачка Монморанси. Собачка не появлялась. Между тем разговор Гарриса и родителей явно не клеился. Гаррис не знал ни слова по-русски, отец пробовал заговорить с ним по-немецки, мама – по-французски, но этих языков он тоже не знал. Меня два года учили английскому языку, и родители посмотрели на меня с некоторой надеждой. Но от удивления и смущения и вообще от перспективы заговорить с живым персонажем знаменитого английского романа у меня совершенно отсох язык, и я не смог бы связать двух слов даже по-русски.
По счастью, вошел пожилой иранец, живший в соседнем дворике. Он оказался истинным домохозяином – Гаррис у него лишь арендовал этот дом или полдома. Иранец отлично говорил по-русски, а Гаррис, как выяснилось, помимо родного английского все-таки знал еще и фарси (персидский). Так с помощью персидского языка удалось провести переговоры русских пришельцев с местным англичанином. Англичанин сдал нам большую, метров около сорока, комнату, а примыкающую к ней маленькую наполнил своими вещами и запер на замок, объявив, что он уезжает на три месяца куда-то в Афганистан, а потом вернется, заберет оставленные вещи и уедет к себе в Англию. Срок аренды дома кончится у него только через полгода, и он отдает нам свои апартаменты на все это время бесплатно из симпатии к России, о которой он много слышал, но никогда в ней не был. После этого он взял свой довольно объемный саквояж и стал прощаться.
Я за время всех этих русско-персидско-английских переговоров постепенно оттаял и, прощаясь, рискнул выдавить из себя: «You see, I speak English a little»[1]. Гаррис буквально остолбенел. Думаю, если бы по-английски заговорил стоявший в углу мраморный умывальник, он удивился бы меньше. Затем он от души расхохотался: «Well, but why then were you keeping silence all the time!» – «Can't say…» – «Well, boy, I see you are a true Briton»[2].
Он порылся в своем саквояже, явно намереваясь одарить меня каким-нибудь сувениром, но, не находя ничего подходящего, отпер дверь маленькой комнатки и выкатил оттуда прекрасный футбольный мяч. Потом он уселся в кресло и попросил иранца перевести моим родителям подходящий, как ему казалось, случаю анекдот. Анекдот был о том, как какие-то путешественники потерпели кораблекрушение, спаслись на лодке и, когда у них кончилась еда, стали по жребию поедать друг друга. Наконец осталось двое: англичанин и швед – жребий быть съеденным пал на англичанина, швед уже приготовился его убить, когда англичанин сказал: «Послушай, зачем это? Здесь под моим сиденьем вдоволь консервов». – «Так что же ты все это время молчал!» – возмутился швед. – «Терпеть не могу консервы!» Я не понял тогда ни связи этого анекдота с происходящим, ни самого анекдота. Консервы в то время были большим деликатесом.
Гаррис действительно месяца через три вернулся, забрал свои вещи и отбыл на родину. Больше я его никогда не видел. А мы прожили в этом доме еще несколько месяцев и перебрались в плохонькую квартиру во дворе института, в котором работал отец.
Институт физиатрии
Институт занимал целый квартал. Фасадом он выходил на Михайловскую улицу, а задними дворами – на Константиновскую. Эти названия были реликтами памятного комплекса в честь царствовавшей фамилии. Центральная городская площадь называлась Александровской, от нее в сторону института шел широкий проспект, обсаженный деревьями и застроенный богатыми особняками, – Николаевский, а две прилегающие к нему со стороны гор улицы получили название в честь Великих Князей Михаила и Константина. В советское время Александровская площадь стала площадью Карла Маркса, Николаевский проспект – проспектом Карла Либкнехта, а Михайловскую и Константиновскую оставили как есть, вероятно, по незнанию отечественной истории.
Любопытно, что много лет спустя редактор издательства Академии наук в Ленинграде повел себя точно так же, как городские власти в Ашхабаде: он упорно искоренял в словах «Царь», «Государь», «Император» заглавные буквы, меняя на строчные, но в слове «Великий князь» сохранял заглавную.
Институт, как я уже упоминал, назывался Институтом физиатрии и неврологии, но работавшие в нем врачи делились не на физиотерапевтов и невропатологов, а по совершенно другому принципу: на тех, кто приехал по своей воле – за высоким заработком, за престижной должностью, за интересной работой; и тех, кого сюда выслали. Люди эти были чрезвычайно интересны. Благодаря им мне стало открываться (разумеется, далеко не сразу) многое в политической истории моей страны.
Минье Ильич Шапкайц, хирург, и его супруга, г-жа Крель, бывшая фрейлина Императрицы Александры Федоровны. Благодаря им я узнал тогда о расстреле Царской семьи. Нет, ни Минье Ильич, ни его супруга со мной об этом не говорили. Вообще это была запретная тогда тема. Но стоило отцу заговорить о Шапкайце или Крель с кем-то из своих знакомых, как разговор неминуемо соскальзывал на эту тему. Отец не был монархистом, но был человеком честным и справедливым и об убийстве Царя и его детей говорил с отвращением, как о гнуснейшем преступлении.
Видимо, то, что я слышал тогда двенадцатилетним мальчиком, крепко засело в моих извилинах, потому что когда в 1951 году я попал в Свердловск, то в первые же дни побывал в Ипатьевском доме.
В Свердловске я работал в Институте иностранных языков – преподавал историю английского языка. В те годы в обязанности преподавателей входила так называемая «общественно-воспитательная работа» со студентами – то есть что-то им показывать, рассказывать, куда-то водить. Я и водил их по примечательным местам Свердловска: в дом-музей писателя Бажова, в дом, связанный с работой Мамина-Сибиряка над «Приваловскими миллионами», в Ипатьевский дом, где довольно подробно рассказал о разыгравшейся в 1918 году трагедии. Знал я об этом к тому времени немало, причем не только от отца, деда и матери, но и от свердловских старожилов. Рассказ, видимо, был впечатляющий: как потом выяснилось, мои студенты все это взахлеб пересказывали своим родителям, друзьям и знакомым.
Кончилось все это грандиозным скандалом. Меня с треском выгнали с работы, в газете «Уральский рабочий» (центральный орган Свердловского обкома партии) обо мне напечатали разгромный фельетон, обвиняя в развращении студентов, насаждении буржуазной идеологии и Бог знает в чем. Впрочем, несмотря на всю трескотню, конкретно о походе в Ипатьевский дом не было сказано ни слова.
Чудом избежал я тогда ареста: высокий партийный деятель, который занимался этим делом, судя по его беседе со мной, в глубине души сочувствовал моему поступку и дал мне понять, что мне надо поскорее сматываться из Свердловска. Фамилия этого человека была Плетнев. Он был уже в летах, с орденами, заработанными в Гражданскую войну, и занимал должность то ли председателя, то ли секретаря парткомиссии Свердловского обкома и горкома ВКП(б)[3].
Я не преминул воспользоваться его советом. Пожитков у меня было немного, и я собрался буквально за полчаса. Единственное, что я не смог взять с собой, была раскладушка, на которой я спал. Я занес ее к своей знакомой преподавательнице Ирине М. Потом она рассказывала мне, что в тот же вечер к ней пришли выяснять, куда я делся.
– Понятия не имею.
– Неправда. Вы должны знать: ведь это его раскладушка?
– Да.
– Значит, он ваш любовник?
– Никогда не был.
– Опять неправда. Зачем тогда здесь его раскладушка?
– Если бы он был моим любовником, – рассмеялась Ирина, – раскладушка бы здесь точно не понадобилась!
В конце концов они от нее отстали.
Профессор Кутепов
Не менее знаменательной фигурой в кругу оказавшихся в Ашхабаде врачей был пофессор Кутепов. Он преподавал в мединституте, где мой отец тоже вел курс физиотерапии и был близко знаком с Кутеповым. В институте физиатрии, где мы жили, Кутепов бывал редко, и я видел его всего несколько раз. Зато слышал о нем очень много.
Дело в том, что он был родственником – не знаю точно, братом или племянником, – знаменитого белого генерала Александра Павловича Кутепова, и мой отец не упускал случая с некоторой даже гордостью рассказать о таком своем знакомстве. Но вообще-то это была мамина тема. Мама была коренной ростовчанкой, и ее жизнь и судьба ее родителей и близких родственников были напрямую связаны с бурными событиями Гражданской войны на Дону. Маминого брата и дядю, служивших у Деникина, расстреляли большевики. Ее отец – мой дедушка – был свидетелем обороны Таганрога зимой 1917–18 года, организованной тогда еще полковником Кутеповым. Впоследствии дед не раз противопоставлял решительность и военный талант Кутепова нерешительности, как он считал, Деникина.
Словом, упоминание имени Кутепова вызывало у мамы целый рой воспоминаний.
Мама родилась в Ростове в 1901 году в очень состоятельной буржуазной семье. Родители сумели дать ей прекрасное образование: она училась в частной гимназии, владела французским и немецким языками, была одаренной пианисткой. И в те времена, и позже она аккомпанировала профессиональным певцам, а иногда давала сольные концерты.
Когда осенью 1917 года в Ростове была провозглашена советская власть, поддержанная десантом черноморских моряков, старшее поколение почувствовало, что «мирное время» кончается – рушился привычный уклад комфортной буржуазной жизни. Мамина семья безоговорочно встала на сторону тех, кто этот уклад защищал. Зимой 1917–18 года это был генерал Каледин, и когда 29 января 1918 года Каледин покончил с собой, мамин брат, романтический юноша, запершись в кабинете, тоже пытался пустить себе пулю в лоб. Дед, почуяв недоброе, вышиб ногою дверь и выхватил у него из рук револьвер.
Вскоре в Ростове утвердилось Деникинское правление, возвратившее, как казалось, «мирное время» навсегда. Бабушкин брат, Михаил Афанасьевич Злотвер, богатейший в Ростове предприниматель, одним из первых стал оказывать Деникину финансовую поддержку и был назначен министром сформированного Деникиным правительства Юга России. Он отвечал за снабжение Добровольческой армии обмундированием и провиантом. Романтического маминого брата он устроил в штаб Деникина, где тот исполнял обязанности дежурного адъютанта и одновременно проходил курс юнкерского училища. Такие, как он – шестнадцати-семнадцатилетние юнкера, – собственно и составляли костяк Добровольческой армии.
Маме в 1918–19 г. было, соответственно, 17–18 лет, и период Деникинского правления в Ростове запомнился ей как «золотое время». Действительно, Ростов, ставший центром Белого движения, превратился в столичный город. Судя по маминым рассказам, в нем царила веселая беззаботная жизнь. Война, близость фронта совершенно не ощущались. Улицы были полны праздной публики, рестораны – пирующими офицерами, съехавшимися в Ростов со всех концов России. Мама в то время еще училась в гимназии. В числе ее гимназических подруг была дочь командира расквартированного в Ростове полка. Мама часто бывала у них в доме, вместе с подругой они готовили уроки, вместе готовились к выпускным экзаменам. Родители девочки очень поощряли эту дружбу. По вечерам в их доме собирались молодые офицеры, и мамин музыкальный талант оказался очень востребован, подтверждением чему, уже в мое время, были залежи нот с песнями и романсами той поры: «Прощание славянки», «Белой акации гроздья душистые», «Быстры, как волны, дни нашей жизни» и тому подобное. На обложках нот как раз и были изображены пирующие офицеры.
В один прекрасный день в январе 1920 года «мирное время» кончилось. Ростов захватили буденовцы. Маминого романтического брата расстреляли тут же. Дяде-министру удалось выбраться из города и эмигрировать в Маньчжурию. Но в Ростове у него осталась любимая женщина, и он трижды переходил советско-маньчжурскую границу и через всю страну возвращался в Ростов. Он уговаривал ее ехать с ним, но она не соглашалась покинуть Россию. В конце концов – это было уже в 1927 году, во время его очередного возвращения из Ростова, – он был задержан и расстрелян.
Дедушку в первые же дни арестовали, но его старшему сыну, отнюдь не романтику, а очень толковому и энергичному человеку, удалось уговорить своего приятеля, который пошел служить в ЧК, вывести дедушку из тюрьмы, якобы на расстрел, привезти его на вокзал, откуда и дедушка, и его сын на несколько лет исчезли из Ростова.
Маму прятали на чердаке в течение двух или трех месяцев – от этих, как говорила бабушка, «бандитов». У бабушки были основания так называть буденовцев: всё, что было в квартире, они забрали и вывезли. Дед был купцом, в Ростове у него был магазин готового платья. Несколько модных костюмов, которые он получал из Польши, он держал дома в большом трехстворчатом платяном шкафу. Буденовцам понравились модные костюмы, и они напялили их на себя прямо поверх гимнастерок, так что на костюмах расходились швы. Вместе с костюмами буденовцы решили увезти и платяной шкаф, но он не проходил в дверь. С помощью сабель его разрубили, оставили бабушке одну створку, а две другие погрузили на тачанку и увезли. Одинокая створка сиротливо стояла у бабушки еще много лет.
Впоследствии бабушка четко подразделяла новейшую историю Ростова, почти как Экклезиаст, на два противоположных Времени: на «мирное время» (включая сюда и Первую мировую войну) и на время, «когда пришли эти бандиты».
Дедушка, человек образованный и хорошо ориентировавшийся в военных и политических событиях своего времени, смотрел на вещи шире. «В Ростове, – говорил он, – скопилось слишком много трусов и бездельников, которые только что называют себя офицерами. А вокруг Деникина собралось слишком много проходимцев вроде нашего Миши (имелся в виду его свояк – министр). Он все время обманывал Деникина и наворовал миллионы. Главная же беда в том, что Деникин был уже немолод, свое он отвоевал и плохо понимал, как решать стоявшие перед Белым движением задачи. Поэтому никаких решительных действий он не предпринимал. Нужен был толковый и решительный молодой генерал вроде Александра Павловича Кутепова, тогда, может быть, все повернулось бы по-другому».
В апреле 1928 года, после смерти генерала Врангеля, Кутепов действительно возглавил Белое движение – вернее, то, что от него осталось в эмиграции: Русский общевоинский союз (РОВС). 26 января 1930 года генерал Кутепов был похищен в Париже агентами НКВД и убит…
Впрочем, ни дедушка, ни отец ничего этого не знали, а может быть, знали, но не хотели мне говорить.
Профессор Смирнов
Колоритнейшей фигурой из числа высланных в Ашхабад медиков был также профессор Борис Леонидович Смирнов. Он был толстовец, всегда ходил в синей холщовой рубахе, под которой носил вериги, знал многие языки, переводил с санскрита «Махабхарату» (много лет спустя его перевод был издан) и получал нескончаемые письма от ученых медиков, философов и богословов со всего белого света.
Своих детей у Бориса Леонидовича не было, но он жил вместе с сестрой, у которой был сын Гелий – они вдвоем его воспитывали. Мы были соседями: жили во дворе института дверь в дверь. С Гелием я не то чтобы дружил – он был младше меня, – но мы часто играли вместе, ходили друг к другу в гости. И Борис Леонидович понемногу привык ко мне. Не знаю, любил ли он детей, но ко мне определенно благоволил: он часто со мной разговаривал и много рассказывал мне с Гелием о разных странах, особенно о Древней Греции, о Тибете, Китае, об Индии. От него я услышал впервые греческие, персидские и индийские мифы. Все это звучало намного живее и интереснее, чем в школе, – во всяком случае, квалифицированнее. Думаю, что мой выбор стать филологом не в последнюю очередь связан с его влиянием.
Я хорошо помню многие разговоры с Борисом Леонидовичем, хотя времени с той поры прошло немало. В частности, врезалась в память одна из таких бесед. Я принес Гелию недавно купленную мне отцом книгу «Три мушкетера», изданную в серии «Библиотека романов и повестей», с прекрасными, как мне казалось тогда, картинками. Мы рассматривали картинки, когда вышел из комнатушки, где он что-то писал, Борис Леонидович и, как обычно, заговорил с нами.
– Ты уже прочитал эту книгу? – спросил он меня.
– Да, только кончил.
– Понравилось?
– Очень.
– А что ты перед этим читал?
– «Маугли».
– Тоже понравилось?
– Очень.
– Ну, и какая же книга тебе больше понравилась?
– Обе очень понравились. Только я больше люблю историю, поэтому «Три мушкетера» мне показались интересней.
– А ты думаешь, это история?
– Конечно!
– Знаешь, по-моему, здесь больше вымысла, чем в «Маугли». Там, правда, звери разговаривают, но их повадки, их, так сказать, характеры описаны очень точно. А вот в «Трех мушкетерах» – наоборот, разговаривают все нормально, но то, как описаны действующие лица, очень далеко от истины. Грубые, вечно пьяные солдафоны, которые только и умели, что убивать из-за угла, изображены здесь как тонко чувствующие благородные натуры, какими они никогда не были. А кардинал Ришелье, один из умнейших и образованнейших людей своего времени, может быть, величайший ученый, реформатор и политик Франции, изображен как злобный интриган, которого к тому же все дурачат. Мне, например, в это труднее поверить, чем в то, что Маугли разговаривает с пантерой на понятном им обоим языке.
Борис Леонидович прошел в другую комнату и через несколько минут вышел, держа что-то в руках.
– Вот смотри: почтовая марка с изображением кардинала Ришелье, она издана в этом году во Франции в честь трехсотлетия основанной им Французской академии. Возьми ее себе. И кстати, посмотри внимательнее на лицо этого великого француза.
Когда началась война, я положил эту марку вместе с паспортными фотографиями мамы, отца и деда и пронес в кармане гимнастерки через всю войну и сохранил до сегодняшнего дня. А «Три мушкетера» всё равно остались моей любимой книгой…
Елена Агеевна Котикова – анатом-пушкинист
Года через полтора после нашего переезда в институт у меня появился еще один замечательный воспитатель – Елена Агеевна Котикова.
Елена Агеевна была профессором анатомии в ленинградском Институте физкультуры им. Лесгафта. Будучи человеком наблюдательным, она обратила внимание, что некоторые упражнения выполняются студентами из Средней Азии свободнее, чем европейцами, и даже отдыхать они предпочитают, сидя на корточках. Елена Агеевна связала это с особенностями строения костей ног и суставов у этих народов и написала о своем открытии небольшую научную статью. Бдительные работники Ленинградского горкома быстро поняли, что Елена Агеевна подкапывается под марксистко-ленинско-сталинское учение по национальному вопросу и вообще все это попахивает расовой теорией, взятой на вооружение германским фашизмом.
Ее вызвали и разъяснили, что в соответствии с марксистско-ленинским учением все нации равны и, соответственно, у них равны кости ног и суставы, а так как она в этом, кажется, сомневается, то ей придется поехать в Среднюю Азию на годик-другой, может, больше, чтобы лично убедиться в этом непреложном факте.
Так Елена Агеевна оказалась в Ашхабаде, в туркменском гос. институте физиатрии. Делать ей там было совершенно нечего, изучать суставы у местного населения в свете марксистко-ленинского учения по национальному вопросу было делом явно бесперспективным, и в поисках приложения своей бьющей через край энергии она обратила свой взор на меня. Надо сказать, что помимо суставов у Елены Агеевны было еще одно увлечение – для ленинградских интеллигентов не столь уж редкое, – она страстно любила А. С. Пушкина. И вот уважаемый профессор анатомии начала проводить со мной почти ежедневные беседы о Пушкине.
По правде говоря, я читал стихотворения Пушкина и даже поэму «Полтава» еще до Елены Агеевны. Более того, в Туркменском театре русской драмы я с большим удовольствием смотрел юбилейные постановки «Маленьких трагедий». Эти постановки казались мне тогда потрясающими, и, может быть, так оно и было; во всяком случае, они были безусловно яркими и запомнились мне на всю жизнь. Но Елена Агеевна говорила о чем-то совершенно другом – что с моей точки зрения никак к делу не относилось и совершенно меня не интересовало: в каком доме Пушкин жил, куда ездил, с кем дружил, какая у него была жена, и тому подобную чепуху. Всё это Елена Агеевна иллюстрировала какими-то стихотворениями, которые аккуратно выписывала в специально отведенную для этой цели тетрадку.
Я все это пропускал мимо ушей, хотя уголком сознания понимал, что Елена Агеевна говорит нечто прямо противоположное тому, что, как мне помнилось, говорили в школе. У нее получалось, что Царь Николай очень ценил Пушкина, а Пушкин, в свою очередь, очень любил Царя и даже убеждал своих друзей, которые не очень-то верили в искренность этой любви, что любит его искренне, а не из подхалимажа. По этому поводу Елена Агеевна записала в свою тетрадку стихотворение «Нет, я не льстец…» и очень много на этот счет поясняла. Но в общем-то меня это мало занимало.
Не могу не признать, что Елена Агеевна не была занудой, умела говорить и вести себя так, что было очень даже занятно ее слушать, особенно если не вникать в суть ее слов. И все же моя тупость победила. После двух или трех месяцев занятий по Пушкину Елена Агеевна поняла, что пробудить у меня интерес к чему-нибудь, кроме беготни во дворе и лазанья по плоским туркменским крышам, невозможно. И отступила.
Мы расстались добрыми друзьями, и уже совсем перед войной, когда она вернулась в Ленинград, я бывал у нее. Она жила в домике, входившем в комплекс зданий Академии художеств на Васильевском острове. Жила она вместе с братом, который имел какое-то отношение к этому учреждению. С Еленой Агеевной мы побывали в Русском музее, на Елагином острове, но о Пушкине как-то речь больше не заходила.
Впрочем, лет примерно через пятьдесят, когда я стал серьезно заниматься Пушкиным, в частности, связью его произведений с конкретными фактами его жизни, многое из того, что я открыл для себя, а затем и опубликовал (например, «Николаевский цикл»), каким-то странным образом совпало с тем, что я слышал в детстве от Елены Агеевны.
Школа
Моему высокоинтеллектуальному общению с Борисом Леонидовичем и Еленой Агеевной противостояла, с одной стороны, школа, а с другой – улица. Школа – крайне низким уровнем преподавания, а улица – живостью и привольем.
Когда мы только приехали и жили у Гарриса, меня определили в школу № 2, всего в квартале от дома. Школа находилась во дворе персидской мечети, в бывшем здании медресе. Поскольку я пришел в середине года (мы приехали в декабре, а в январе были каникулы), меня привели в школу только числа двадцатого января. Классный руководитель – звали ее Ольга Максимовна – отнеслась ко мне довольно сдержанно. Это была пожилая тучная женщина с довольно недобрым лицом. Глядя на нее, можно было предположить, что в юные годы она была официанткой, парикмахершей, уборщицей, но только не учительницей.
В классе меня тоже приняли недоброжелательно. В школах вообще недолюбливают новеньких, а тут еще ребята почувствовали отношение ко мне Ольги Максимовны. Так или иначе, но уже где-то недели через две ко мне стал цепляться один из классных заводил. Мы подрались. Я был довольно крепким для своих лет, драться умел неплохо – в Ростове это было обычным делом, – но самый факт был неприятен. Я чувствовал, что другие ученики явно болели за него, а не за меня.
Несколько дней я не ходил в школу. Я вообще избегал ходить туда: делать мне там было, по существу, нечего. Чему я научился в первом классе ростовской школы – прилично считать и писать, – до этого второй класс ашхабадской школы еще не дорос. Единственное, что меня там привлекало, – это сама мечеть. Необычайно живописная, яркая, красивая, мне она тогда казалась красивейшей в мире. Я заглядывал в узкие окошки, смотрел, как персы совершают свой намаз, и это добавляло к общей экзотике, о которой я уже говорил, еще какие-то интересные штрихи.
Через несколько дней опять возникла какая-то конфликтная ситуация, и драться со мной принялись уже два мальчика и довольно сильно меня поколотили, хотя и я их тоже поколотил. Я понял, что это плохо кончится… У меня был тогда друг. Дом, в котором мы жили, как я уже говорил, принадлежал иранцу, работнику персидского консульства в Ашхабаде, у него был сын Джангир моего возраста. Мы как-то подружились. И вот когда я увидел, что там уже два парня со мной подрались, а завтра их может быть три, я попросил Джангира подходить к концу уроков к школе и помочь мне справиться, если на меня нападут. Джангир несколько дней приходил и останавливался у ворот школы и еще позвал своего приятеля. Действительно, через несколько дней на меня налетели уже не два, а три мальчика. Они, конечно, не подозревали, что Джангир со своим приятелем имеют ко мне отношение. Я стал защищаться, и в этот момент Джангир и его друг ринулись к нам, и поскольку мы были гораздо сильнее этих несчастных трех идиотов, мы их легко одолели. Я впервые тогда понял, как дрались в Средние века и что восточный менталитет Джангира абсолютно средневековый: бить, так бить. Я даже попытался сдержать Джангира, но не тут-то было. Он со своим приятелем избил этих трех мальчиков до крови…
Я, понятно, ни в какую школу на следующий день не пошел, но наша Ольга Максимовна кого-то прислала за моими родителями. Родители в школу не пошли, и я им вкратце рассказал о происшедшем. На следующий день Ольга Максимовна пожаловала к нам домой. Папы, правда, не было, была мама. Ольга Максимовна говорит: «Вот, ваш сын устроил дикую драку, избил…» Кто-то среди избитых оказался сыном важного человека в Ашхабаде.
Может быть, это как-то бы и улеглось. Но мама, которая в любое другое время стала бы на сторону учительницы и изрядно бы меня выругала, этого не сделала. По-моему, ей не понравилась хамская манера Ольги Максимовны, и она сказала: «Не знаю, что там у вас в классе делается. На моего сына напали, естественно, он защищался. Если уж те оказались в проигрыше, это их мальчишеское дело». – «Ах, так вы его еще и защищаете! Делайте что хотите, переводите куда хотите, но я его в свой класс больше не пущу».
Когда пришел папа, мама ему все это пересказала, папа возмутился, хотел идти к директору, но я сказал: «Я тоже не хочу идти в этот класс, там нечему учиться. В Ростове я давно уже прошел то, что они сейчас проходят». Не знаю почему, но родители отнеслись к этому достаточно спокойно. С середины марта я перестал ходить в эту школу.
Летом мы от Гарриса переехали в другую часть города, на будущий год я должен был пойти в другую школу, и нужна была какая-то справка. Папа пошел к директору, сказал: «У вас учился мой сын…» Директор, видимо, был не в курсе: во всяком случае, отец принес домой изумительную справку, из которой было ясно, что я прекрасно успевал (в справке были только отличные и хорошие оценки), что я был мальчик-паинька, очень дисциплинированный (по дисциплине было выведено «отлично») и т. д. Я очень легко перевелся в другую школу – № 5.
Эта школа… Если бы я не знал, что в Туркмении не разводят свиней, я бы подумал, что там прежде был свинарник: какое-то приземистое маленькое здание, грязное, темное, спрятанное за неопрятной глиняной стеной. Ученики выглядели как-то беднее и оборванней, чем те, что учились во 2-й школе. Классного руководителя звали Берды Султанович (из чего ясно, что он был туркмен). Я уже привык, что в Ашхабаде в школу можно особенно не ходить. Я и в эту школу особенно не ходил: походил первые две недели, а потом пропускал по пять, по шесть дней. Это было даже незаметно. В школе № 2, в мечети, в классе было человек двадцать пять, а тут по меньшей мере сорок. Если я даже заходил в школу, то урок-два отсиживал, а потом уходил, и никто не замечал. Берды Султанович смотрел на все эти дела сквозь пальцы и родителей не вызывал. По-моему, он даже немного радовался: набилось в классе сорок человек, вот и хорошо, что на одного меньше. Не знаю, были ли это черты туркменского характера или его индивидуальные черты, но он как-то добру и злу внимал очень равнодушно и не оспаривал глупца. Ко мне он относился просто хорошо.
В третьем классе у нас начинали изучать туркменский язык, и я понимал, что хотя бы на эти уроки ходить нужно. Тогда туркменская письменность была на латинском шрифте (позже ее перевели на кириллицу). Я латинский шрифт знал очень хорошо, так как читал по-английски и по-немецки, но для многих ребят, которые там учились, латинский шрифт был камнем преткновения: почти весь учебный год они учились начертанию латинских букв, поэтому у меня было огромное преимущество. Все, что мне надо было для успехов в туркменском языке, – это запомнить несколько туркменских фраз, которые писались этим латинским шрифтом. В основном это были тексты с такими «исконно туркменскими» словами, как, например, «Это трактор» – «Бу тракторы» или, скажем, «Мой папа колхозник» – «Менин ата колхозчи».
Поскольку я мог все это сказать, в общем получалось, что я хорошо знаю туркменский язык. Во всяком случае, Берды Султанович мне поставил пятерку, и больше я мог уже в школу не ходить. Я и не ходил. Всё свое свободное время я проводил с ребятами на Константиновской улице…
Константиновская улица
Константиновская улица – называя вещи своими именами, это были задворки города, – пыльная, песчаная, широкая. Движения по ней практически не было, разве что два раза в день проезжала какая-нибудь арба с маленьким осликом. Уважающие себя верблюды здесь не появлялись.
Для мальчишеской беготни лучшего места не придумаешь.
За Константиновской других улиц уже не было. Да и она была застроена лишь с одной стороны. На нее выходили хозяйственные постройки института и еще пять или шесть двориков, где жили местные русские.
По другую ее сторону тянулась полуразрушенная глинобитная стена военного городка, выстроенного еще в царское время. В двух местах стена поворачивала под прямым углом к центру города, ограничивая собой начало и конец улицы. Так что вся ее длина была метров 700–800.
Населения на улице было негусто: пять-шесть семей – потомки унтер-офицеров, отслуживших двадцать пять лет в военном городке, которых и вознаградили правом обзавестись своим домиком по ту сторону глинобитного забора.
Дедушка моего приятеля Леньки Орлова – старик Орлов, одноногий инвалид с деревяшкой, с Георгиевским крестом, с черной с проседью бородой – был участником и Турецкой войны 1908 года, и Первой мировой. Вот такие люди там и жили в то время.
Мальчишек на улице было тоже немного: кроме Леньки я помню еще Федьку, жившего в соседнем от Леньки дворе, и братьев Поповкиных – Кольку и Алюху – они жили в последнем на улице доме, если идти от института. Были еще два или три парнишки, но мне они не запомнились. Все мы были почти одного возраста, где-то от девяти до двенадцати лет.
Мы играли в обычные мальчишеские игры – гоняли мяч, что-то еще делали, но любимым нашим занятием была «война». Это была даже не игра, а своего рода образ жизни. Не знаю, чем это объяснить: то ли соседством военного городка с постоянно ухающими выстрелами, то ли генетической памятью потомков бывших солдат и унтер-офицеров, но воинственный дух был как-то органически присущ Константиновской улице.
Мы делились на две группы и начинали воевать – швырять друг в друга камнями, стремясь заставить «противника» отступить в конец улицы. При этом мы заранее уговаривались о правилах игры: ни в коем случае нельзя пользоваться рогаткой или пращой, камни можно было бросать только «от руки», бросаться можно только глиняными камешками, а так называемыми «железными» камнями, то есть кремневыми, нельзя. Договаривались, можно или нельзя прикрываться щитом – у нас у всех были большие фанерные щиты, тщательно разрисованные краской.
Все эти правила мы старались соблюдать. При этом мы, конечно, не только бросались камнями, но и старались уберечься от камней противника и совершали «обходные маневры»: бегали по крышам соседних домов, появлялись с какой-то неожиданной стороны и даже перелезали через стену военного городка. Словом, вели военные действия по полной прграмме. Продолжаться это могло и два, и три часа, иногда целый день. В общем, мы играли в войну на протяжении двух с половиной лет. Я думаю, что эта беспрерывная игра натренировала нас как в умении метко и далеко метать камни, так и в умении избегать ударов – угадывать по движению руки, куда полетит камень, использовать для укрытия особенности местности: стены, деревья, даже дно арыка. В дальнейшем, поскольку все мы потом оказались на действительной войне, эти навыки пришлись очень кстати.
И еще одну вещь, связанную с этой игрой, я хотел бы отметить. Игра приучала к определенной честности, к войне «по правилам». Я не помню случая, чтобы кто-нибудь нарушил наш уговор. Если мы договаривались не использовать «железные» камни – ни один такой камень не летел. Хотя мальчишки с Константиновской улицы были далеко не ангелы, могли и своровать что-нибудь, что плохо лежит, и обмануть, но в этих вопросах никто никогда ничего не нарушал.
И еще: игра определенно требовала немало ловкости, смелости, сноровки, и далеко не каждый мальчишка мог в ней участвовать, мы далеко не всех принимали, хотя многие к нам просились. Помню, мы не взяли в игру мальчика, решив, что он слишком неповоротлив; не взяли другого, потому что он был слишком медлителен, и, думаю, мы были правы, потому что когда мы приняли в игру моего школьного товарища Эрика Ромашова, ничего хорошего из этого не получилось – Эрик был интеллигентным мальчиком, физически не очень крепким, и в первой же игре он замешкался, не успел прикрыться или увернуться от камня и получил довольно тяжелую травму черепа. Мы, понятно, тут же прекратили игру, отвели его к дежурной сестре в институте, та промыла ему рану, я побежал к нашему институтскому хирургу Минье Ильичу, тот пришел, обработал рану как следует и даже наложил швы. Этот случай только утвердил наше нежелание принимать таких участников игры.
Что касается нас самих, то у нас было, может быть, два-три случая более-менее серьезных травм, а чаще это были легкие ушибы в руку или в ногу. Бывали, конечно, неприятные тяжелые ушибы, которые неделю-другую не заживали, но во всяком случае мы не жаловались и не плакали. И хотя родители мои и других мальчиков ругались на этот счет, но никто не был в состоянии запретить нам играть в войну.
В перерывах между беготней друг за другом, когда мы уже совсем уставали, мы объявляли перемирие на час-другой. Мы собирались вместе и состязались в более спокойной игре: вели так называемый «воздушный бой». В расщелинах стены военного городка жили многочисленные осы, довольно крупные, раза в три крупнее европейских. Когда оса пролетала над нами, мы старались сбить ее камешком. Сейчас в это трудно поверить, но нам удавалось за день сбить на лету трех-четырех ос.
Другой забавой, тоже связанной с «войной», были набеги на военный городок. Перебраться через стену, выходившую на нашу улицу, было нетрудно, а сразу по ту сторону стены находился специально вырытый широкий ров, в котором было тренировочное стрельбище, по-видимому, тоже оставшееся с царских времен. Там почти ежедневно проходили учебные стрельбы, и когда мы слышали, что они кончаются и солдаты уходят, мы сразу же перебирались через стену, прыгали в этот ров и выискивали гильзы от стреляных патронов – красивые такие, латунные, красноватые гильзы. Эти гильзы были очень нужны красноармейцам: они отчитывались ими за стрельбу, но гильзы обычно терялись где-то в песке, во время стрельбы солдаты не очень-то думали о них, и после их ухода довольно много гильз оставалось. Мы отдавали гильзы солдатам, а они за это разрешали нам пострелять из боевой винтовки по мишеням, изображавшим японских самураев.
Мишени были старые, тридцатилетней давности, изготовленные еще во время Русско-японской войны 1904/5 года. И вот теперь, после столкновений с японцами у озера Хасан и на Халкин-Голе (1934–35), они снова оказались востребованы.