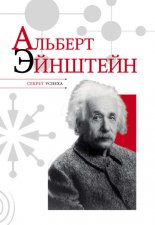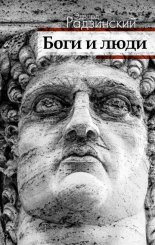Проклятая русская литература Михайлова Ольга
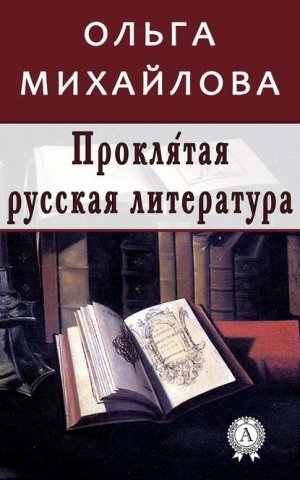
Пролог. 1993 год
– …Ты только посмотри, на кого я стрезва-то похож, даже в зеркало глянуть противно – взгляд умный, злой… одно слово, сволочь, – Борис Голембиовский исподлобья оглядел себя в круглом зеркале, висевшем на кафедре в простенке между дверью и стеллажом с документацией, лениво поскрёб дурно выбритую щеку и поправил у виска седеющие волосы.
Верейский вздохнул. Послушать учителя, так прям алкоголик, между тем зав. кафедрой русской литературы пил весьма умеренно. Сволочью Бориса Вениаминовича Алексей тоже не считал, напротив, Голембиовский человек был весьма приличный, как сказали бы платоники, соединяющий «искренность нрава с правильным образом мыслей». Просто в высказанной диатрибе проступили свойственные Голембиовскому самоирония и извечный еврейский сарказм.
Что до умного и злого взгляда… Да, это было.
Оба они сидели на кафедре романо-германской филологии, куда были приглашены Марком Ригером выпить кофейку после последней лекции, и Марк Юрьевич, в отличие от Верейского, сразу понял Голембиовского, кивнул и достал из нижнего ящика стола плоскую бутылочку прасковейского коньяка, плеснув оного в крохотные рюмашки.
Верейский снова вздохнул. Он так и не научился понимать тонкие еврейские намёки.
Кафедра романо-германской филологии, на дверях которой значились фамилии Звенигородская, Литвинова, Федорчук, Муромов и Ригер, располагалась наискосок от другой двери – кафедры русской литературы, где сияли золотом фамилии Голембиовский, Розенталь, Каценеленбоген, Верейский и Шапиро. Когнитивный диссонанс, порождаемый в некоторых неразумных головах внутренней антиномией этих надписей, гармонизации не поддавался.
При этом по непонятной причине Алексей Верейский, хоть и не имел семитских корней, считался на кафедре русской литературы почти своим, то есть евреем, Марк же Ригер, вообще-то бывший этническим немцем, чьи предки помнили ещё Екатерину Великую, среди романо-германской клики своим не признавался и считался евреем, в чем давно устал всех разубеждать, в конце концов смирившись и даже научившись картавить. Оставаясь на своей кафедре гоем и чувствуя себя отщепенцем, он часто захаживал через коридор к русистам или норовил пригласить их к себе. Верейский и Голембиовский откликались тем охотней, что знали беду Ригера: месяц назад он похоронил жену, умершую от неизлечимого недуга. Следы многодневной бессонницы уже сошли с лица Марка, но улыбался он до сих пор одними губами.
– Что пишет пресса? – этот вопрос Голембиовский адресовал Ригеру, ибо знал, что Верейский, его бывший аспирант, а ныне коллега, принципиально никогда не читает газет. Сам он раньше следовал тому же принципу, но, начиная с апрельского пленума ЦК, газеты иногда просматривал. Даже «Правду» читал. Правда, в этом году, после введения в Москве чрезвычайного положения и штурма Дома Советов, почувствовал утомление от политики и теперь опять предпочитал узнавать новости от других.
– Депутата замочили в подъезде, – Ригер сдвинул с «Комсомольской правды» «Известия», – о, тут про проституцию, третья статья за неделю, – Марк глотнул кофе из кружки, на боку которой резвились три поросёнка. Верейский помнил, что эта кружка была на кафедре ещё пятнадцать лет назад, когда он заходил сюда студентом.
– Опять о шлюхах? – несколько оторопело отозвался Голембиовский. С учетом возраста, далеко перевалившего за шестьдесят, путаны не интересовали Бориса Вениаминовича даже академически. – С чего бы это?
– Возможно, общество чувствует свою онтологическую имманентность этому явлению, – вяло предположил Ригер, – ведь русский либерал всегда представлял себя в образе этакой Сонечки Мармеладовой, вынужденной идти на панель системы, утратив на сём поприще невинность. – Ригер смотрел в темноту за окном и, казалось, думал о чем-то своём, – а возможно, она есть символ некой тайной свободы, – высказал он новую гипотезу.
– То есть до перестройки наша продажность была обязанностью, – Голембиовский вытащил из кармана пачку дешевых сигарет и поискал глазами пепельницу. Верейский заметил её на окне и подал Борису Вениаминовичу, – а теперь стала знаком независимости? – Голембиовский тряхнул головой, словно пытаясь поудобнее уложить это понимание в мозгу.
– А почему-таки нет? – общаясь с евреями, Ригер давно усвоил еврейскую манеру отвечать вопросом на вопрос, – свобода – вещь в себе, – Марк сдвинул ещё одну газету, – вот, кстати, в «Толстушке» рецензия на последний спектакль столичного театра, на сцене – голая актриса. Я, правда, заметил, что в дурно протопленных театрах оголённые женщины с синеватой и пупырчатой от холода кожей эротичны не более чем замороженная куриная тушка, но тут сказано, что «в условиях свободы обнаженное тело уже перестало ассоциироваться с нарушением правил приличия, быть вызовом или шоком, а стало одним из тонких художественных приемов». И вот оголенная тетка с отвисшей грудью читает монолог Чайки, а финале спектакля «Кавалеры» актеры-мужчины в чем мать родила танцуют канкан, лишь отчасти прикрываясь перьями и мехами. Представляю себе это зрелище… А ведь каждый из этих канканёров когда-то мечтал, наверное, сыграть Гамлета… – Марк снова посмотрел в темноту за окном. – Но после такого канкана «Гамлет» уже немыслим. Можно сыграть только «Лысую певицу» или «В ожидании Годо».
– И когда же вся эта вакханалия кончится-то? – со вздохом поинтересовался Голембиовский.
– А чего ей кончаться? – отозвался Верейский. – Сказал же классик: «Непомерно веселит русского человека любая общественная скандальная суматоха…» Её и имеем – который год…
– Мы – её, Алеша? Я-то полагал, что она – нас…
Сидящие на кафедре были людьми обречёнными. Из пяти групп риска: философов, ищущих смысл бытия, математиков, изыскивающих способы деления на ноль, дураков с высоким интеллектуальным потенциалом, пытающихся осознать бесконечность, физиков, разрабатывающих теории построения пространства-времени, и гуманитариев-богоискателей, – они попадали одновременно в первую, третью и пятую категории. Имелся и гендерный аспект: как известно, женщина-филолог – не филолог, мужчина-филолог – не мужчина. Добавлялся и национальный: русский, пришедший в филологию, был бессребреником по определению, бессребреник же еврей был сумасбродом, и оставался им даже притом, что Голембиовский, еврей по матери, а по отцу – польский шляхтич, был крещен в православие, дружил с местным священником и часами вёл с ним длинные богословские беседы, правда, уклоняясь, по мнению батюшки, в филокатолицизм. Но и, понимая свою обречённость, все трое всё равно считали, что «с умным человеком и поговорить любопытно» и любили выпить коньячку в хорошей компании.
Тут, однако, их неторопливую беседу внезапно прервал звонок телефона. Аппарат был ближе всех к Ригеру, он снял трубку, с минуту слушал, потом, обронив: «Да, передам», опустил её на рычаг. На лице его появилось виноватое и какое-то больное выражение.
– Простите, Алекс, вам просили передать, что умерла ваша бабушка.
Верейский побледнел. Елизавета Аркадьевна. У него, лишившегося в детстве родителей, никого больше не было. Ей было уже девяносто шесть, и Алексей понимал, что это должно вот-вот случиться: в последние дни она совсем ослабела. Он торопливо вскочил, на минуту замер, не понимая, куда идти и что делать. Чуть придя в себя, сообразил, что нужно ехать на Ворошиловский, к ней на квартиру. Голембиовский и Ригер пытались что-то сказать, но он, оглушенный, покачал головой, схватил пальто, быстро сбежал по лестнице и поймал такси у входа главный корпус университета.
Следующие дни слились в памяти Верейского в сумбурную неразбериху, где мелькали лица сотрудников похоронного бюро, гроб не проходил в дверь, какие-то женщины-соседки требовали указать, где лежит какое-то белье, кто-то спрашивал о поминках, кто-то выражал соболезнования. Он запомнил лица сотрудников кафедры и надпись золотом на венке «От внука Алексея», хоть совершенно не помнил, когда его заказал.
Очнулся Верейский на третий день, в воскресение утром – в пустой квартире покойной, и огляделся. Елизавета Аркадьевна, несмотря на то, что уехала из Питера полвека назад, все равно жила как истая ленинградка: в доме не было ни ковров, ни скатертей, ни украшений. На стене тикали старые часы и лепились книжные полки, под ними громоздился диван, который Алексей запомнил с детства, колченогий стул упирался спинкой в бок полированного, но сильно исцарапанного стола, а всю боковую стену занимал грузный шкаф, вместилище его детских воспоминаний. Внизу, под платьями и единственным пальто бабушки он прятался, играя с соседом в жмурки, в нижнем отделе хранились когда-то его вещи, а в особое отделение на четвёртой, самой высокой полке в боковом отсеке – путь ему был заказан: Елизавета Аркадьевна хранила там альбомы и письма подруг.
Сейчас он подошёл к шкафу и открыл его. На верхней полке стоял старый картонный ящик из-под вентилятора. Верейский снял его и заглянул внутрь. Да, тут были фотоальбомы и пачки писем. Алексей смутился. Он не знал, что с ними делать. Выбросить не мог, это была живая память о том единственном человеке, что был у него. Но заглядывать туда? Читать чужие старые письма, на пожелтевших страницах которых когда-то билась чужая жизнь? Что ему до них? Это не казалось мерзостью, ибо это были уже не чужие, а мертвые письма, но – бессмыслицей. Что скажут ему старые письма и фотографии?
Верейский в задумчивости всё же достал альбом, перелистал и вдруг с особой горечью осознал свою потерю: ушел последний человек, кто помнил эти лица, мог назвать имена. Ушла память. Остались чёрно-белые фотографии далёких дней, с которых улыбались давно похороненные люди. Верейский сам не любил фотографироваться. Теперь лишний раз осознал, насколько прав. Не стоит оставлять после себя свои изображения и дневники, которые будет равнодушно перелистывать твой потомок, равно безучастный к твоим былым никому уже не нужным успехам и позабытым мелким неудачам…
Он сложил два альбома на столе и вытащил из ящика пачки писем. Решил переложить их в сумку и отнести к себе, и тут на дне обнаружил ещё один альбом. Впрочем, нет, не альбом. Это была старая шкатулка темного дерева с какой-то инкрустацией и прорезью замка под ручкой. Алексей никогда раньше не видел этого ларчика и, поняв, что он заперт, задумался. Что могла хранить там Елизавета Аркадьевна, из всех сокровищ которой самым дорогим было тонкое золотое обручальное кольцо, с которым её и похоронили?
Алексей потряс шкатулку: она явно не была пустой, внутри что-то шуршало. Верейский растерялся. Бабушка в детстве пять раз била его: за чужой подслушанный разговор, за то, что не встал, когда вошла соседка, за рассказанную сплетню об однокласснице, за то, что взял без спроса чужой карандаш, и за прочитанную открытку, адресованную ей. С тех пор его отличала удивительная предупредительность и почти старомодная галантность, он не только не имел привычки подслушивать, но и часто не слышал того, что говорили ему самому, ни о ком никогда не отзывался дурно, и не только не брал чужого, но и вечно забывал везде свои зонты и шарфы. Что до писем… Кто бы ему их писал?
Тем неразрешимей представлялась сложившаяся коллизия. Открыть? Выбросить? Хранить закрытым? Почему Елизавета Аркадьевна заперла шкатулку? Неожиданно Алексей подумал, что там наверняка ордер на квартиру, и эта простая мысль сразу расслабила его. Ну, конечно, там документы. Он разыскал на кухне среди инструментов долото и вставил в щель над замком. Сразу открыть не удалось, впрочем, похвастаться золотыми руками Верейский не мог никогда, и всё же, основательно утомив взломщика, ларец наконец распахнулся.
Алексей сразу понял, что ошибся. Никаких документов шкатулке не было, здесь лежала тонкая пачка писем на бледных до желтизны листках бумаги. Темно-лиловые чернила отливали парчовым блеском, почерк был красив и четок, почти каллиграфичен. Верейский заметил орфографию и побледнел: его фамилия писалась через «ять». Он торопливо развернул верхнее письмо и нашёл дату – ноябрь 1919 года. Одно за другим пересмотрел письма. Они были короткие – в несколько страниц.
«Сегодня на Невском видел старика-генерала Симонова, он в затрапезной черной папахе продавал спички, стоял робко, как нищий… Видел и Уманскую – в разбитом пенсне, в жалкой рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах, она жалась к углу здания, пугливо озирая толпу. Воистину, выходить на улицу страшно: везде неистовая кровожадность, исступление и острое умопомешательство. Не могу понять, что творится. Создана целая бездна каких-то административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров несметно, комитеты, союзы, партии растут, как грибы, образовался совсем новый, особый язык из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой грубой площадной бранью по адресу «околевающего деспотизма…» Везде неистовое желание представления, лицедейства, скоморошества, позы, балагана. По проспектам идут процессии с красными и чёрными знаменами, размалеванные «колесницы» в бумажных цветах и лентах, среди которых актеры и актрисы в опереточно-народных костюмах поют что-то утробное, а другие изображают «силу рабочего класса», каких-то «грозных» рабочих в кожаных передниках… Завернул на Конюшенную – стены, увешанные черными знаменами с белыми черепами и надписями: «Смерть, смерть буржуям!» Я не мистик, Лиза, но клянусь Богом, в воздухе носится ощутимый запах серы, в затуманенных кокаином глазах этих комиссаров мелькает адское пламя, дьявол никогда ещё не был так ощутим и силён…»
«Что искать причин? Недалекость и равнодушное невежество, извечная своекорыстная бескорыстность лжи, за которую хвалили и аплодировали… Как же тут было не стать «другом народа и передового студенчества»? Но что я удивляюсь? Лгали все, ибо были вскормлены той безбожной, лживой и растленной литературой, которая сто лет скоморошьи насмехалась и глумилась над священством и Церковью, бесчестила и бесславила власть, полицию, помещика, смеялась над обывателем и мещанином, поносила чиновника и зажиточного крестьянина, воспевая только какой-то никем не виданный безлошадный и голоштанный народ, босяков да юных глупцов-студентов.
Эта выдуманная любовь к «народу и передовому студенчеству», ставшая второй натурой, породила лживость мечтаний и целей. Литература, создаваемая, талантливыми, но праздными людьми… У неё мы учились – но чему? Идеализму барскому, и вечной оппозиционности, критике всего и всех: критиковать-то легче, чем работать. «Ах, карету мне, карету! Служить бы рад, прислуживаться тошно!» Отсюда Чацкие, Герцены, Огаревы да Бакунины, Чернышевские да Ишутины. Потом Нечаевы да Ленины. Это просто томление духа, барство и разбалованность, род нервной болезни, а вовсе не духовные «запросы» нашей «русской глубины»… На запросы духа нельзя отвечать утопиями типа «Что делать?»
«Ты помнишь Покровский храм, где нас венчали? Он теперь обращен в больницу для сифилитиков-красноармейцев. Местные рассказали, что забравшись в храм, чиновная красноармейщина с любовницами ходили в шапках, курили, матерно ругали Христа и Матерь Божию, похитили антиминс и церковные одежды, занавес от Царских врат, разорвав его на части, опрокинули Престол, пронзили штыком икону Спасителя. После ухода бесчинствующих оказалось, что в одном из притворов кто-то из них нагадил… И это моя страна, страна Пушкина и Достоевского?…»
«Ты спрашиваешь, что случилось на фронте? Если под Харьковом большевики были стянуты со всех сторон, то под Ростовом и Новочеркасском, к стыду нашему, мы сами имели превосходство. Но дух был подорван: и отступлением, и наживой, и безудержной пропагандой… Как болит сердце за тысячи погибших добровольцев, за Антона и Виктора, которые, имея возможность уйти в Крым, с жесточайшими боями пробивались к Дону, чтобы грудью прикрыть Кубань и Кавказ. Теперь все кончено. Рухнул весь фронт. Где я буду завтра – сказать невозможно. Но помни, чтобы ни случилось – сбереги Андрея, он – последний князь Верейский. Думаю, мне не вернуться. Я уйду с Добровольческой армией. Мы не в силах пойти под большевиков и не ждём от них пощады…»
«Вечер 22 марта. Это конец. Когда мы вышли в море, была уже ночь. Только огни, густо усеявшие причал, намечали во тьме берег. Они потускнели и погасли. Пишу из Константинополя. Я ничего не могу обещать – даже возвращения. Сбереги сына, Лиза, сбереги сына…»
Верейский тупо смотрел на письма и лиловый штемпель на верхнем конверте. Дохнуло чем-то страшным, едва ли не потусторонним. Потом он медленно пришёл в себя. Мысленно сопоставил даты. Бабушка родилась в апреле 1898 года. Его отец, Андрей Александрович Верейский, погибший в аварии в 1971, появился на свет в 1920 году. С фронта он пришел в 1947 инвалидом, но в 1953 женился. Алексей появился на свет поздно, но была и старшая сестра, которой он почти не помнил – она была в одной машине с родителями. Но почему Елизавета Аркадьевна никогда и ничего не рассказывала о деде? Он был князем Верейским? Возможно ли? Алексей помнил, что именно так его самого дразнили в школе, но это просто потому, что князя Верейского упоминал в «Дубровском» Пушкин, да ещё та, кого он любил, уходя, бросила напоследок, что ему отродясь не выбиться из грязи в князи…
Алексей чувствовал себя странно обессиленным и словно оскорбленным, точнее, обокраденным. Оказывается, далеко не все старые письма были пожелтевшей рухлядью. Умом он понимал, что мать его отца боялась рассказать ему о таком прошлом. Она семь десятилетий хранила письма мужа, молчала до самой смерти, рассказывала только – и то скупо – об эвакуации и войне, немного о Сталине, но о деде сказала лишь, что он погиб в Гражданскую и что фотографий не осталось. Впрочем, что тут непонятного? Это поколение хорошо знало цену лишнего слова.
Но для него теперь «распалась связь времен» – Верейский был обречён на вечное неведение.
Глава 1. «Страшный вопрос»
«В дурной литературе нет ни морали, ни ответственности».
Роджер Бэкон.
С похорон Елизаветы Верейской минуло два месяца, наступил новый, 1994 год. Жизнь, казалось, вошла в привычную колею. Алексей Андреевич с утра появлялся на кафедре, принимал экзамены, возился с третьекурсниками, вёл свой спецкурс – всё было как обычно.
Да, всё было как всегда и только Голембиовский, хорошо зная бывшего аспиранта, разглядел в нём нечто странное. Эта странность проступала поначалу только в застывшем взгляде, устремлённом временами в никуда, да в едва заметной отрешённости от житейских разговоров. Впрочем, человек потерял близкого, полагал старик, у него горе, а хоть и невыносима тяжесть иных утрат, в смерти соединяются страх распада и парадоксальный трепет испуганной пытливости. Старик знал и другое: чем обширней кварталы современников на погостах, над которыми возвышается выживающий, тем чаще переживает он эти странные мгновения обесценивающей жизнь отрешённости, и тем неодолимее становится почему-то потребность в этих мгновениях.
Но Голембиовский ошибался. Верейский и вправду был погружен в горестные размышления, но не смерть воспитавшей его была тому причиной. Алексей видел, что Елизавета Аркадьевна давно томилась своими долгими днями, и полагал: что бы ни ждало её за гробом – оно было лучше иллюзорного бытия её последних лет. Правда, теперь он то и дело припоминал слова и поступки покойной, кои странно отзывались и переосмыслялись в нём. Елизавета Аркадьевна выучила его французскому, – а он никогда даже не спросил, откуда она знала его? Её манеры, привитые ему, её всегдашний вид спокойного достоинства, гневное, хоть и молчаливое презрение к любой пошлости, удивлявшая его незыблемая вера в Бога и преподавание ему по старенькой Псалтири, – Верейский неожиданно осознал, что он в плебейском государстве воспитан всё же истинной аристократкой.
Но не это занимало его. Верейский пытался продумать и осмыслить то, что прочёл на ветхих пожелтевших листах дедовских писем, которые хранил теперь в тумбочке у кровати и заучил почти наизусть. Лишенный понимания прочности бытия, столкнувшись с его распадом ещё в детстве, он лихорадочно пытался спасти, уберечь от тлена то, что любил и чему посвящал себя – литературу. «Лгали все, ибо были вскормлены безбожной, лживой и растленной литературой, которая сто лет скоморошьи глумилась над священством и Церковью, бесчестила и бесславила власть, полицию, помещика, смеялась над обывателем и мещанином, поносила чиновника и зажиточного крестьянина, воспевая только какой-то безлошадный да голоштанный никем не виданный народ, босяков да юных глупцов-студентов…»
Сколько раз он перечитывал эти строки? «Безбожной, лживой и растленной…» Верейский вздохнул. Это звучало кощунственно. Слишком долго его учили иначе, слишком часто говорили о немеркнущем значении, духовности и глубине этой литературы, о явлении уникальном, исключительном, несравненном. На кафедре Верейский специализировался по Достоевскому, и особых оснований для сомнений не имел.
Сейчас они появились. «Не потому ли, что это коснулось тебя лично?» – спрашивал он себя и отвечал согласием. Да, письма деда резанули душу. До этого, в последние восемь лет, поток грязи и разоблачений, обрушенный на коммунистов, ничуть не задевал Верейского: он никогда не был предан идее строительства нового мира. Алексей замечал и молчаливое равнодушие бабушки, которая всегда лениво выключала репортажи с пленумов ЦК, советские фильмы про гражданскую и новости про надои скота и выплавку чугуна на душу населения. Впрочем, в начале 80-х в идею не верил уже никто: вера в построение коммунизма считалось либо симптомом слабоумия, либо признаком подлейшего карьеризма. Теперь оказалось, что счёт к этой власти был и у него. Личный.
Но власть уже рухнула, лежала в руинах и смердела. С ней посчитался Бог.
Верейский вздохнул. Его дед предъявлял счёт вовсе не власти большевиков, а литературе. Именно её он обвинял в растлении поколений, в безбожии и лживости, именно в ней видел источник распада. Почему? Кем был Александр Верейский? Сам он имел отношение к литературе? «Распалась связь времён…» Алексей подумал было, что в архивах Санкт-Петербурга можно попытаться поискать сведения о фамилии, но тут же покачал головой. Что он найдёт в городе революции? Если дед ушёл с Добровольческой армией, разумней искать в архивах Франции или Германии…
Но и там – что найдешь? Год смерти?
Однако было и другое направление поисков. На кафедре напротив его стола у стены громоздились полки с собраниями сочинений Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Герцена, Достоевского, Толстого, Лескова, Чехова, Бунина, Блока, Есенина, Пастернака и Булгакова, а ещё на самых верхних полках ютилась, как выражался доцент кафедры Михаил Розенталь, «всякая мелочь» вроде Лажечникова, Кукольника да Загоскина. В последние перестроечные годы Голембиовский, идя в ногу со временем, добавил на полки новые персоналии: Шмелёва, Ремизова, Арцыбашева и Зайцева, Набокова, Адамовича, Ходасевича, Иванова, Алданова и Аверченко.
Но дед предъявлял счёт не Загоскину и не Алданову. Он мог говорить только о корифеях. А что говорим мы? Ведь подлинно, что в 17-ом году мы пережили одну из самых страшных духовных катастроф в мире. Обвал морали, обвал культуры, обвал общества. Триста ли, пятьсот лет мы будем наверстывать утраченное? И восполнимо ли оно? Но ведь мы ничего не хотим пересматривать, те же оценки, те же формулировки… Большевики вдобавок страшно кастрировали дореволюционный литературный процесс, вымарав из него имена Суворина, Страхова, Самарина, Аксаковых, оставив там только валеречивые монологи своих предтеч…
– С вами всё в порядке, мой юный друг?
Алексей вздрогнул, поднял глаза и встретил безмятежный в своей старческой рассудительности взгляд Бориса Голембиовского. Верейский хорошо знал эти искушенные глаза Екклесиаста. Старик был его Учителем и во многом сформировал его. Сейчас Верейский перевел дыхание и неожиданно рассказал старику всё: о находке писем деда, о содержании их, даже о том, кем тот был на самом деле.
– Я просто подумал, что никогда не задавался этим странным вопросом, – обронил напоследок Верейский, – почему самый кровавый мировой катаклизм случился именно в стране самой духовной и глубокой, уникальной и исключительной литературы? Это вопреки ей? Или благодаря ей? Но если она подлинно велика, она не могла не влиять на умы, если же влияла, то откуда столько мерзости в народе, на ней воспитанном? А если влияния не было, то в чем её величие и значение? Какова её вина в катастрофе 17 года? Конечно, пока Октябрь считался высшим достижением исторического развития, как нам внушалось десятилетия, такие мысли редко кому приходили в головы…
Голембиовский не удивился. Молча сел рядом, несколько минут бесстрастно разглядывал своего бывшего ученика, потом снял очки, вынул платок и неспешно протёр стекла. Наконец проговорил:
– Вопрос страшный, – он вздохнул, – им лучше не задаваться. – Но, помолчав ещё пару минут, продолжил, – мы едины с прошлым в интеллектуальном отношении и поэтому, чтобы отыскать корни идей, правящих ныне миром, подобает вернуться к тем семенам, из которых они выросли. Если же мы хотим разобраться в истоках духовного краха своей страны – надлежит пересмотреть весь духовный и литературный багаж державы. Но, вы правы, этого не происходит. Мы по-прежнему затвержено повторяем все ту же ахинею, что твердили те, кто рухнули в яму 17-года. Мы зазубрено цитируем те же постулаты, что привели к обвалу. Мы по-прежнему не можем, не хотим и не пытаемся проанализировать произошедшее, взглянуть на него критически, вдуматься в него и переосмыслить. Мы мыслим так, словно обвала не было. Между тем критическое переосмысление былой дури, безусловно, необходимо. Однако…
– Однако? – Верейский быстро наклонился к профессору, – вы хотите сказать, что подобные размышления… Я понимаю, что рублю сук, на котором сижу, но…
Голембиовский с грустной улыбкой покачал головой и продолжил, чуть нажимая на слова.
– Однако обладаем ли мы сами потенциалом для этого переосмысления? Стали ли мы сами качественно иными? Ведь так легко назвать дурным то, что веками звали добрым, облить помоями вчера превозносимое, опошлить высокое…
Верейский покачал головой и твердо ответил:
– А был ли я когда-то не иным, Борис Вениаминович? Вы же сами всё время твердили, что я не от мира сего. Кстати, почему вы выбрали меня из трёх ваших аспирантов?
Зав. кафедрой усмехнулся.
– Именно потому, что вы не от мира сего. Филология – вещь скользкая, релятивистская, любое суждение в ней с равным успехом заменяется противоположным и равно доказывается. И всё же – verum plus uno esse non potest.[1] Мне всегда казалось, что у вас правильный критерий истины.
– А у вас? – осторожно спросил Верейский.
Голембиовский пожал плечами.
– Помните незыблемый филологический закон: заниматься только теми персоналиями, которые вам по душе? Это в чем-то очень верно: влюбленный взгляд видит глубже. Но с годами я понял, что в чем-то это глубоко неверно: любовь ведь и застит взгляд, заставляя многого не замечать. Когда я в юности писал диплом по Лермонтову – я ненавидел лютой ненавистью любого, уничижительно о нём отозвавшегося. Я понимал, что он – не образец нравственности, но влюбленность в его стихи и прозу пересиливала это понимание. Его скорби вызывали сострадание. – Голембиовский вытащил сигарету, Верейский привычным жестом подвинул ему пепельницу. – Сейчас смотрю на него холодным, бесстрастным взглядом, взглядом старика. Я вижу его кощунства, лживость, греховность, для меня понятна и его кара – он умер подлинно по грехам своим. Я его недавно перечитал. Очень критически. Талант. Всё равно талант. Но сколько он испортил во мне… Сколько лет я сам мыслил по-печорински? Мне пришлось похоронить всё, что у меня было, чтобы понять, какой это, в сущности, был подлец…
Верейский удивился. Он знал Голембиовского, как ему казалось, целую вечность, но не понял, о какой порче тот говорит. Впрочем, тот никогда о себе и не распространялся.
– Но так, стало быть, вы стали иным, и можете переосмыслить содержание его книг?
– Могу, князь, – кивнул Голембиовский.
– Бога ради, Борис Вениаминович, перестаньте, – взмолился Алексей, ему подлинно было неловко.
– С чего бы? – Голембиовского окружало облако сигарного дыма, он откинулся в кресле и продолжил, – знаете, Алёша, я недавно прочёл «Солярис» Лема. Не люблю модных новинок и обычно читаю книгу, когда пройдет четверть века со дня написания – тогда становится понятно: уцелела она в вечности или канула в Лету. – Он сбросил пепел с сигареты, и вяло пожевал губами, – мыслей в книжке – на афоризм. Однако, верный. Прежде чем осваивать далекие вселенные и изменять мир, подумай, кто ты? – ибо созданное тобою будет твоим образом и подобием. Если ты – безграмотный неуч, созданный тобою мир будет невежественным. Если подлец – он будет подлым. Если ты плебей – создашь хамское общество, лишенное благородства. Если ты не знаешь Бога – построишь страшный безбожный мир… – Голембиовский снова вздохнул, – в этом смысле я – за аристократию, ваша светлость. Единственные люди, могущие изменить творение к лучшему, это истинные аристократы: мудрецы и святые. Но вот беда: мудрецы считают глупым менять мир, а святые находят Божий мир прекрасным, ибо внутри них самих – рай. В итоге мир меняют только плебеи с «кипящим возмущенным разумом»… И всякий раз… «выходит такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рушится под проклятия всего человечества раньше, чем бывает достроено…» Но беда в том, что оплебееная Россия даже не чувствует сегодня своих потерь, плебеи бредят новыми реформами, забывая, что любые реформы, предпринятые плебеями, всегда оказываются плебейскими. Сегодня в России невозможно назвать хотя бы десяток высоконравственных людей, которым можно было бы доверить управление страной… И надо наконец задуматься – почему? И если задуматься об этом не хочет никто – почему бы не задуматься нам?
– Мне кажется, что для начала надо просто отказаться от старых клише. – Верейский смотрел сквозь клубы сигарного дыма, но, продумывая свою мысль, явно ничего не видел. – Историки литературы постоянно тиражируют кондовую либеральную схему, состоящую в противопоставлении прогресса и реакции и, что ещё смешнее, демократии и тирании, хотя вождь аристократов звался в Афинах олигархом, а предводитель демократов – тираном. Но кто сегодня об этом знает? А в итоге все, у кого можно обнаружить пустопорожнюю фразеологию свободы и утопию равенства, заносятся в разряд прогрессивных умов, прочие осуждаются как реакционеры. А это вздор. Где критерий «реакционности»? Что это? Партии или направления, которые принимали бы наименование «реакционных», никогда не существовало. Это жупел. Сегодня реакционным называется тот, кто не доверяет демократам, реакционерами могут также считаться приверженцы социализма, их же предшественники в 1917 году обвиняли в реакционности царское правительство, равно реакционны сегодня мечтающие о монархии. Это дурной круговорот чёрного пиара в политике.
– И в литературе, – кивнул Голембиовский. – При этом попробуйте понять, что есть прогресс? Каковы его цель, направление, принципы? Прошлогодний октябрьский переворот – реакционен или прогрессивен? Но, – он снова сбросил пепел с сигареты, – даже ярые прогрессисты, думаю, согласятся, что любой прогресс дегенеративен и реакционен, когда распадается душа и разрушается мораль.
– Вот это и есть критерий переоценки, – спокойно подхватил Верейский, – с ним и будем сверяться. Или у вас есть другой, Борис Вениаминович? Категорический императив?
– Да ну его, – зло отмахнулся Голембиовский, – осточертели все эти кантианцы с их автономией, прыгающие в сальто-мортале по ту сторону добра и зла ницшеанцы, поклонники Сартра, озабоченные внутренней свободой, сублимирующие либидо фрейдисты, сюрреалисты, созерцающие себя в зеркале немотивированности, и несть числа последующим – весь этот несчастный мир ищет себя, но что он нашёл? Там взять нечего и тонкость интерпретаций этих глупостей никого мудрее не сделала, ваша светлость.
Верейский снова с укором посмотрел на учителя и ничего не сказал.
– Вам всё равно пока не защититься, – продолжал Голембиовский, – почему бы не поразмышлять на досуге? Об опасности рытья в грязном белье вас и предупреждать не надо, я помню, с каким лицом вы читали письма Достоевского, – Верейский и вправду заставлял себя читать любую личную переписку классиков, – хотя иные литературные реалии, уверяю вас, именно в грязном белье и зарождаются, – усмехнулся профессор, – но главное, как призывал в «Анналах» Тацит, судить sine ira et studio[2]. Давайте постараемся увидеть портрет автора в его книгах, а влияние книг будем оценивать по заповедям…
– Синайским или сионским? – полюбопытствовал Верейский.
– А, что, синайские, по-вашему, реакционны? – усмехнулся Голембиовский, – сионские прогрессивней?
Верейский, несмотря на декларируемый им отказ от кондовых либеральных схем, считал именно так, и Голембиовский кивнул.
– Ладно, литературу страны, возросшей на заповедях сионских, оценивать будем по заповедям сионским. Иное было бы, разумеется, методологической ошибкой. Итак, критерий истины – христианская мораль.
– Сможем ли? – Верейскому всегда была свойственна некая неуверенность в своих силах.
– Почему нет? Возможности понимания текста вовсе не беспредельны, мой мальчик, – утешил его Голембиовский, – безграничны возможности непонимания. К тому же – вопрос-то это всё-таки сугубо академический…
Голембиовский условился с ним, что не будет знакомить Каценеленбогена, Розенталя и Шапиро с их литературными изысканиями, а вот беднягу Маркушу Ригера и бездельника Шурика Муромова к их дискуссиям привлечёт. Это, глядишь, и развлечет ребят, и позабавит…
– Если и Ригер назовёт меня князем – я повешусь, – предупредил Верейский.
Глава 2. «Ангел во плоти»
«Мораль есть учение не о том, как стать счастливым,
а о том, как стать достойным счастья».
Иммануил Кант.
Разговор с Голембиовским странно расслабил Верейского, точнее, словно вытащил из его сердца тупую занозу. То, что учитель понял и поддержал его, облегчило душу. Польстило и проступившее благое мнение о нём Голембиовского, в общем-то, весьма скупого на оценки. Верейский направился домой, на ходу обдумывая состоявшийся разговор. Попытка переоценки классической литературы давала ему возможность забыться от своей потери, уйти в филологические штудии, которые всегда умиротворяли и сосредотачивали. Понравилась и идея потолковать на эту тему с Муромовым и Ригером.
Александр Муромов, сорокалетний блондин с прозрачными голубыми глазами, увеличенными толстыми линзами очков, был филологом от Бога, сиречь, считал, что филология как таковая может существовать и без литературы. Он много лет собирал исторические и литературные курьезы, был необыкновенно интеллигентен и склонен к эвфемизмам. Никогда не говорил: «дурой была, дурой и осталась», но мягко замечал: «время над ней не властно», не мог выговорить посыл с классическим русским трехбуквием, но сообщал собеседнику: «вы далеко пойдёте», рассерженный же, ронял зло и отчаянно: «Да ямбись оно всё хореем!», и живи он в Англии, именовался бы «истинным джентльменом» – за одно только выражение лица. Извечное «витание в эмпиреях» сделало из него богоискателя, а так как искал Муромов Бога исключительно из желания найти Абсолют, то коллеги не особенно удивлялись, что он нашёл искомое.
Ригер же, желчный брюнет с язвительным взглядом карих глаз, напротив, был казуистом и софистом, мог анализировать что угодно, и даже простой и в общем-то риторический вопрос: «На фига попу гармонь?» – мог стать для него темой небольшого доклада: «К вопросу о целесообразности использования клавишно-пневматических духовых инструментов лицами духовного звания…» Он был дурного мнения о времени, когда его угораздило появиться на свет, был пессимистом и в отношении нынешней литературы, полагая, что рукописи современных писателей не только не горят, но и не тонут. Жизнь он проводил, яростно воюя с собратьями по ремеслу, пользуясь исключительно выражениями: «Быть того не может», «Вздор», «Справедливость противоположного я неопровержимо доказал ещё третьего дня». Был у него и особый конёк: Ригер, специализируясь по немецкой и итальянской литературе, увлекся средневековой демонологией, потом как-то нечувствительно занялся и поисками Бога. О результатах он не распространялся, и Верейский только случайно заметил на его шее крест.
Вешаться Верейскому не пришлось: узнав о его происхождении, Ригер лишь рассмеялся и попенял ему на дешевые сигареты: «Теперь, коллега, вы просто обязаны курить «Pall Mall» и «Parliament», ведь noblesse oblige…», Муромов же только уважительно вытаращил глаза. Оба они восприняли идею Верейского, сообщенную им Голембиовским, вполне благожелательно. Муромов и сам, читая в доперестроечные годы материалы очередного пленума, по-диссидентски бормотал себе под нос: «Неужели именно об этом столетья мечтали лучшие люди России?», Ригер же просто был мизантропом. Кроме того, совпали дурные обстоятельства: Голембиовский три года назад потерял единственного сына, Ригер осенью похоронил жену, Муромов был старым холостяком. Дома никого из них не ждали.
Правда, у них обоих тоже возникли вопросы о критерии переоценки.
– Оценить с точки зрения строгой морали? – усмехнулся Муромов, – «Не войди, Господи, в суд с рабом своим, ибо кто устоит?»
– А вот и посмотрим, – спокойно отозвался Голембиовский.
– «Живя согласно с строгою моралью, я никому не сделал в жизни зла…» – припомнил Муромов Некрасова, – но какой с меня эксперт, это же не мой профиль… – почесал он нос, – мне надо многое перечитать, я за своим Честертоном родные персоналии совсем подзабыл.
– А я их и не знал толком-то, – пробормотал Ригер, защищавшийся по Брентано, Гофману и Леопарди.
– Тем свежее будет взгляд, – успокоил Муромова Голембиовский.
– И с кого начнём? – полюбопытствовал Ригер. – Неужто с основоположника? «Замахнемся на Вильяма нашего на Шекспира»?
– С учителя основоположника, с Жуковского. Карамзина опустим. Поищи все, что порочит, – повернулся Голембиовский к Ригеру, – а вы, Шурик, накопайте «поданые луковки». Будете адвокатами Бога и дьявола. Потом сравним.
– Но простите, Борис Вениаминович, в России талант всегда был божественен и делал своего носителя неподсудным морали. «Да, подлец, но ведь какой талант!» – это расхожее мнение, разве я не прав? – поинтересовался Муромов.
– С учётом того, куда это завело страну, – суждение надо признать ошибочным, – усмехнулся Голембиовский, – к тому же – мы рассматриваем именно людей изначально талантливых и потому значим будет как раз примат морали и чести над дарованием. Сиречь, «что толку, что талант, когда такой подлец?…»
На лице Александра Муромова явно читалось сомнение в том, что при таком подходе им удастся сохранить богатство персоналий русской классической литературы, но, так как колебания свои он вслух не высказал, на том и порешили.
В итоге, когда в пятницу закончились лекции и аудитории опустели, все четверо собрались на кафедре. Муромов, хоть и заявил, что не считает себя экспертом, тем не менее сразу угнездился у окна и затребовал кофе с печеньем. Ригер, который готов был обсуждать что угодно, только бы не возвращаться в пустую квартиру, торопливо принёс из их кабинета чайник. Верейский вытащил коробку конфет, оставшуюся у него с Нового Года.
– Итак, без гнева и пристрастия, – проронил Голембиовский, устроившись в хромоногом кресле у задней стены, где извлёк из шкафов автора «Ундины», – без копания в грязном белье, заслуги и вина перед литературой, личность, её воздействие на мир. Участие в гибели России… Я по старшинству – судья. Кто у нас тут адвокат Бога? Муромов. А адвокат дьявола? Ригер. Вам обвинять, Верейский.
Верейский покачал головой. Сама идея переоценки литературы судилищем четырех бобылей-филологов, которому Голембиовский явно придал вид не то инквизиционного Священного трибунала, не то заседания Ватиканской комиссии по канонизации святых, превращалась во что-то инфернально-сатирическое. Но, вообще-то, именно беатификации святых, которые шли в форме диспутов «адвоката Бога» и «адвоката дьявола», стали прообразом системы оппонирования при современных защитах диссертаций, и Верейский понадеялся, что в дальнейшем разговор обретёт конструктивный характер: эти люди были профессионалами. Он взял томик Жуковского и задумался. Тем временем Ригер, оглядев полки, поинтересовался:
– Введём Index Librorum Prohibitorum[3]? – Ригер имел в виду список публикаций, запрещенных к чтению Римско-Католической Церковью под угрозой отлучения. Книги, прошедшие цензуру, печатались с грифом «Nihil obstat», «никаких препятствий», и «Imprimatur», «да будет напечатано» на титульном листе.
– Почему нет? – усмехнулся Голембиовский.
Верейский всё ещё перелистывал свои записи, его почему-то нервно трясло и дрожали пальцы.
– О, пока вы в размышлениях, коллега, расскажу анекдот, – мягко усмехнулся Муромов, и глаза его небесно блеснули из-под очков, – Жуковский, как известно, обучал семью Государя Императора русскому языку и изящной словесности. Как-то раз при большом стечении народа голубой крови к нему подошла наивная немецкая принцесса, увидевшая на заборе в саду слово, обозначающее мужской детородный орган, и при именитых гостях вопросила: «Господин поэт! А что сие слово означает?» Все замерли… Жуковский же, не растерявшись и не поморщившись, ответил:
– Помните, ваше высочество, мы проходили повелительное наклонение? В великорусском языке есть глагол «совать», вставлять что-либо куда-либо. Так вот, от «совать» повелительное наклонение «суй!». В малороссийском же диалекте русского языка есть глагол «ховать», прятать. Так вот, то, что вы изволили сказать, есть не что иное, как повелительное наклонение от «ховать». Однако слово сие употребляется лишь низшими сословиями, и в приличном обществе желательно его не произносить.
Все вздохнули с облегчением. Принцесса ушла, а к Жуковскому подошел государь-император, вынул из кармана золотые часы с бриллиантами и подал поэту со словами: «На, *уй в карман! За находчивость!»
Муромов умел рассказывать анекдоты, и все расхохотались.
– Ну, будет, пошутили и хватит, – оборвал Борис Голембиовский смеющихся коллег. – Итак, князь, начитайте…
– Претензий нет… – накануне Алексей всю ночь читал автора «Светланы». – Благородный пансион при Московском университете, увлечение идеями самосовершенствования, дневники с целью «познать самого себя», выработать собственные жизненные принципы. В дневнике юный Василий Андреевич рассуждает о вере и разуме, о свободе воли, о молитве, об отношениях человека к Творцу… Питомец добродетели, певец горациевой умеренности, этот пиит чтил добро не за страх, а за совесть.
– «Отвергни сладострастья погибельны мечты…» – это едва ли ни единственный призыв к целомудрию во всей нашей литературе… – поддакнул Муромов.
Верейский кивнул и продолжил.
– Жуковский – выше всяких соблазнов, он безгневен и мягок, бескорыстен и благостен, как бесплотный дух. У него нет страстей, только надежды и воспоминания, он психологически не от мира сего, живет в неясностях души, в туманных мерцаниях сердца, на рубеже «таинственного света», и не столько чувствует, сколько предчувствует. – Меланхолическая безоблачность Жуковского, лишенная самодовольства, всегда притягивала Верейского. – Он в самом деле был искренне умилен жизнью, таинствами веры и мистериями бытия, дух его спокоен, точно дремотен. Даже жизненные драмы, вроде погибшей любви к Марии Протасовой, не разбивали сердце певца спящих дев. Он не скиталец, не блудный сын, он сам больше всего похож на текучую Ундину. Это романтик, но, в отличие европейцев, Жуковский представляет человека не игрушкой в руках враждебных ему потусторонних сил: выбор между добром и злом делает сам человек, спасаясь или обрекая себя на адские муки. Жуковский – христианин до мозга костей. Это было идеальное начало национальной литературы.
Голембиовский кивнул и обернулся к Муромову. Адвокат Бога не замедлил со своим вердиктом.
– Согласен. Благодушие и кротость, благонравие и благоволение, доверчивость и скромность. Его доброе слово неизменно совпадало с добрым делом. Неизменно пользовался своей близостью к трону, чтобы вступаться за всех гонимых и опальных. Ни один из писателей ни до, ни после Жуковского не отзывался на такое количество просьб о помощи, протекции, об устройстве на службу, о назначении пенсиона, об облегчении участи, сколько выполнил их Жуковский. Его благодеяния перечислить просто невозможно: с того момента, как он получил доступ ко двору в качестве официального лица, вся его жизнь была полна ежедневными хлопотами по таким прошениям: об этом пишут все. Что до поэм и стихов… В российской словесности от его присутствия стало светлее.
Верейский дополнил:
– Я тут нашёл в его записках…Удивительная мысль. «История всех революций, – рассуждает Жуковский, – всех насильственных переворотов, кем бы они производимы ни были, бурным ли бешенством толпы, дерзкою ли властью одного, – разрушение существующего. Это как опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслию, что можно бесплодную землю, на которой они стоят, заменить более плодоносною. Но для кого и когда? Время возьмёт своё, и новая жизнь начнётся на развалинах; но мы-то только произвели гибель, а произведенное временем из созданных нами развалин нимало не соответствует тому, что мы хотели вначале. Время – истинный создатель, мы же в свою пору – только преступные губители; и отдаленные благие следствия, загладив следы погибели, не оправдывают губителей. Средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем – есть истинное зло, хотя бы и благодетельное в своих последствиях. Одним словом, живи и давай жить, а паче всего: блюди Божию правду…»
– Не слишком ли он прекрасен? Это кто, ангел или человек? – поднял брови Голембиовский.
– Не знаю, но вот ещё дивный случай, кажется, Зейдлиц описывает… – промурлыкал Муромов, – профессор Дерптского университета прогуливался с толпою студентов и увидел молодого человека, окутанного шинелью, и просившего милостыни. Профессор умно и красноречиво объяснил, как постыдно сие занятие, прибавив, что гораздо лучше жить своими трудами, нежели подаянием. Молодой человек слушал в молчании и только спрятал протянутую руку. После мимо молодого нищего проходил Жуковский, он достал из кошелька монету, подал нищему и сказал: «Ты так молод, почему бы тебе не заняться каким-нибудь делом?» Молодой человек залился слезами и, развернув шинель, и оказалось, что ноги его покрыты ужаснейшими ранами. Жуковский узнал, что он отморозил их, когда ездил по зимним дорогам с немецким путешественником. Далее Дерпта он ехать не мог, а господин его, не имея более нужды в русском слуге там, где все говорят по-немецки, расчел его и отпустил. Молодой человек, ожидая, что ноги заживут, жил на квартире. Но раны становились хуже и хуже, когда уже не осталось более денег, он кое-как выполз на улицу и в первый раз решился просить милостыню.
Растроганный Жуковски достал пятирублевую ассигнацию и подал её больному, но, удаляясь, подумал: «Что будет делать этот бедняк, когда истратит эти деньги?» Он воротился к больному и отдал все, что было в его бумажнике – двести рублей, и убежал, не слушая благословений молодого человека.
Через час мимо нищего проехал доктор медицины и хирургии и начальник университетской клиники профессор Мойер. Увидя карету, больной стал кричать: «Остановитесь!» Кучер остановил лошадей. «Я не нищий, – поспешил сказать больной, – но я очень болен и имею чем заплатить за свое лечение. Милостивый государь! Будьте так добры, рекомендуйте меня доктору, который взялся бы вылечить мои ноги!» Это было по части Мойера. Он вышел из кареты, осмотрел больные ноги и сказал больному: «Я сам доктор и буду лечить тебя», – Мойер, подняв больного на руки, посадил в карету. Дорогою больной рассказал ему, как прохожий облагодетельствовал его, но Мойер отказался от денег и привез молодого человека прямо в клинику. А спустя неделю Мойер пригласил своего друга Жуковского осмотреть свою больницу. Когда они подошли к одной кровати, больной встал и бросился в ноги Жуковскому, признав в нем барина, что отдал ему все свои деньги.
Коллеги помолчали.
– А вот предсмертное письмо Жуковского к жене, Елизавете Рейтерн, в двадцать лет влюбившейся в 58-летнего поэта, – вздохнул Верейский, – написано по-французски: «Прежде всего из глубины моей души благодарю тебя за то, что ты пожелала стать моею женою; время, которое я провел в нашем союзе, было счастливейшим и лучшим в моей жизни. Несмотря на многие грустные минуты, происшедшие от внешних причин или от нас самих – и от которых не может быть свободна ничья жизнь, ибо они служат для нее благодетельным испытанием, – я с тобою наслаждался жизнью в полном смысле этого слова. Я лучше понял её цену и становился все тверже в стремлении повиноваться воле Господней. Этим я обязан тебе, прими же мою благодарность и вместе с тем уверение, что я любил тебя как лучшее сокровище души моей. Ты будешь плакать, что лишилась меня, но не приходи в отчаяние: «любовь так же сильна, как и смерть». Нет разлуки в царстве Божием. Я верю, что буду связан с тобою теснее, чем до смерти. В этой уверенности, дабы не смутить мира моей души, не тревожься, сохраняй мир в душе своей, и её радости и горе будут принадлежать мне более, чем в земной жизни. Полагайся на Бога и заботься о наших детях, – прочее же в руке Божией. Благословляю тебя, думай обо мне без печали и в разлуке со мною утешай себя мыслью, что я с тобою ежеминутно и делю с тобою все, что происходит в твоей душе…»
– Он – работяга, – дополнил Муромов. – Вот свидетельство Петра Вяземского: «Бывало, придешь к нему в Петербурге: он за книгою и делает выписки, с карандашом, кистью или циркулем, и чертит, и малюет историко-географические картины. Подвиг, терпение и усидчивость поистине бенедиктинские. Он наработал столько, что из всех работ его можно составить обширный педагогический архив.»
– Он, что, ангел? – снова язвительно вопросил Голембиовский, – вы нашли что-нибудь дрянное, Марк? Безгрешный он, что ли?
– Да как сказать, – почесал переносицу Ригер, выискивая в своем ранге адвоката дьявола что-то порочащее поэта, – что до грехов… незаконнорожденный и наполовину турок…
– Ну, это не его грехи…
– Тогда не знаю, о нём никто ничего дурного не произнес. Пётр Вяземский, скупой на похвалы, сказал: «Il a une belle ame»[4]. «Он стройно жил, он стройно пел». Это Тютчев. «Жуковский истинно с дарованием, мил и любезен и добр. У него сердце на ладони. Ты говоришь об уме? И это есть, поверь мне» Это Батюшков. Среди друзей Жуковского было принято подшучивать над его целомудрием, но Смирнова-Россет высказывается серьезно: «Жуковский был в полном значении слова добродетельный человек, чистоты душевной совершенно детской, кроткий, щедрый до расточительности, доверчивый до крайности, потому что не понимал тех, кто был умышленно зол». Николай Смирнов: «Жуковский, можно сказать, имеет девственную душу. Я никогда не видал его в гневе или в пылу какой-нибудь страсти, никогда не слыхал его даже говорящим скоро или отрывисто, даже в спорах». А вот Муравьев: «Трудно вообразить себе существо более чистое и нравственное: в зрелом и уже почти старческом возрасте сохранил он всю девственность мыслей и чувств, и всё, что истекало из его благородного сердца, носило на себе отпечаток первобытной, как бы райской невинности; казалось, в течение долгой жизни мир со всеми своими житейскими соблазнами обошёл его и миновал, он остался чуждым всякой страсти, всякого честолюбия…» – Ригер почесал за ухом и полистал свои выписки, – а, вот накопал воспоминания из «Еженедельного нового времени» за 1879 год. «В 1840-м году Жуковский приезжал в Москву. Друзья и почитатели его таланта задумали угостить его обедом по подписке; когда ему прочли список, он попросил, чтобы одного профессора непременно исключили, и рассказал, что, когда наследник-цесаревич посещал в сопровождении Жуковского университетские лекции, этот профессор целый час выводил его из терпения чрезвычайно льстивыми восхвалениями его таланту. «Этой бани я не забуду…», – закончил Жуковский» Но я не понял, это скромность или злопамятность?
– Скромность, – великодушно решил Голембиовский.
– Даже злоречивый Вигель, оценки которого окрашены недоброжелательным пристрастием, тот самый, кого Пушкин просит «пощадить его зад», а Греч прямо именует «мужеложником», – продолжил Ригер, – и тот говорил о Жуковском хорошо. Это, кстати, наиболее убедительное свидетельство того, что нравственное совершенство поэта было вне всякого сомнения.
– Что ещё?
– Николай Коншин. У него есть странное свидетельство. «Однажды барон Розен, бывший секретарем при наследнике, рассказал, что нашёл латинское письмо к Жуковскому, года два назад полученное, валяющимся между бумагами и прочитал его. Старик-пастор, у которого он в юности гостил, где-то в Германии, которого любил, как отца, а дочерей – как ангелов, его оживляющих для поэзии, писал ему, что он лишится всего, если не заплатит кредиторам двух, трех тысяч гульденов, но верит, что он ему поможет, ибо слышал, что он теперь в милости у русского царя. Барон говорит, что побежал к нему и торопливо спросил, что он сделал по этому письму, ибо сроки, данные пастором, все уже прошли.
– Я не понял письма, – отвечал хладнокровно Жуковский, – и ничего не сделал, – и предложил Розену сигарку.
Человек, которого сердца не пошевелили огненные черты картин юности, уже – не поэт…»
Верейский и Муромов переглянулись.
– Жуковский впервые выехал в Германию, кажется, в 1819 году. Какая юность? Ему было за сорок… – протянул Муромов.
– Как мог немецкий протестант писать на латинском языке? – иронично вопросил Верейский. – А если он католик – почему он в Германии?
– И барон Розен обладал столь совершенным знанием латыни, что легко прочёл латинское послание? Откуда? – усомнился Муромов.
– И запросто прочёл не ему адресованное письмо? – ядовито дополнил Верейский.
– Ладно вам, – усмехнулся Голембиовский. – Будем считать поклепом…
Верейский полистал те выписки, что сделал накануне.
– Вот ещё критические замечания Жуковского: «Драмы Гюго – пародия на романтизм», «Дюма-сын всё вертится около женщин полусвета или полумрака и около седьмой заповеди. И не так, как делали старики доброго минувшего времени, чтобы посмеяться и поповесничать, а с доктринерскою важностью, с тенденциозностью, с притязаниями на ученье новой нравственности. Уморительно-скучно в исполнении и уморительно-смешно в намерении…». А вот мнение о Французской революции, излившей на мир «цареубийства ужас, безверия чуму и бешенство разврата…»
– Умер по-божески? – смерть много значила в глазах Голембиовского. Он не терпел самоубийц и умерших по-дурацки.
Верейский кивнул.
– Скончался в ночь с пятницы на субботу Фоминой недели, исповедавшись и причастившись Св. Таин. Священник Иван Базаров сохранил свидетельство близких поэта о его последних словах: «Душа уже готова!» И это было последнее слово Жуковского…» Похоронен в Александро-Невской лавре. – Верейский поднял глаза на коллег, – так что? Прощен? Спасен? Беатифицируем? Канонизируем?
Голембиовский хмыкнул и развёл руками.
– Кто мы, чтобы судить святых? «Nihil obstat»[5].
Персоналию решили оставить в литературе. Обговорив дальнейшие планы, сговорившись собираться по средам и пятницам после семи, ниспровергатели собственных стульев порешили в следующий раз заняться Грибоедовым.
Глава 3. «Горе от умничанья…»
«Быть искренним в жизни – значит вступить в бой с открытой грудью
против человека, защищенного панцирем»
Оноре Габриель де Мирабо.
– Да вы с ума, что ль, посходили? – пробурчал Голембиовский, остановившись на пороге кафедры и заметив, что Ригер выставил на стол бутылку коньяка, Верейский, не сговариваясь с ним, принёс палку сервелата и батон хлеба, а Муромов притащил пакет апельсинов, – что за банкеты?
Однако помог нарезать бутерброды и достал рюмки.
– В памяти-то классика освежили?
Все трое кивнули: Верейский накануне перечитал «Горе от ума» и мемуары современников Грибоедова, Муромов и Ригер тоже основательно порылись в библиотечных томах. Однако физиономии у всех троих были не благостные.
– Это клинок другого закала, – уныло проронил Верейский, – личность пришлось складывать из дневников, писем, официальных документов и слов современников. Но мнения Грибоедова о себе граничат с актерством, документы ничего не проясняют, воспоминания же современников крайне противоречивы. Даже если учесть lapsus memoriae[6] воспоминаний на склоне лет, романтизацию событий и намеренное искажение истины из-за цензурных, пристрастных или деликатных причин, – он развёл руками, – образ разваливается. Поражает бедность мемуарной литературы: менее десятка связных рассказов из записок и дневников его близких и дальних знакомых – вот и всё. Это особенно странно, если вспомнить, что сферы общения Грибоедова за тридцать четыре года его жизни калейдоскопично менялись: немалый клан родственников, университетские приятели, сослуживцы-гусары в годы войны, потом кавалергарды, преображенцы, семеновцы в Петербурге, литераторы и театралы, чиновники Коллегии иностранных дел, кавказские и персидские приятели и недруги, новые московские и петербургские знакомства 1823–1825 годов, встречи в Киеве и в Крыму 1825 года, товарищи по гауптвахте Главного штаба 1826 года, и снова Кавказ, и снова Персия…