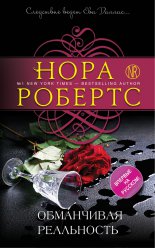Духовная грамота отшельника Иорадиона Положенцев Владимир
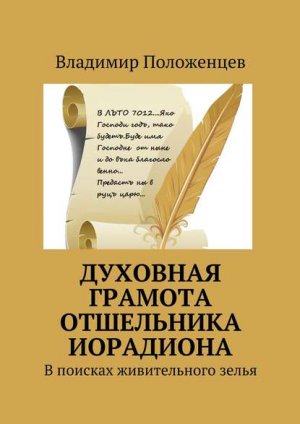
Меншиков подвинулся на лавке, первым взял ложку, попробовал гнозию.
– А ничего, минхерц, с утрева, по-моему, в самый раз.
Морщась, царь испил из золотого шкалика водку. В голове несколько прояснилось, боль стала отступать. Закусил гнозией. Захотелось выпить еще, но нельзя, у маменьки сегодня быть обещался и с Ромодановским говорить о посольстве в Европу. Стрельцы вроде присмирели, пора ехать, ума набираться по корабельному делу. Да и по другим наукам разным тоже. Гнозия, а ничего, оживляет. Надо бы с винопивством попридержаться. Вон уже мнихи ропщут, старец Авраамий из Андреевского монастыря послание прислал. Обвиняет меня, царя – батюшку в «потехах непотребных». Вообще-то и ему давно пора крысиную морду своротить, суется, куда не следует. Ладно, успею.
– А что, Захарыч, – спросил, ломая стерляжью голову Петр. – Иного доброго похмелья разве нет, кроме гнозии? Слышал Гришка Отрепьев с перепою лягушек живых жрал.
Ерофей Захарович хитро прищурился.
– На то он и самозванец, чтобы всякой нечистью кишки набивать. – Отер уголки губ, расселся на лавке, давая понять, что ему есть о чем рассказать царю.
Меньшиков без спросу налил себе, выпил, потом еще.
– Будет, – подпихнул его царь, продолжай, боярин.
Втянув ноздрями воздух, который показался Скоробоеву свежее утреннего ветра, помяв пальцы, унизанные тяжелыми перстнями, продолжил:
– В старину, еще при великом князе Василии Темном, знали весьма пользительное похмельное зелье. Сразу на ноги ставило, сколько с вечера не выпей. Называлось оное – заряйка, что у волжских народов означало зарю, рассвет, просветление после хмари. Сию заряйку один отшельник изготовил. Походило то зелье на вино шипучее, да не пьянило.
Обретался сей отшельник-старец на Волге, на малом островке княжества Тферского. И, якобы, был он когда-то боярином, да не простым, а сродственником великого князя. Егда Шемяка с Иваном Можайским пленили Василия Васильевича в Троицком монастыре, боярину удалось сбежать да затаиться в глухом месте, на речном острове.
– Да, – огладил густую бороду боярин Скоробоев, видя, что и царь и холоп Меншиков внимательно его слушают. – Великого князя Василия супостаты скрутили, потому как вся его стража вином упилась. Шемяка его в Москве и ослепил. Словом, пропили стрельцы светлые княжеские очи. Что ж, видно, и татарве не гулять бы долго по Руси, ежели бы не винопивствовали люто русские князья и не грызлись промеж собой с похмелья.
Речь Ерофея Захаровича проистекала мелодично, неспешно, будто былину сказывал. Царь разомлел и от гнозии и от рассказа.
– Сродственник Василия решил более в Москву не вертаться, а поселиться вдали от людей, в Тферьском княжестве, сделаться отшельником. А ко всему прочему изготовить зелье, которое могло бы избавить Великое княжество Московское от пьяного недуга. Нет, не от пития, уберечь. Это невозможно. «Руси есть веселие пити, не можем без того жити!» – говорил князь Владимир Святославович. А спасти от жестокого похмелья, что и заставляет вновь браться за чарку.
– На кого, боярин, намекаешь? – грозно сверкнул очами Петр, наливая себе очередной стаканчик водки. – Думаешь, я забыл про твои делишки с Сонькой? Смотри у меня, все припомню.
Царь выпил, закусил гнозией, погрыз рыбью голову, подобрел.
– Ну, уж не трясись, сказывай дальше.
Боярин пожевал гнилыми зубами неосязаемую во рту крошку, продолжил:
– Так и убег княжеский клеврет от Шемяки, боясь смерти, уединился на Волге, вырыл себе нору под огромным дубом и стал выдумывать похмельное зелье. Одно лето, а то и два, может и десять копошился он на острове, не ведомо. Токмо эликсир все же изготовил.
Вначале испробовал его на деревенских смердах и те, все как один, поутру водкой, али чего они там в те времена пили, опохмеляться перестали. Тогда пустынник послал в Кремль великому государю Ивану III подарок – два бочонка снадобья с посланием – так, мол, и так, примите на пробу от божьего человека пару ведер чудодейственного эликсира. Оное, де, спасет русские души от нестерпимого пьянства и растления.
Похмелье средство понравилось государю Ивану Васильевичу. Он велел доставить отшельника ко двору.
«Вот, что, кудесник, – сказал царь, когда к нему привели нечесаного, пахнущего трясиной и мухоморами старца. – Ты зелье-то свое вари, да токмо для меня лично. И рецепта чудодейственного никому не открывай. Я намереваюсь монополию на питие ввести и кабаки государевы повсюду устроить. А что же энто будет, ежели мужики, да стрельцы, да все остальные людишки опохмеляться вином холодным и горячим перестанут? Никакого пополнения казне. Один убыток. Так что зелье твое хоть и верное, но для государства нашего страшнее татарского нашествия».
Загрустил старец, не на то он рассчитывал. Хотел спасти землю русскую от напасти дьявольской, а выходит, должен сидеть он в подвалах кремлевских и варить варево для царя Ивана, чтобы тот с перепою да ночей бурных в одиночку живот свой поправлял.
Не открывшись никому, что он в прошлом ближний боярин великого князя Василия Васильевича, что у него в Москве палаты и сродственники за Белым городом, старец взял да и сбежал обратно к себе на остров.
Не успел отшельник добраться до своей норы, как приплыли к нему на стругах смерды из окрестных деревень.
«Ты, – глаголят, – старец, вестимо, божий человек. И зелье твое волшебное, с перепою жуть как помогает. Однако не хотим мы его больше пить, не надобно. Никакого веселья от него душе человеческой нет. Что же энто выходит? Погулял с вечера, скажем, до смоляных глаз, а с рассвета на работу? Нет, мы так не желаем. Первейшее удовольствие – это поутру с похмелья вина горячего али меду крепкого испить, да потом день другой в запое покуражиться. Мы бы сами твоего зелья и не пили никогда, если б не бабы наши. Насильно в глотку вливают. Так что снадобья похмельного нам твоего не надобно, а ты сам не порть мужиков и уходи куда-нибудь отсюда прочь».
Но отшельник, уходить со своего насиженного места не собирался. Дураки мужики, – рассуждал он, счастья своего не зрят и не разумеют. Однако придет время, оценят меня на всей Святой Руси.
А между тем разгневался государь-самодержец Иван III, что кудесник седовласый сбежал от него и приказал, во что бы то ни стало вернуть пустынника в Кремль.
Примчались стрельцы на остров и увидели возле многовекового дуба распростертое тело старца с разрубленной головой. Кровища еще даже не запеклась. Кто-то совсем недавно отправил отшельника гулять по райскому саду.
На покойнике стрельцы обнаружили золотую иконку с каменьями и именным вензелем рода Налимовых. Не стали ее красть убивцы, видно, богобоязненными были. А в норе государевы люди нашли красные сафьяновые сапоги, кафтан, расшитый золотом и шелковые порты. Все говорило о принадлежности отшельника к именитому роду. В той же язвине хранились бочонки с ягодами и толченой бурой травой. На одной из кадок было написано: «ЗАРИАIКА».
На противоположном краю острова, в зарослях ивы стрельцы отыскали целую винокурню – чаны, кадки, сосуды малые и большие, деревянные черпалки и прочую утварь убиенного пустынника.
По причине смертоубийства отшельника, с пристрастием допросили всех окрестных мужиков и баб. Многих пытали на дыбе, рвали раскаленными клещами ребра и ноздри, да так ничего и не узнали. Смерды и свободные землепашцы не отрицали, что увещевали старца убраться с Волги куда подальше, потому как не ведали, что кудесник именитого рода, но в убийстве не сознавались.
Когда Иван III узнал, что пустынник ни кто иной, как его дальний сродственник, сменил гнев на милость. Однако велел похоронить Налимова не в родовой усыпальнице, а в Ильинском монастыре, что находился недалеко от того волжского острова.
Что же касается самого зелья, то пятеро мужиков, которые помогали боярину его варить, показали: в большой чан боярин засыпал измельченные корни папоротника и корни белых лилий. Туда же клал цветки боярышника, зеленую, не поспевшую бруснику и волчьи ягоды со шляпками молодых мухоморов. Все заливал кипящим лосиным молоком. Остужал, настаивал две седмицы, затем смешивал забродившее месиво с какой-то красной травой с квадратными ягодками, которую называл заряйкой. А вот где он эту травку брал, что она такое, где растет, мужикам старец не сказывал, а сами они нигде ее не встречали.
– Ну и как, – спросил Алексашка, освежая царский золотой стаканчик березовой настойкой, – так и не узнали, где Налимов собирал эту самую миглощу?
– Все обыскали в тех краях, Александр Данилович. Государь даже награду сулил в сто рублев самому расторопному, да так никто не нашел бурую траву. Пробовали варить зелье с другими травами, да только опосля такого эликсира, черти, прости господи, перед глазами прыгали.
Петр выплеснул из миски на пол оставшуюся гнозию, налил туда водки.
– Чудно, – молвил царь, – неужто акромя тебя о той заряйке теперь никто не ведает?
Ерофей Захарович пожал плечами. Прямого ответа не дал, решил досказать сказку.
– После смерти боярина Завойского-Налимова, на том острове развелось несметное количество змей, его стали считать проклятым, прозвали Василисковым. Будто бы раз в год, в день своей гибели, отшельник ходит по местным деревням и душит пьяных мужиков.
Изрядно захмелев, Петр Алексеевич сначала рубанул рукой воздух, потом похлопал боярина по плечу.
– Доброе твое похмельное месиво, – сказал царь Петр, – если б ты еще рецепт того зелья знал, о каком сказывал, полковником бы тебя пожаловал. Сейчас бы нам тот эликсир зело пригодился. Шведов, да крымских татар пора воевать, а стрельцы и ночью не просыхают. Хотя, может, и прав был царь Иван, ежели все пить перестанут, с чего казну пополнять? Торговлю надо с голландцами да немцами развивать. Ух, дармоеды, всех вас на дыбе поломаю, доберусь, ждите. И тебя, Алексашка, повешу, потому как вор.
Меншиков хорошо знал и чувствовал своего хозяина, угроз не испугался, даже бровью не повел.
– Стрельцам, конечно, вино пить не запретишь, минхерц, – заговорил задумчиво Александр Данилович. – Коль им каждый днесь вина не отпускать, взбунтуются, чем им еще заняться? А вот зелье похмельное иметь было бы при себе вельми полезно. Что, ежели отправить кого-нибудь на тот змеиный остров, поискать травку красную, али ты все придумал с испугу, Ерофей Захарович?
Гроза царская миновала, это понял и Скоробоев, потому расправил плечи, осмелел, даже сделал вид, что обиделся:
– Что мне предок сказывал, то я вам и поведал. Травку, вестимо, поискать можно, Петр Алексеевич, почему бы и нет, да только много лет минуло. Тогда-то найти не смогли, а уж теперь ее и подавно не сыщешь.
– Найти что хочешь можно, – сказал Меншиков, – было бы желание. Только сдается мне, сказки все это, боярин, не обессудь. Наливай.
В тот 29-й ноябрьский день ни царица Наталья, ни князь-кесарь Ромодановский не дождались у себя в селе Воробьево великого государя Петра Алексеевича.
Утро туманное
Со двора Федор вошел в пристройку, которая вела в комнату, соседствующую с той из которой он только что вышел. Прямой проход между ними давно заколотили, он уже и не помнил когда и зачем. Дверь комнаты тяжело вздрагивала, будто в нее стучали тараном. Однако березовый дрын, которым она была подперта, не давал двери открыться.
Арбузов откинул дубину ногой. Дверь приоткрылась, и в туже секунду рядом с ухом просвистело гигантское копыто. Федор не придал этому особого значения.
– Доброе утро, женолюб, – поздоровался он с быком по кличке Федор Иванович, – слышу клич не простого солдата, а настоящего воина!
Ответить на приветствие, должным образом Федор Иванович не мог, так как плотно упирался мордой в окно. С двух сторон его тяжело вздрагивающие бока сжимали стены узкой комнатушки. Бык поднял хвост и выпустил на любимые сапоги Федора мощную навозную струю.
Был Федор Иванович быком не простым, а наичистейших шотландских кровей. Его вывезли из Англии вместе с двенадцатью такими же полостнорогими, как значилось в документах, сородичами за год до развала Советского Союза. Каждый шотландец обошелся совхозу «Красный путь» в копеечку, а именно в 50 тысяч фунтов стерлингов за одну рогатую голову, но на что только не пойдешь ради выполнения государственной продовольственной программы. Заморские производители должны были значительно улучшить генофонд областного парнокопытного стада. Однако сразу же возникли непредвиденные трудности. Шотландцы категорически отказывались не только вступать в какие-либо контакты с местными телками, но даже глядеть в их сторону. В свою очередь невесты, то ли от страха, то ли от огорчения, почти перестали доиться.
Самым мощным, почти под тонну весом, был бык с белым звездообразным пятном на правом боку и красными завитушками на лбу. Ему построили специальный металлический вольер с воротами и чересчур грамотные совхозные доярки за этот «железный занавес» окрестили производителя Черчиллем.
Впрочем, на эту кличку шотландец не отзывался и, вообще, никого к себе не подпускал. Первым, кто нашел с Черчиллем общий язык, оказался тракторист-механик Федор Арбузов, да и то случайно.
После плотного обеда и незамысловатого аперитива в виде стакана самогонки, Арбузов прилег вздремнуть в прицепе своего трактора, из которого еще не выгрузили свежескошенную траву для иноземных производителей. Проснулся он под вечер от нестерпимой щекотки в носу. Проснулся и обомлел.
Страшный Черчилль лизал его ноздри, а также щеки, глаза и губы своим теплым и шершавым, похожим на мокрое вафельное полотенце, языком. Федор оцепенел, словно его окунули в гипсовый раствор и высушили.
Минут через пять, видя, что бык не проявляет агрессии, он несколько осмелел, потрогал рукой его окольцованное ухо. Черчилль принялся лизать и руку. Тогда Федор встал, обнял шотландца за шею, поцеловал в красные упругие кудри.
Эту сцену с другой стороны «железного занавеса» наблюдали изумленные доярки, а вместе с ними и директор совхоза товарищ Потопов.
Когда Федор вышел из вольера, он грозно спросил:
– Ты как туда, идиот, попал?
А попал в загон Федор, как выяснилось, очень просто.
Племенных быков, которых держали в разных вольерах, все очень боялись, поэтому завтрак и ужин им ссыпали прямо с прицепов, не открывая ворот загонов.
Поиски мирно спавшего после обеда Федора, в обязанности которого и входило ссыпать корм, продолжались часа полтора, а затем рабочие совхоза взяли и сами вывалили сено из прицепа трактора грозному Черчиллю. Среди клевера, лютиков и одуванчиков никто Федора и не заметил.
С тех пор Черчилль позволял заходить к себе в вольер только Федору, и вообще стал его четвероногим другом, чем-то вроде собаки.
Порой у Федора, как и у всех нормальных людей, случались запои, и он на работу не выходил. И тогда шотландец отказывался от приема пищи, тосковал, звал своего приятеля во всю мощь своей бычьей глотки. В такие дни местные буренки окончательно переставали давать молоко. Поэтому товарищ Потопов распорядился доставлять Федора из дома в совхоз, в каком бы состоянии тот не находился да еще давал опохмелиться.
Причем наливал не чистую водку, а наполовину разбавленную забродившим капустным рассолом. Утверждал, что с похмелья это первое дело.
Доярки смеялись, говорили, что Федор с Черчиллем близнецы-братья по разуму, а потому вскоре стали называть шотландского приятеля механика не Черчиллем, а Федором II или просто Федором Ивановичем, как и самого Арбузова.
Лишь только СССР приказал всем долго жить, в совхозе начали тощать не только доярки, но и шотландские быки. Скрещивать их было не с кем, да и незачем. Кормить тем более. Решили сдать на мясо. Позволить зарезать своего любимца Федор, разумеется, не мог.
Темной дождливой ночью Арбузов пришел на ферму и спокойно, так как сторожа давно разбежались, увел Федора Ивановича к себе в деревню. Спрятал он полостнорогого шотландца нигде, нибудь, а у себя в доме, в комнате покойной матушки.
Товарищ Потопов, хоть и не блистал интеллектом, все же быстро сообразил, что быка похитил Федор. В то время сельские коллективные хозяйства затрещали по швам по всей стране. Крестьяне и крестьянки тихо сидели по домам, пили бражку и с ужасом наблюдали, как быстро тонет, словно Титаник, Совдепия. Никто ее раньше особенно не любил, но теперь не понятно было, как жить дальше.
В один из обычных хмурых дней из Центра докатилась очередная волна нововведений – «развивать и поощрять фермерское движение». Быстро сориентировавшись, товарищ Потопов не стал угрожать Федору милицией, а предложил ему добровольно зарегистрироваться фермером и взять уже официально на откорм, причем безвозмездно, своего любимого быка. При этом пригрозил:
– Если откажешься, заведу дело по факту хищения госимущества в виде крупнорогатого шотландского производителя мужеского пола. А также в намерении с ним скотоложства. В тюрьме тебя примут с распростертыми объятьями. Ха-ха, шучу. Почему бы тебе, Федор, и впрямь не заняться фермерством? Поможем всеми возможными средствами. На всю страну прославишься.
О славе Федор не думал, его очень напугало слово «скотоложство», он точно не знал что это такое, но смутно догадывался, а потому, быстро согласился. Вскоре «Красный путь», даже ни с кем не попрощавшись, растворился в мутных водах дикого капиталистического океана. Работники разбежались кто куда, не забыв прихватить с собой все движимое и недвижимое имущество совхоза. Разобрали по винтикам даже «железный занавес».
С тех пор Федор Арбузов безвылазно сидел в своей деревне «Старые Миголощи», которая находилась на реке Медведица, в десяти километрах от бывшего совхоза.
Он, как и чем мог, латал свой старый дом и жил надеждой на то, что рано или поздно его друг Федор Иванович принесет ему хорошую прибыль. В районной газете он несколько раз давал объявление: «Осеменяем телок любых кровей в целях улучшения породы за 10 у. е.»
Однако желающих осеменяться, почему-то не находилось.
В густонаселенной когда-то деревне «Старые Миголощи» теперь жили только пять человек. Он Федор Арбузов, егерь – лесник Валька Брусловский, мнивший себя потомком знаменитого генерала Брусилова, девяностолетняя баба Настя, бывший шофер директора совхоза Иннокентий Дрынов да еще, кажется, какой-то старик, которого давно никто не видел.
Летом в деревне появлялись москвичи, облюбовавшие к великому удивлению Федора эти дикие комариные места. Некоторые даже ставили собственные дома. С помощью мужиков-строителей из Новых Миголощ. Иногда к ним в помощники набивался Федор. Какую-никакую копейку, а получал. Но кормила его в первую очередь, конечно, река. На рынке в Кимрах золотозубые, низкозадые торговцы с Юга охотно брали оптом копченых лещей и жерехов по десять рублей за штуку.
Фермер вывел своего любимца во двор, привязал к большой ольхе. Дал сена, поставил ведро с водой, из которого сам прежде немало отпил.
С Медведицы еще наползал слабый туман. Было свежо и солнечно. Голова стала понемногу проясняться, даже улучшилось настроение, но общее томление в организме не ослабевало. Федор потрепал быка за красные завитушки и понял, что придется идти к леснику Вальке опохмеляться.
Деревенская дорога, как всегда в дождливые годы, превратилась в месиво. Шел по обочине, перешагивая через металлические обломки совхозных тракторов, комбайнов и сноповязалок. Справа по ходу, через два заброшенных дома сквозь утреннюю дымку вырисовывались контуру целого гусеничного трактора.
Когда-то он принадлежал еще одному деревенскому фермеру Александру Карловичу Евстигнееву. Да Александр Карлович окончательно спился. Однажды, когда нечем было опохмелиться, он завел свой трактор и поехал в район продавать его за ящик водки. Вернулся опять же на тракторе и совсем трезвый. Пошел на речку и утопился. Зачем, почему никто не знает, а трактор с тех пор так и стоит на дороге, как памятник Овсюкову.
Дом лесника Вальки, почти сплошь покрытый рубероидом, находился на краю деревни, так что идти до него, нужно было минут пятнадцать. Федор прибавил шагу. Еще издалека он увидел, что возле своего дома, на совесть срубленного еще до Февральской революции, стоит баба Настя. В чистом ситцевом платочке, в синем шелковом платье, а ни как всегда в телогрейке и прожженном переднике.
Праздник что ли сегодня какой церковный? – подумал Арбузов, а подойдя ближе спросил:
– Ты чего вырядилась, Ильинична как Нона Мордюкова, помирать, что ли собралась?
Старушка не обиделась на Арбузова.
– Здравствуй, Федор, хоть бы и помирать, тебе завидно, что ли?
– Чему ж тут завидовать? Это я так, пошутил неудачно, извини.
– Молодой ты еще, не понимаешь, что самое главное в жизни – это смерть. Самая сладкая, можно сказать, ягода. Люди боятся не смерти, а неизвестности.
– А ты, значит, неизвестности не боишься.
– Старая я чтобы чего-нибудь боятся. Впрочем, вот боюсь после себя ничего хорошего и доброго не оставить.
– Чего ты, баба Настя, с утра да за упокой, живи еще сто лет, кому мешаешь?
Баба Настя ничего не ответила.
– К Вальке опохмеляться идешь? – в свою очередь спросила она.
Федор кивнул.
– Зайди-ка лучше ко мне на пару минут. Я тебя сама опохмелю.
– В честь чегой-то? – изумился Федор, зная, что выпросить у бабки бутылку самогона все равно, что у черта кочергу. Не из-за жадности не давала. Пьяных не любила. Хотя, себе по праздникам позволяла.
– Пойдем, не бойся.
Старушка провела Федора через высокие, тщательно выметенные сени, посадила у окна в комнате в удобное деревянное кресло. Достала из шкафа графин с прозрачной самогонкой, граненый стакан, принесла сала, черного хлеба, соленых огурцов.
Подождала, пока Федор выпьет, затянула потуже узелок на ситцевом платочке, молча вышла из комнаты.
Вернулась с деревянным, обитым просеченным железом теремком. Было заметно, что он ровесник, если не старше самой хозяйки. Видимо, она хранила в нем нечто важное.
Вынув из ларчика какой-то желтый конверт, бабка протянула его Федору. Удивленный Арбузов достал из конверта сложенный вчетверо такой же желтый от времени листок, исписанный вдоль и поперек мелким, неровным почерком. На верху страницы прочитал:
«Лично тов. Сталину! Лично всем Великим вождям Советского государства! От участника финской войны, Великого сражения с гитлеровскими захватчиками в Великую Отечественную войну, орденоносца, заслуженного тракториста совхоза „Красный путь“ Глянцева Озналена Петровича».
Захмелевший от крепкого бабкиного самогона, Федор разомлел, неровные буквы расплывались на бумаге. Взглянул в выцветшие, но удивительно живые глаза бабы Насти.
– Какое-то письмо твоего мужа, – сообразил он. – Мне оно зачем?
– Читай дальше! – приказала так грозно старушка, что Федор испугался.
Письмо
3 ноября 1952-го года, Тверь, областной отдел МГБ.
Начальник областного управления Министерства государственной безопасности Семен Ильич Пилюгин сидел в своем просторном кабинете и вот уже минут пять разминал пальцами правую коленную чашечку. Боль, подступившая утром, все не проходила, а за последний час усилилась.
На душе было тяжело, противно. Полковник не связывал это с болью и пытался понять от чего. Однако к единому выводу прийти не мог.
То ли мокрый липкий снег, похожий на вату из зэковских телогреек, валивший за окном и тут же таявший на стеклах, раздражал пятидесятитрехлетнего Семена Ильича, то ли окончательно надоела некрасивая, толстая жена, с которой нельзя развестись, черт его знает. Вообще, многое полковнику надоело. Особенно враги народа – троцкисты, зиновьевцы, контрреволюционеры – предатели, изменники Родины, с которыми уже десятки лет Семен Ильич вел беспощадную борьбу.
И чего им неймется, часто думал Пилюгин, ведь все им дает советская власть, а они, как пауки ядовитые, тарантулы никак не угомонятся. Да, видно, суть такая у них паучья и ничего с собой поделать не могут. Обязательно надо ядом брызнуть, отравить жизнь окружающим. И несть этим паукам числа. Одних сжигаем революционным огнем, другие сразу на их место встают. И не сразу врага определишь. Умело маскируют свои паучьи лапы. Но полковника Пилюгина никто не проведет, всех насквозь, как рентгеном видит.
Полковник взял в руки письмо, которое утром адъютант положил ему с почтой. Бросил взгляд на неровные, мелкие строчки письма и сразу понял – пишет враг. И ладно бы ему написал, а то ведь Иосифу Виссарионовичу.
«Лично тов. Сталину! Лично всем Великим вождям Советского государства! От участника финской войны… как в высшей степени человек сознательный и преданный вам на веки вечные, а так же всему нашему рабоче-крестьянскому государству, не могу не сообщить, что мне случайно стало известно древнее средство от тяжелого похмелья…»
Ну, не паук а? По мнению этого проходимца, как его…. Озналена Глянцева, страной Советов управляют пьяницы и опустившиеся личности. Причем руководят такими же спившимися рабочими и крестьянами. Ага, вот дальше.
«Возьмите одну двадцатую часть ведра волчьих ягод, три фунта, два золотника молодых сушеных мухоморов…»
Вот ведь, вражина, волчьих ягод товарищу Сталину предлагает поесть. Открыто издевается. Террорист, ясное дело, белогвардейский недобиток.
Пилюгин взял красный карандаш и на верху, по диагонали, скорым почерком написал: «Срочно! Доставить в отдел для выяснения личности».
Дальнейшая судьба террориста, в общем-то, была ясна. В тверской области Пилюгин – господь бог. От него еще никто не уходил. А этот-то сам, можно сказать, попался. Совсем обнаглели. Ну, ничего, побеседуем с этим любителем сушеных мухоморов.
Теперь у полковника заныла левая коленка. Ему очень захотелось, чтобы сейчас пред ним оказался этот глупый террорист. Он бы дал волю чувствам. Первым делом – сдавить снизу пальцами глазные яблоки, завоет как волк, потом по копчику сапогом, а под нижнее ребро-карандаш. Пилюгин отчетливо представил себе картину истязания, и ему стало немного легче.
Скорее всего, этот отравитель-террорист действует не один. Хотя, может быть и просто идиот этот Ознален из деревни…. Старые Миголощи. Стоп!»
Семену Ильичу показалось, что за окном ударила молния и попала ему прямо в висок. Ознален Глянцев, уж не тот ли это Глянцев? Да как же не тот! Из деревни Старые Миголощи, сам же пишет. Значит, муж Анастасии Налимовой».
Памятью полковник обладал профессиональной и никогда ничего не забывал.
Давно это было, в марте восемнадцатого. От фабзавкома его послали старшим продотряда в Старые Миголощи. С какими-то китайцами. Тогда часто отправляли по деревням инородцев. Русские-то отказывались грабить своих. Пилюгин хоть и был русским, но согласился. Все равно терять было нечего. Один на свете, как сыч, ни кола, ни двора.
Налимовы имели самое крепкое хозяйство в Старых Миголощах. У них-то и надеялись фабзавкомовцы отобрать больше всего хлеба. А когда пришли на двор увидели возле дома молоденькую девушку. Была она в каком-то полубезумном состоянии. На вопросы не отвечала, и все бубнила что-то себе под нос. Спросили где хлеб, а она пошла в дом, легла на кровать и с головой накрылась одеялом.
Местные жители рассказали продотрядчикам, что два дня назад у девушки погибла вся семья. Мать, отец, братья и еще кто-то из ее родственников, на двух санях отправились по льду через Медведицу в церковь. Праздник, что ли какой был. А зима стояла теплая. Целое семейство под лед и провалилось. Никто не спасся.
Хлеб у сироты Налимовой все равно выгребли почти весь. Но Настя очень понравилась Семену Пилюгину. По поздней весне, опять в качестве старшего продотряда, он в другой раз приехал в Старые Миголощи. В дом Налимовой приказал своим архаровцам не заходить. Сам вечером постучал в окно. Девушка была уже в нормальном состоянии. Семен как мог, утешил сироту. Сначала накормил городскими сладостями, а потом, опрокинул на постель. Настя не сопротивлялась, более того, привязалась к нему.
По собственной воле приехала к Пилюгину в Тверь. И они, до отправки Семена на фронт, жили вместе в конфискованной у буржуев квартире на окраине города.
А потом… Что потом. После гражданской войны еще года три Пилюгин где-то бродил по белу свету, а когда вернулся в Россию и приехал в Тверь, в их квартире уже жили латыши. Помчался в Старые Миголощи и увидел возле избы Анастасии какого-то мужика.
Поздоровались. Мужик назвался Озналеном. Тогда часто брали себе подобные имена. Ознален – то есть осененный знаменем Ленина. Выяснилось, что он муж Насти. Живут они вместе уже несколько лет. Фамилии сохранили свои, так захотела Настя. Она – Налимова, он – Глянцев. Обидно, конечно, сделалось, но особо уж Пилюгин переживать не стал.
Ждать Анастасия его, в общем-то, не обещала, а он и не любил ее никогда по-настоящему. Так, приехал, потому что к кому-то надо было приехать.
Настя ушла с бабами по ягоды. Семен назвался дальним ее родственником. Выпил с Озналеном самогонки, врезал от всей красноармейской души осененному знаменем Ленина по морде и уехал в город. На следующий день, со злости, что ли на весь мир, устроился на работу в ОГПУ.
Много воды с тех пор утекло. Не раз накрывало Семена с головой, но он всегда выплывал каким-то чудом на поверхность. Пилюгина не только не расстреляли в конце 30-х, как многих его коллег, но даже ни разу не объявляли серьезного взыскания.
Вот, значит, чем ты теперь, осененный знаменем, занимаешься, зло подумал полковник, до терроризма докатился. Вновь взял в руки письмо, продолжил читать.
«…Возьмите одну двадцатую часть ведра волчьих ягод, три фунта и два золотника молодых сушеных мухоморов, столько же толченых корней белой лилии и папоротника. Потом нарвите цветов и плодов боярышника, зеленую бруснику, и залейте все это кипящим лосиным молоком. После того, как это месиво забродит, в него нужно опустить траву „заряйку“ и настаивать две недели. Да вот вся проблема, мои глубокоуважаемые вожди, в этой травке. Где она растет, никто не знает. Но есть к этому замочку у меня ключик. Нужно разрыть могилу одного отшельника, которая находится где-то в бывшем Ильинском монастыре, сейчас там вроде как психбольница. По моим сведениям, именно этот отшельник и хранит в себе тайну, где и когда следует собирать травку заряйку. Доказательством сему является древний документ, который я нашел в подполе собственного дома. А потому прошу вас прислать ко мне академиков и профессоров исторических наук, чтобы мы вместе обнаружили в психбольнице место погребения отшельника и раскрыли эту важную для государства тайну. Меня одного в психиатрическую лечебницу, без особых полномочий, не пустят».
Полковник Пилюгин бросил на стол письмо.
Пустят тебя одного в психбольницу и без всяких полномочий, пустят, подумал он, гарантирую, только что же ты там у себя в подполе откопал, Ознален Петрович? Чего-то и в самом деле нашел.
В своей резолюции на письме несколько раз подчеркнул слово «срочно». Возможно, свихнулся человек, а, может, и нет. Дом Налимовых старый, чуть ли не до нашествия Наполеона ставили. А на его фундаменте, поди, еще до этого что-то было. Черт его знает, что там, в старой кладке отыскать можно. К тому же Налимовы – древний московский боярский род. Не понятно, как они вообще попали в такую глухомань. Эх, Настя, давно бы тебе на Соловках отдыхать со своей голубой кровью, если бы не полковник Пилюгин. Отводил я от тебя прицелы.
Колени ныли не переставая. Пилюгин сравнил себя с прокуратором Иудеи из романа Булгакова, у которого нестерпимо болела голова. Конфискованную у врага народа книгу полковник прочитал за одну ночь. После долго удивлялся, почему этого Булгакова в свое время не расстреляли, ведь явная антисоветчина. Прокуратору помог Христос, а кто поможет мне? Ознален Петрович…
Убрал письмо в нижний ящик стола. Затем написал что-то на чистом листе бумаги, кнопкой вызвал своего адъютанта капитана Евстигнеева. Когда тот, щелкнув каблуками, застыл перед столом начальника, Пилюгин протянул ему записку.
– Возьми несколько ребят и съезди по этому адресу. Доставишь ко мне некого гражданина Глянцева. Впрочем, нет, в управление не надо, лучше сразу в изолятор, в отдельную камеру. Этот Глянцев, возможно, руководитель одной из контрреволюционных террористических групп. С ним я лично буду работать. Разрешаю его немного попарить, но аккуратно, только для острастки, чтобы завтра утром он мог говорить, а главное соображать. В доме обыск проводить не нужно. Жену не трогать. Все ясно?
– Так точно!
Неожиданное явление
Наскоро пробежав глазами письмо, Федор вернул его Ильиничне.
– Никак в толк не возьму. Причем здесь волчьи ягоды, лосиное молоко, отшельник Иорадион, похмелье…
– Это черновик письма. Того самого, что Озналенчик отправил в 52-м году в Кремль. Мне он о нем ничего не говорил. Когда за Озналенчиком приехали, радовался как ребенок. Чекисты в штатском его в бока толкают, мол, пошевеливайся, а он все смеется и твердит как попугай, что теперь страна по-новому заживет. Видно, говорит, письмо мое лично до товарища Сталина дошло, а так как он человек необычайного ума, то сразу сообразил, какая от моей находки польза вырисовывается. Рубашку белую надел, пиджак новый, галстук в горошек повязал, как у Ленина. Поцеловал меня на прощание, и из дома, не оглядываясь, выскочил. Уже с берега крикнул: «Обо мне скоро в газетах напечатают. Гордиться своим мужем будешь!» Так и исчез, сердечный, навсегда, будто в Медведицу канул. На следующий день, в сарае, я случайно этот черновик нашла. И мне все стало ясно. Куда я только не писала запросы! И в районную прокуратуру, и в областную. Все тюрьмы, какие можно объездила. На Лубянку пыталась пробиться, не пустили. Пропал человек, и все.
Баба Настя перевела дух, налила себе в рюмку немного водки, пригубила.
– После 20-го съезда партии получаю я письмо на бланке. Так, мол, и так, ваш муж… и тому подобное, с ноября 1952-го, по март 1953-го г.г. содержался на принудительном лечении, по направлению МГБ СССР, в психиатрической клинике №…, скончался в марте 53-го года от сердечной недостаточности. Похоронен на местном кладбище в общей могиле. Словом, упекли моего муженька за то неосторожное письмо в дурдом, где он и помер.
– Да, времена были, – вздохнул разомлевший от самогонки Федор, – не то, что ныне – чего хочешь делай, куда хочешь иди. Хочешь, целое стадо держи, хочешь одного быка племенного. Свобода!
– Обожди ты со своим быком. Я ведь тебя пригласила не про глупости всякие говорить.
– Молчу, Ильинична, молчу.
– Озналенчика упекли именно в ту психбольницу, о которой он Сталину писал. Ну, в бывший Ильинский монастырь, где якобы отшельник похоронен.
– До Ильинской психушки отсюда рукой подать, вот и пристроили Озналена Петровича, что называется, по месту жительства.
Баба Настя подтянула узелок платка, пожевала губами:
– В те годы людей угоняли как можно дальше от родных краев, а тут на тебе – оказался возле дома. Если бы Озналенчик действительно был сумасшедшим, тогда понятно, а так…
– Прости, Анастасия Ильинична, – неожиданно назвал Арбузов соседку по имени отчеству, – он ведь мог тронуться умом и во время следствия.
– Да, послушаешь сейчас по телевизору, что в сталинских застенках творилось, сама умом тронешься. Хуже гестаповцев пытали. Свои же, своих! Но до ареста он был совершенно нормальным. И пил в меру, не то, что вы нехристи. Разве что, в последнее время глаза у него горели и впрямь как у помешанного. Часами в подполе копошился, камни какие-то ворочал. А однажды пропал на три дня. На охоту, говорит, пойду, а у самого ружья-то никогда не было. Не любил по живому стрелять. Вернулся весь грязный, с каким-то мешком. Сказал, что на Гадючьем острове охотился. Боже упаси, да туда ни один православный носу не кажет. Какая там охота? Еще мой отец говорил, что место там пропащее, проклятое. Лишь после того, как я нашла черновик письма, поняла, от чего он был таким возбужденным. И еще. Во время ареста Озналенчика, обыска в доме не проводили, что меня удивило, я же опытная в этом деле была. А через три дня на моторке приплыл один из тех, кто его забирал. Кстати, чем-то на нашего Евстигнеева, царство ему небесное, был похож. Сунул мне под нос удостоверение, как будто я его лицо позабыла, и полез в подвал. Долго там копался, а потом стал расспрашивать – не видела ли я чего-нибудь необычного у мужа, сама не находила ли чего. И все время матерился. То по-нашему, по-русски, то вроде как по-немецки. Покойник Евстигнеев так же ругался. Чекист ничего не нашел. Хмурый он уехал, недовольный, даже до свиданья не сказал. И не мог он ничего найти. Потому что железный ящик с ларчиком я еще десятого дня на ближнем болоте схоронила.
– С ларчиком? Так это за ним чекист приезжал? – кивнул Федор на бабкин теремок.
– За тем, что в нем хранилось.
Анастасия Ильинична распахнула крышку теремка, достала из него продолговатый сверток. Начала не торопясь разворачивать. Сначала сняла восковую бумагу, затем фольгу. Арбузов увидел два свитка и широкий, ровный кусок бересты, исписанный бледно-желтыми чернилами. Первый свиток был из тонкой желтой кожи, другой из пергамента.
Аккуратно подцепив указательными пальцами края кожаной трубки, Анастасия положила ее перед Федором.
– Это завещание некого отшельника Иорадиона, составленное им в пятнадцатом веке. На какой-то особенной коже написана – сколько веков прошло, а кожа мягкая как шелк. Об этой найденной в подполе рукописи и сообщил Озналенчик Сталину. Только рукопись не разберешь без этих листов. Их Озналенчик спрятал в двойном дне железного короба из-под инструмента. Я о нем знала и на всякий случай проверила.
Ильинична разгладила на столе морщинистыми ладонями три пергаментные страницы. Надела очки и поднесла одну из них почти к самому носу.
– Кажется, здесь начало. Даже в очках уже почти не вижу. На этих трех листах, как я поняла, переписана кожаная грамота или завещание отшельника, но понятными, современными буквами и словами. Я как-то начала во всем этом разбираться, да махнула рукой. Не для моего ума это дело. Ты смышленый, в армии служил, поймешь.
На стене, прямо над головой бабы Насти, громко тикали ходики. Часы были сделаны в виде сказочной избушки. Внезапно в часах что-то щелкнуло, и из дверки выскочила кукушка, закуковала. Механическая птица не подавала голос уже лет двадцать, но каждый час своим появлением напоминала хозяйке о скоротечности времени.
Анастасия Ильинична достала из комода тряпочку, протерла циферблат.
– Мы с кукушечкой ровесницы, – вздохнула бабка, – мой батюшка Илья Филиппович, привез эти часы из города, когда мне было три месяца. С тех пор и тикают на этой стеночке. Ни разу не чинили. Однако скоро на покой и мне и подружке-кукшке. Об одном жалею – не дал мне бог детей, пустая я с рождения.
Промокнув кончиком ситцевого платка навернувшиеся слезы, бабка внимательно посмотрела на Федора.
– Этот дом, Федор Иванович, я на тебя переписала. Не было у меня более сердечной подруги, чем твоя мать, да и ты парень хороший, только пьешь много. Возьми эти грамотки и береги их пуще быка своего ненаглядного. Никому не отдавай. Может, когда и пригодятся. А теперь мне нужно отдохнуть. И не ходи к Вальке, ну его, не нравится он мне, лучше я тебе сама еще самогона налью.
Федор вышел на свежий воздух с большой обувной коробкой, в которую Ильинична положила теремок. На душе было легко и беззаботно. Бабкины рассказы хоть и заинтересовали фермерскую душу, но обдумывать их сейчас у него не было никакого желания.
К леснику Вальке Арбузов сразу не пошел, решил посидеть у реки.
Медведица уже не дышала туманом, а открытая до самого горизонта вода, мягко переливалась оловянными волнами на ярком утреннем солнце.
Парень прилег на берегу под березой, стал смотреть вдаль. Рядом, на кривой сосне громко выясняли отношения вороны, мешая погрузиться в сладостное и бездумное созерцание природы. Пришлось запустить в них камнем. Неугомонные птицы нехотя вспорхнули, полетели ругаться в другое место.
На противоположном берегу, за лесом, уже неделю киношники пытались запустить в небо большой красный воздушный шар, чтобы сверху снять на пленку эти удивительные, почти нетронутые цивилизацией места. Но у них чего-то не получалось. Шар на несколько минут поднимался над березово-сосновой чащей, а затем камнем падал вниз. Река далеко и отчетливо разносила непечатную брань съемочной группы, которая не хотела мириться с неудачей. Вот и сейчас, похожий на спелую помидорину шар, дергался над макушками деревьев и никак не желал подниматься выше.
А чуть правее шара, виднелись бескрестые, поросшие зеленью купола соборов Ильинского монастыря.
– Федор Иванович Арбузов? – раздался сзади до боли знакомый голос.
Приподнялся на локтях, повернул голову и увидел высокого седого мужчину в роговых очках, с тяжелыми диоптрическими линзами. Человек был в длинном светлом плаще, хотя уже второй день немилосердно пекло солнце. На плече незнакомца висела большая зеленая спортивная сумка.
– Не узнаете? – мужчина обошел Федора, ступил на прибрежный песок. Прозрачная речная водица намочила его замшевые штиблеты. – Моя фамилия Пилюгин. Владимир Семенович, бывший начальник особого отдела войсковой части, в которой вы служили. Я Пилюля, помните?
Новые обстоятельства
Еще не было шести утра, когда полковник Пилюгин вошел в одиночную камеру областного изолятора №3. Обычно в «тройке» содержали особо опасных государственных преступников, поэтому бывать здесь Семену Ильичу приходилось часто. Но сегодня, перешагнув порог этой бетонной, многоярусной клетки, он внимательно огляделся, будто попал сюда в первый раз.
Все показалось почему-то незнакомым – и выщербленные стены с белыми подтеками, и неструганные деревянные нары в камерах, и даже запах, тоже показался незнакомым. Этот запах, который не перепутаешь ни с чем, запах концентрированного человеческого пота и мертвых мышей. И еще что-то такое в нем неуловимое, приторное, чем-то похожее на аромат хозяйственного мыла. В совокупности, ароматы вызывали рвотные рефлексы и отчаяние.
Да, отчаяние может пахнуть, кивнул своим мыслям полковник Пилюгин. Отчаяние – спутник смерти, а смерть имеет вполне конкретный запах.
Семен Ильич вошел в одиночную камеру, где находился Ознален Глянцев, принял из рук сопровождавшего его старшины табуретку, устало опустился на нее. Глянцев лежал в углу камеры, свернувшись калачиком, тело его подрагивало. Полковник приложил кулак ко рту, закашлялся. Тяжело оторвав голову от бетонного пола, Ознален Петрович взглянул на Пилюгина.
Ребята Евстигнеева славно над ним поработали. Лицо заслуженного тракториста напоминало недожаренную котлету, из которой продолжал сочиться сок.
– Что за люди! – вздохнул полковник. – Ведь просил же аккуратно. Вы не поверите, товарищ Глянцев, но сотрудники этого скорбного заведения, совсем перестали слушаться начальство из областного управления безопасности, которое я в данный момент представляю. Творят, что хотят. Возомнили себя кастой неприкасаемых. В дружественной нам Индии эта каста, позвольте отметить, занимает низшее положение в социальной иерархии. Но это в Индии, до нее далеко. А что поделаешь? Приходится мириться. После войны мало кто хочет идти служить в тюрьмы, охранять врагов народа. Понятно, зазорно марать руки солдата – освободителя об отбросы советского общества. Но кому-то ведь нужно разгребать Авгиевы конюшни. Да, Гогенцоллерн в глотку, нужно. Конечно, Гераклу было проще, направил в стойло воды реки и все дерьмо, простите за выражение, разом смыло. А здесь день изо дня в нечистотах возишься.
Полковник МГБ почесал лоб, стал оттирать пальцами правую щеку, точно она у него была испачкана.
– По поводу нанесения вам телесных повреждений я проведу служебное расследование. – Полковник Пилюгин громыхнул кулаком по закрытой железной двери изолятора. С потолка посыпалась цементная крупа. – Виновные будут наказаны самым строгим образом. Да, Гогенцоллерн в глотку. Кстати, Ознален Петрович, а может быть, вы сами обо что-то ударились?
Тракторист испуганно, ничего не понимая, глядел на полковника красными от боли и слез немигающими глазами.
– Или, может быть, обидели чем-то охранников? Это только с виду они крепкие как скалы, а в душе ранимые и впечатлительные, как дети. Вы уж их простите, а я разберусь. Слово офицера. Говорить-то можете?
Глянцев покрутил взъерошенной головой, часто, с готовностью на все, закивал.
– Вот и хорошо! – обрадовался полковник. – Давайте побеседуем с вами откровенно. Я с детства не люблю загадок, недосказанностей, потому что они плоть от плоти обмана. А обманывать нехорошо, ведь верно? Да, Гогенцоллерн в глотку, вы ведь, Ознален Петрович, подозреваетесь в подготовке террористического акта в отношении руководителей нашей партии и государства. Причем не простого террористического акта, а особо изощренного, с применением отравляющих веществ.
Отчаянно замотав головой, Глянцев сквозь распухшие губы закричал:
– Нет! Нельзя так! Я никакого акта не готовил! Я безгранично предан делу партии и правительства. Я с именем Сталина до Варшавы дошел.
– А почему не до Берлина? – вскинул брови Пилюгин.
Внезапно обессилевший тракторист упал ничком на цементный пол и зарыдал.
– Эх, ха-ха, – Пилюгин подошел к Озналену Петровичу, помог ему подняться и сесть на нары. – Вот и вы о героическом прошлом. Да, вы герои. А мы кто, не бывшие на передовой и боровшиеся с внутренними врагами? Берлин-то взяли, но война все продолжается, только другая, классовая. Для вас теперь наступила мирная жизнь, а для нас вечный бой и покой нам только снится. Александр Блок, «На поле Куликовом». Но, каждому свое, так, кажется, писали на вратах концлагерей. До Варшавы вы дошли, прекрасно, но до чего вы докатились теперь? – полковник голоса не повышал, но в нем появились грозные нотки. – Как прикажете понимать ваше письмецо, отправленное лично товарищу Сталину и «всем великим вождям»? Вы предлагаете им набрать бочку волчьих ягод с мухоморами и все это съесть.
– Нет, это не так, поверьте, – всхлипнул несколько раз Глянцев, – я писал, что волчьи ягоды и мухоморы входят в древний рецепт от похмелья. Их нужно настаивать на лосином молоке с другими ягодами, а потом в полученную бражку добавить траву заряйку, но где эта заряйка растет, и что она собой представляет, я не знаю.
– А кто же знает? Ваши сообщники?